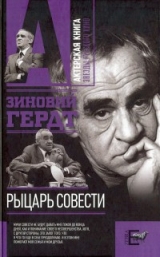
Текст книги "Рыцарь совести"
Автор книги: Зиновий Гердт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Прошло уже много лет, я работал в театре. Однажды вечером мне позвонили домой, поздравили с присвоением звания народного артиста, и я ничего не почувствовал, исчезла эта теплая волна крови – знак потрясения, память о войне. «Все, – решил я. – Реле сломалось». Но на следующий день я сидел на даче, пил кофе на веранде – открылась калитка, вошел Александр Трифонович Твардовский. Поздравил, поговорили, и он пошел, оставив на столе какой-то пакет. Мы окликнули Александра Трифоновича, а он ответил, что это нам, и ушел. Это была его пластинка с дарственной надписью – «дорогим друзьям». И снова та теплая волна поднялась во мне…
Помню, я лежал в госпитале, в отдельной комнатке. Я был «стеклянный больной». Положение было очень трудное – не было гипса, почти никаких лекарств, не хватало даже бинтов. Я просто лежал и боялся дышать. И вдруг я слышу: там, в большой солдатской палате, начинается концерт. Приехала театральная бригада. Поют песню какую-то. Что-то вроде «То ли в Омске, то ли в Томске, то ли в Туле – все равно…» Входит женщина-доктор и говорит: «Вам открыть дверь? Вы хотите послушать?» Я говорю: «Откройте». Концерт закончился. У меня был колокольчик, и я позвонил. Входит опять она же. Я спросил, откуда эти артисты. «Из Москвы». – «Пусть зайдут», – говорю. Они вошли. Я их всех знаю. Ну, почти всех. Александр Граве, теперь актер Театра Вахтангова, Лариса Пашкова, еще кто-то, и с ними – парень с баяном. Стоят, смотрят на меня. И я понимаю, что они меня не узнают. Я спрашиваю: «Откуда вы?» – «Из Москвы». – «Давно ли вы из Москвы?» – «Две недели». – «Как там, в Москве»? Они говорят: «Хотите, мы вам одному что-нибудь споем? Почитать что-нибудь можем…» Я отвечаю: «Не надо мне ничего читать. Хотя, может быть, вот это: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» Из Гомера. Было у нас в студии такое упражнение по технике речи. Тренировка дыхания. Кто-то из них продолжает: «Грозный, который ахеянам тысячу бедствий содеял…» И тут Пашкова понимает, что это я. И с криком «Зямка!» бросается ко мне. И я – потерял сознание. Ну, их сразу выгнали. Мне – инъекции какие-то… Потом они мне принесли целый котелок вареной картошки в мундире. Я тогда ничего не ел. А тут – отковырнул кусочек.
В госпиталях я пробыл до 1947 года – было это время тяжелое, требовавшее и физической выносливости, и мужества. И был особый госпитальный быт и свои шуточки, подчас жестокие и беспощадные, но это тоже была форма выживания, налаживания контакта с жизнью.
Война несла и боль утрат, и радость обретения подлинных друзей. Настоящим другом стал мне Иван Абрамович Огарков, до войны проректор Харьковского университета. Образованнейший, интеллигентнейший человек. Он один знал о моем актерском прошлом, нас многое сближало, и главным образом – стихи. И были у нас две подруги – Вера Веденина и Нина Рощина.
Мы с Огарковым мало разговаривали «про искусство». Но очень часто в блиндаже, в землянке читали друг другу стихи. Но не про войну. А вообще стихи. Я тогда увлекался французскими романтиками и сюрреалистами – потрясающая была книжка переводов Лившица. Он мне тоже читал что-то из того, чего я не знал, и это меня восхищало. И тогда к нам снова приехала какая-то театральная бригада. Снова «То ли в Омске, то ли в Томске…» Я почему-то именно это запомнил. Милые были молодые люди… А потом они разошлись по землянкам «пообщаться с вояками». И к нам пришли две девочки и парень. Было какое-то застолье. И они говорят: давайте мы вам почитаем что-нибудь. Ну, тогда самым популярным стихотворением было «Жди меня, и я вернусь». Одна из них прочла… Тут Иван Абрамович, ничтоже сумнящеся, тоже начинает читать. Баратынского, между прочим. Я тоже вспомнил про своих французов. Девочки совершенно опешили. Короче, провели они вечер с большой пользой для себя. Вместо того чтобы самим развлекаться, мы их развлекали. Был, конечно, определенный момент пижонства, хотелось показать, кто здесь воюет…
Как были важны тогда эти встречи! Они были не просто отдушиной. Они были, мне кажется, напоминанием о том, что жизнь, само время не остановлены войной. Они были свидетельством человеческой стойкости, свидетельством веры в Победу.
Однажды приехал к нам корреспондент газеты из штаба дивизии. Это был поэт Яков Шведов. У него было три «шпалы», а у меня – два «кубика», лейтенант. Мы виделись с ним буквально одну минуту. Нас познакомил Огарков, сказал, что есть тут актер из арбузовской студии. А теперь, через столько лет, где ни встречаемся, бросаемся друг к другу: «А ты помнишь!» И чувствуем, что нас связывает что-то грандиозное, что-то необыкновенно событийное, потому что мы встретились впервые именно тогда.
Годы войны – не только наша молодость. То, что мы причастны к этому событию, очень много значит, скажем, для нынешних взаимоотношений тех, кто был там. Когда ты узнаешь, что человек был на фронте, – все, у тебя уже совершенно иное к нему отношение. Я знаю нескольких артистов, которые там были. Они и просто замечательные артисты. Но от того, что они еще и воевавшие… конечно, для меня это важно. Например, я обожаю Папанова не только как мастера, но и за то, что он воевал. Я ужасно люблю Михаила Погоржельского за то, что он воевал. Я отношусь необыкновенно тепло к Евгению Веснику, потому что он воевал.
Я очень быстро привык к хромоте и совсем не замечаю этого своего недостатка. Только иногда, когда вижу себя во фронтальном зеркале, вдруг ударяет: «Боже, какой я хромой!» А так нет, и зрители, думаю, привыкли. Человек ведь ко всему привыкает…
А что касается старости… В последнее время в кругу своей семьи я сам о ней напоминаю: «Я старый. Что вы на меня кричите, что себе позволяете!» В других обстоятельствах я об этом не говорю. Незачем. Я человек не совсем здоровый, завишу от медицины. Но об этом никому особенно знать не нужно. У меня была подруга, покойная Рина Зеленая. Она перенесла столько телесных мук и никогда в жизни не говорила о своем самочувствии. Это неприлично.
По-настоящему талантливый человек, я убежден, может не только правильно говорить о войне, но и повернуть тему по-новому, что-то свое в нее внести, как-то по-особому ее ощутить.
Я знаю молодых людей, которые родились после войны, но трепетно относятся ко всему, что с ней связано, много работают в этом направлении. Делают спектакли, фильмы, и делают с каким-то особым проникновением. Как будто они сами все это пережили, и как будто срабатывает их собственная память. Да так и должно быть, ведь уходят люди, которые все это видели. Литература, проза наша доказала, что это великая тема. Не случайно очень много фильмов, спектаклей поставлено именно по прозаическим произведениям.
Кроме того, существует, вероятно, у какой-то части молодой творческой интеллигенции такое чувство, что «мы не застали! Вот если бы мы были там, насколько богаче был бы у нас арсенал, было бы нам что рассказать!..» И такое чувство, по-моему, – чувство очень хорошее, свидетельствующее об общности наших поколений.
Молодые поэты тоже пишут с большой долей этой зависти. Мне это напоминает то чувство к погибшим, которое так сильно проявлялось у Твардовского. У него есть строки, где он просто кричит об этом. Где он говорит своим товарищам, что не виноват, что он уцелел, а они погибли.
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далекой стороне
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно,
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.
И только здесь в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них,
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег…
Потрясающие стихи. Там все стихотворение об этом, но вот эта строка – «нам уже не числиться в потерях»! – вот это чувство необыкновенно, но оно есть. И меня это очень трогает.
Или, например, Высоцкий – у него война романтизирована, но с полным знанием дела. Человек, который никогда не воевал… Но у него был дар необыкновенно остро чувствовать чужую боль. Он смог чужую память сделать своей.
Возможно, этим объясняется и то, как Лариса Шепитько смогла сделать «Восхождение». Видимо, нужно просто знать, чувствовать людей. Потому что человек остается собой в любой ситуации. Хороший – остается хорошим. Плохой – делается еще хуже. В этом и есть суть человеческих взаимоотношений на войне.
Театр. Начало
Я пришел в театр без отроческой «упертости», что непременно буду актером. Просто однажды в нашей школе появился учитель словесности Павел Афанасьевич – странный, очень чудной человек, таких людей тогда называли «не от мира сего». Он не понимал, как выглядит со стороны, во что одет, что ест. Абсолютный бессребреник. Знаете частушку: «Полюбила педагога, денег нет – тетрадей много»? Он был духовен весь, без остатка. Ничто не пристегивало его к практической жизни. Им владела одна идея – вложить чувство художественности в души своих учеников. Ему казалось, что все сидящие перед ним дети – гении. У всех учеников он предполагал необыкновенные таланты. Много лет спустя я прочел такие строки – совсем про другого учителя, в другое время и в другой стране жившего: «Этот сумасшедший учитель считал меня умнее, чем я был на самом деле, так что мне и приходилось быть умнее. Он не заставлял меня чувствовать себя болваном. Если мне не давался предмет, он видел во мне человеческую личность, а не судил по отметкам. Когда кто-нибудь опаздывал, он исходил из того, что опоздание вызвано уважительными причинами, о которых незачем спрашивать». Прочитал и подумал: а ведь это про него, про нашего Павла Афанасьевича, написано. Я узнаю его с его упорной оптимистической гипотезой, которую, наверное, можно считать признаком большого учительского таланта.
Он заразил меня вечной страстью к русским стихам, которых в моей памяти роится видимо-невидимо. Ни дня, ни минуты не живу, чтобы во мне не крутились строчки.
После семилетней школы я пошел учиться в ФЗУ на слесаря, и это было совершенно естественно. Сестра два института закончила, папы уже не было, мама была домохозяйкой и ничего в новой жизни не понимала. Пришлось разбираться самому. В фабрично-заводское училище поступить тогда считалось престижным – тем более в училище при заводе им. Куйбышева, который первым выполнил первую пятилетку за два с половиной года. Я даже метрику подделал, чтобы наверняка приняли.
Мы верили в лозунги. Сказал Сталин: «Индустриализация всей страны» – значит, так надо.
Вперед – и никаких сомнений. Три года учился и с дипломом слесаря-электрика пришел на Метрострой. Копать и бурить не довелось, но электроподстанции монтировал классно. Садился в трамвай перемазанным, специально не мылся после смены. Гордился – рабочий мальчик. И в театр-студию приходил таким – руки в мозолях и мазуте, под ногтями черно. Я ничуть не жалел о своем выборе. Это была романтика: вставать в шесть утра, спускаться в тоннель. А потом, на Метрострое мне чрезвычайно нравилось потому, что давали спецкарточки на питание. Совершенно необычная это была карточка – красная полоса по диагонали, и над ней черным по белому: «Ударная круглосуточная сквозная». Звучит!
Работали в три смены. По такой карточке меня обслуживали в любое время суток на любом участке. И меню было особое, в нем даже мясо иногда присутствовало. Тогда ведь все вкалывали за жидкую похлебку, пустые щи, перловую кашу с вареной воблой. Для нас это было вполне хорошим обедом. Сейчас у меня щи уже более основательные, перловка – только в грибной суп, а вареную воблу я уже давно не ел. Еще работал осветителем – делал фонари из больших жестяных полуметровых банок из-под монпансье. Вырезал днище, вставлял лампочку – и фонарь готов.
В те годы при всех больших предприятиях, в том числе и при электрозаводе им. Куйбышева, существовали не драмкружки, не студии, а театры рабочей молодежи. На заводе я увидел объявление: «Приходи к нам в ТРАМ» и последовал призыву исключительно из детского любопытства – мне было пятнадцать лет, и я вовсе не стремился стать актером. Меня спросили, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения, а я знал, и меня приняли. В ту же пору в этот ТРАМ электриков пришли два совершенно взрослых, на наш взгляд – отживающих почти, тридцатилетних человека: Валентин Николаевич Плучек и Алексей Николаевич Арбузов. Вот с этого все и началось.
Валя был брюнет необыкновенного темперамента. Голову всегда держал гордо. Он был учеником великого Мейерхольда, а Мейерхольд всегда держал голову именно так и всех своих учеников приучил. Валя поразительно двигался, плясал чечетку не хуже американского негра. Страстно читал Маяковского. Потом, став народным артистом Советского Союза Валентином Николаевичем Плучеком, чечетку он уже не плясал, но голову всегда держал с тем же достоинством.
Валя привел с собой Алешу Арбузова, своего друга из Ленинграда. Алеша пробовал себя в драматургии, сочинил свою первую лирическую комедию «Мечталия». Алеша совершенно не походил на Валю. Валя – пружинистый, энергичный. Алеша – мягкий, как… Представьте себе шашлык, из которого вынули шампур. Алеша носил бороду. Тогда это было редкостью. Потом Алеша сочинил еще две лирические комедии, и обе мы сыграли – и Островского, и Бомарше. Но за это время я успел выучиться слесарному делу и пошел работать. Было уже не до игр, однако мы больше никогда не теряли друг друга из виду.
В 1938-м вновь сошлись с Плучеком и Арбузовым. Нас объединила дерзкая идея коллективно написать пьесу на самую актуальную тему. И мы сочинили пьесу «Город на заре» – о строительстве Комсомольска-на-Амуре. Каждый день после работы мы собирались в физкультурном зале старинной московской школы (она до сих пор стоит напротив консерватории) и до глубокой ночи сначала сочиняли, потом репетировали. Девятиклассник Сева Багрицкий, будущий поэт, который погиб в самом начале войны, Исай Кузнецов, известный драматург и критик, Аня Богачева, Петя Дроздов, впоследствии заслуженный артист республики… Словом, собралась большая компания молодых, веселых, талантливых людей, и нам было интересно работать вместе.
В конце 1940-го спектакль был готов. И это была сенсация! Нас признали, студия получила статус государственной. Мы бросили слесарное дело и стали профессиональными актерами. Нам дали клуб в Каретном переулке.
Прекрасно помню премьеру. Лютая предвоенная зима. Я видел много шумных театральных событий, у нас и не у нас. Но ничто не может сравниться по энтузиазму публики с той нашей премьерой! В первый вечер людской напор вышиб входные двери. Их приладили, но назавтра их вышибли еще основательнее – вместе с дверной коробкой. Никакие гардеробы не могли справиться. Люди швыряли пальто и шубы прямо на пол, в кучу. Дубленок не было, и жизнь была очень интересной.
Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я.
От нашего спектакля «Город на заре» остались противоречивые воспоминания. Мне сегодня кажется, что пьеса была по-юношески прямолинейна. С другой стороны, эти три студийных года плюс война – вот две главные школы моей жизни.
Что же обеспечило успех нашего спектакля? Прежде всего – опыт его коллективного создания. Каждый из нас придумал для себя роль, сочинил характер, линию поведения. Потом была организована литературная бригада во главе с Алексеем Николаевичем Арбузовым, и в маленькой комнатке драматурга Александра Гладкова мы собирались и пытались из всего этого материала сделать нечто цельное.
Тема пьесы – строительство Комсомольска, подвиг, будни и праздники героев пятилетки – была близка молодым студийцам. Название ее символично: молод был не только город, но и его строители были на заре жизни, как, впрочем, и сами актеры. В лирико-романтическом, внебытовом по тональности спектакле молодежь 30-х годов восставала как против обыденной приземленности, так и против выспренности, нарочитой возвышенности, ходульности.
В доме, где я тогда жил, поселился и поэт Михаил Львовский, с которым мы дружны до сих пор. Он привлек в студию своих товарищей, студентов Литературного института Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого. Все они стали нашими, как мы их в шутку называли, «опричниками». Приносили к нам новые стихи, еще даже не читанные в институте.
В нашу студию приходили многие известные мастера культуры – например, Константин Паустовский. А однажды мы поехали в гости к Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Сейчас, вспоминая, я твердо могу сказать, что за всю жизнь я не получил столько, сколько за те три первых студийных года. Там не было умыслов, только помыслы. Мы жили единым братством. Все, кто присутствовал при зарождении нашей студии, все-таки и сегодня остались несколько иными людьми. Они хранят в душе что-то особенное – это как гены, как нечто врожденное.
После ранения я был нехорошо разбит, лежал в госпитале в Новосибирске и понимал, что с театром покончено. Одиннадцать операций. И хромота на всю жизнь. Сначала для меня это было страшной трагедией. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра. Но как-то я увидел выступление перед ранеными кукольной труппы Образцова. Причем обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, я пришел к Сергею Владимировичу, состоялся просмотр, я долго, очень долго читал стихи, не понимая зачем, а меня все просили: читай, читай… И вот с 1945 года я служил там. Куклы долго разговаривали моим голосом – у Образцова я проработал 36 лет. Это были очень непростые, интересные годы. Со многим я был не согласен, многое не принимал в этом человеке. Но и сейчас я не могу не восхищаться его талантом, его человеческой сущностью.
В театре было все – интриги, несправедливости, любимчики. Все как везде. Но что особенно отличало Образцова – аллергия на любые проявления национализма. Сколько прекрасных поступков совершил этот человек в те жуткие годы… Как-то (в период борьбы с космополитами) в театр пришел приказ из министерства – сократить четырех человек в оркестре. Образцов собрал худсовет, обрисовал ситуацию и говорит: предлагаю сократить Иванова, Петрова, Сидорова и Новикова (фамилии я точно не помню).
А это лучшие музыканты! Я вскричал: «Сергей Владимирович, в своем ли вы уме?! Давайте сократим Гомберга, Файнберга, Цыперовича… Это слабые музыканты, оркестр с их уходом ничего не потеряет!» Образцов побелел и сухо произнес: «Товарищи, совсем забыл, мне надо срочно переговорить наедине с Зиновием Ефимовичем». А затем набросился на меня, как барс: «Вы что, идиот? Вы не понимаете, что творится в стране?! Где Гомберг, Файнберг найдут работу, их семьи умрут с голода! А Иванова, Петрова с радостью возьмут в любой оркестр!» Вот так поступил истинный русский интеллигент.
В послевоенные годы был очень популярен жанр пародии. И появившийся в то время «Необыкновенный концерт» был тоже пародией, ставшей большим представлением. В нем я переиграл все мужские роли и одну женскую – солистки «цыганского хора Заполярной филармонии» Венеры Пуговкиной с ее оглушительным «контральто».
Но главной куклой, за которую все так полюбили «Необыкновенный концерт», был конферансье Эдуард Апломбов. Он выходил на сцену со словами «Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте!» Что рассказать об Апломбове? Прежде всего то, что эта уникальная кукла была создана прекрасным художником Валентином Андриевичем. Суть персонажа точно отражена на физиономии Апломбова. Главное место занимает огромный рот, который, кажется, и сделан для того, чтобы непрерывно извергать плоские остроты, пошлые фразочки, полные «железобетонного» юмора. Персонаж своими повадками очень походил на развязных конферансье-всезнаек, наводнявших эстраду тех лет.
Я всегда старался разнообразить свой текст, импровизировал по ходу спектакля. Помню, я нашел удачную форму подачи слов Апломбова, вещающего об артистах, которые «внесли вклад в сокровищницу мирового музыкального искусства», и приглашающего на сцену… чечеточников братьев Баклушиных. Прекрасный случай посмеяться над демагогами, любителями патетических фраз.
Но в чем Апломбов действительно разбирался, так это в иностранных языках. С «Необыкновенным концертом» мы выступали более чем в 30 странах, и в каждой стране он говорил на языке зрителей.
Актерам приходится «справляться» с иностранными языками довольно часто. Какие-то лингвистические способности у меня, наверное, есть, но не в них дело. Просто обычно я на несколько дней раньше театра приезжал в страну будущих гастролей и на местном материале писал репризы для своего героя. Три дня и три ночи я зубрил фразы. Мне кажется, что за 5 дней я бы мог выучить язык по-настоящему, а за 3 – только свой текст. Представьте себе 19 страниц японского текста, написанного русскими буквами. И все надо вызубрить наизусть. Произношение меня не особенно тревожило, оно прощается. После выступления японцы приходили ко мне за кулисы, чтобы запросто поболтать со мной: они думали, что я свободно владею японским. Они подходили по одному, улыбались, и кланялись, и все время что-то мне говорили. У меня не было другого выхода, как считать все комплиментами в мой адрес и отвечать «аригато» – по-японски «спасибо». Но потом я узнал, что японцы всегда улыбаются, что бы они ни говорили. Так что может и зря я твердил свое «аригато».
Кукла-конферансье – это большая вещь весом шесть килограммов. У нее крупная голова, туловище, руки. Я держал ее остов на специальном стержне, управлял ртом, поворотами, разговаривал ею. Мне попросту не хватало рук, чтобы конферансье еще и жестикулировал. Руками куклы «заведовала» артистка Нина Табакова.
Кукольником надо родиться, надо суметь сохранить в душе те искры, которые оживят кусок дерева, заставят зрителей поверить в чудо жизни куклы, сопереживать ей. Понимаете, можно научиться великолепно манипулировать нитками, прекрасно владеть голосом, а кукольником не быть. Здесь есть какая-то тайна, волшебство… Иногда мне удавалось достичь того, что меня самого не оставалось! Все, что было во мне, – не знаю, где это помещается, – каким-то образом перетекало в кусочек поролона, и он обретал некую душу.
И не смешил – смешить в кукольном театре очень просто, – а трогал. Да, он был способен тронуть сердце взрослого человека.
Мне очень нравится мой Адам в спектакле нашего театра Образцова «Божественная комедия». Он – мыслящий человек, которому еще ничего не известно об отношениях людей, он словно ребенок, который начинает знакомство с миром с нуля. И мне предстояло передать в этом первом человеке чувство полной первозданности. Никакой в нем приспособленности, хитрости. И ведь есть же такие простодушные, чудесные люди! Они, как сказал поэт, «до конца дней сырая прелесть мира».
Но как ни интересно мне было работать в кукольном театре, я всегда мечтал о драматической сцене, хотел сыграть трагическую роль. Меня угнетало, что во мне видели комика, а я по натуре совсем другой человек. Моя самая любимая роль – король Лир, которого я сыграл за кадром в фильме Козинцева. А потом Валерий Фокин пригласил меня в Театр им. Ермоловой. И это был новый виток судьбы, которая всегда ко мне благоволила.
Как и мне, Валерию было неприятно, что все воспринимают меня как комика. Он тогда ставил пьесу «Монумент» эстонского драматурга Яна Ветемаа и мне предложил вполне драматическую роль сильного, мощного человека, при всем моем тщедушии. Мне это было крайне интересно и увлекательно. Потом была роль в «Костюмере», где Валерий был главным режиссером. Он привез пьесу, ее перевела Померанцева, и мы убрали одну линию: костюмер любит актера чувственно. Мне это было неинтересно. Мне было интересно другое – как человек любит талант, служит таланту. Партнером моим был Всеволод Якут, замечательный актер. Мы были дружны лет сорок до этого. Но только по линии выпивки.
Мои учителя в искусстве? Прежде всего – русская и советская поэзия, затем – Плучек и Арбузов, в более позднее время – Твардовский. Хотя на всех хранящихся у меня его книгах имеются дарственные надписи и присутствуют слова «дорогому другу», я никогда не укорачивал существующую между нами дистанцию. Я смотрел на него как на нечто недосягаемое. Он очень сильно повлиял и на мою гражданско-нравственную позицию в жизни, на восприятие и оценку многих явлений в искусстве.
Лет с семнадцати моей душой владеет Борис Пастернак. И вот сколько уже прошло – считайте, полвека, а я все копаюсь, копаюсь и докапываюсь до хорошо известных мне ассоциаций, хочу найти сейчас когда-то бывшие во мне ощущения, случившиеся в юности, – о, какой это сладостный труд души! Я возлюбил заново Давида Самойлова – заново, потому что мы дружим с 1938 года, и я помню его самое начало, он уже тогда очень резко отличался от той прекрасной довоенной плеяды молодых московских поэтов. Что касается моей «второй волны» приятия его поэзии… Там все про меня. Пусть простит меня поэт, но я могу подписаться под каждой его строкой – это все про меня. Может быть, потому, что мы принадлежим к одному поколению, может быть, потому, что самым главным в жизни и у него, и у меня была Великая Отечественная. Самойлов выражает мою душевную жизнь в стихах. Это не означает, что я не люблю других поэтов, но без этих двоих не могу прожить практически ни дня.
Если говорить о потрясении театром, то первое и самое сильное потрясение я пережил на представлении «Пиковой дамы», поставленной Мейерхольдом в ленинградском Малом оперном театре. Было это, кажется, в 1935 году. Ленинградцы привезли «Пиковую даму» в Москву. Когда занавес опустился, зал разразился овацией. Тогда скандировать еще не умели, просто зрители хлопали и кричали: «Браво, Мейерхольд! Мейерхольд – гений!» И сам Мейерхольд тихо повторял про себя: «Браво, Мейерхольд! Браво, Мейерхольд!» Вероятно, не так часто Мейерхольд был настолько доволен своей работой, но в тот вечер он имел полное право говорить так.
Если речь идет о реформах в области театрального искусства, то Мейерхольд успел сделать ВСЕ. Все, что делают сегодняшние новаторы. Поверьте, я отношусь к ним безо всякого предубеждения, но все их открытия уже встречались у Мейерхольда. Структура сегодняшнего режиссерского театра сложилась тоже у него. В театре Мейерхольда было немного выдающихся актеров: Ильинский, Свердлин, Гарин, Мартинсон, Тяпкина… Зинаида Райх выдающейся актрисой не была, но Мастер делал с ней чудеса. Остальные – послушный воск в руках режиссера. Воск, из которого он лепил все, что хотел.
Сегодня режиссеры стремятся драматизировать оперу. Мейерхольд сделал это пятьдесят лет назад в «Пиковой даме». Это были великие драматические открытия. Не зря же люди говорят: «Новое – это хорошо забытое старое».
Актерство
Есть такое амплуа – благородный старик.
Только сейчас начинаю понимать суть актерского ремесла. Самое сложное – быть простым. Искренно простым, чтобы окружающие поверили в реальность образа. Простота дана ребенку от природы, а взрослому надо пройти жизненный круг, призвав на помощь опыт и талант, чтобы приблизиться к ней. Искусство может быть искренним, или его нет вовсе.
Из актеров образцом для меня всегда был Чарли Чаплин. Возьмите его героев – так сыграть можно только искренне сострадая и любя. Черты персонажа надо найти в себе, их нельзя взять откуда-то со стороны. Только тогда получится истинное. Ему удавалось смешить, смешить, смешить – и вдруг в одном кадре заставить заплакать. Ради этого стоит заниматься нашим ремеслом и класть на него жизнь.
Грустного интеллигента нужно играть обязательно с фаном внутри (fan (англ.) – веселье, развлечение, радость). В нем много смешного – оттого, что он наивен. Оттого, что бесхитростен. Не приспосабливается. Дитя. Это может быть безумно смешно.
Да, есть работы, в которых я в какой-то степени приближаюсь к высокой отметке, называемой «искусство». Нет, я неточно выразился, не приближаюсь, а хотя бы двигаюсь в этом направлении. Памятен спектакль «Бабель. По страницам произведений», поставленный на телевидении Никитой Тягуновым. Я люблю прозу Бабеля с юношества, очень чувствую его атмосферу, его манеру письма, меня в ней очень многое восхищает. Я вообще обожаю эту южную ветвь советской литературы – Багрицкий, Олеша, Бабель, никогда с ними не расставался, и вдруг мне представился случай сыграть в двух «Одесских рассказах» от лица Арье Лейба. Спектакль почти никто не видел, он шел в понедельник днем, но в этих постановках «Короля» и «Как это делалось в Одессе» было несколько мгновений, когда я с чистой совестью мог сказать себе: вот так это надо играть.
В этих двух телеспектаклях я не испытал горечи, в некоторых местах мог бы даже воскликнуть, прекрасно понимая, конечно, полную несопоставимость с гением: «Ай да Гердт, ай да сукин сын!» В общем, я себе понравился. Понравился и в спектакле «Костюмер» в Ермоловском. Обычно я сам себе не нравлюсь.
Очень важной была для меня роль Мефистофеля в телеспектакле, поставленном Михаилом Козаковым. Я стремился очеловечить Мефистофеля, ибо даже всесильному дьяволу нужен человек, чтобы полнее сознавать свое всесилие. Мое глубочайшее убеждение: плохих людей в чистом виде не бывает. Как и абсолютно хороших. Идеал без человеческих слабостей мне неинтересен. Да и никому, уверен, он не может быть интересен. Мефистофель – соблазнитель, совратитель, безжалостный злой дух, злой гений. И мне нужно было увидеть его страдающим. Очеловечить его. Мучительно я искал момент его сострадания. Но повторяю: достижений нет. Есть только устремления. Ведь как только я сочту какую-то свою работу достижением, я застыну в неподвижности, кончусь как профессионал. Помните слова Фауста:
Тогда вступает в силу наша сделка.
Тогда ты волен – я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка.
По мне раздастся похоронный звон.
До этого я пытался сделать «Фауста» в кукольном театре. Могло бы здорово получиться. Именно в кукольном театре. Увы, не состоялось. Считалось, что кукла должна только смешить. И хотя я уверен в обратном – куклы могут все воплотить ничуть не ниже, чем живые люди, даже выше – обобщеннее, отстраненнее.








