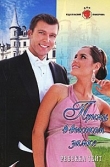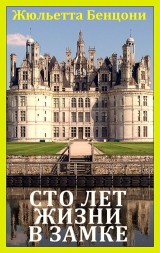
Текст книги "Сто лет жизни в замке"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Глава V
Девушки и юноши в расцвете лет
Невозможно осветить надлежащим образом жизнь молодежи в семейных замках, не рассказав перед этим, как она жила зимой в Париже.
В те времена в жизни ребенка, мальчика или девочки, из высшего общества было три неизбежных этапа: кормилица, няня и, в зависимости от пола ребенка, учительница или учитель.
Кормилица, приезжавшая из французской провинции, принимала младенца с момента его рождения, чтобы кормить его своим молоком, что не могли делать элегантные молодые дамы, наполовину задушенные безжалостными корсетами. В то время как горничные изо всех сил тянули их шнурки, кокетки держались за спинку кровати или за задвижку окна.
Главным образом в Бургундии, Оверни или Нормандии, когда молодая женщина становилась матерью, перед ней открывалась прибыльная карьера. Она покидала свою деревню, оставляя своего не отнятого от груди ребенка, кормилице, живущей в округе, или кормилице без молока, которая растила маленького крестьянина на коровьем или козьем молоке, а то и на похлебке.
Потом она приезжала в Париж, чтобы кормить своим молоком маленького аристократа или будущего миллионера. Эти женщины отказывались от семейной жизни и покидали своих мужей и детей, которых они видели примерно раз в два года, приезжая, чтобы снова родить ребенка. Иногда они оставались намного дольше, уже после того, как ребенок был отнят от груди, потому что к ним привязались, и наоборот. Но это было все же довольно редко. Можно привести пример кормилицы Луи де Брольи, бургундки из Монсоша, которая прожила десять лет рядом со своим «молочным сыном», не хотевшим расстаться с ней. Будущий нобелевский лауреат был слабым ребенком, и после того, как его отняли от груди, не могло быть и речи, чтобы передать его няне, которая уже заботилась о его сестре Полине. Последняя рассказывает о настоящих сражениях между англичанкой и бургундкой, которых, мало заботил старинный союз, заключенный во время столетней войны: «Они обругивали друг друга, каждая на своем жаргоне: кокни, с одной стороны, и овернское наречие – с другой: «Помешанная! Чокнутая! Надсмотрщица за коровами!» – самые мягкие оскорбления в адрес друг друга, которые я слышала от них каждый день». Победа, однако, оставалась за кормилицей, у которой уже не было молока.
Костюм, в котором гордо ходили кормилицы, невозможно было сравнить ни с каким другим. Он состоял из белого чепчика, к которому прикреплялась большими позолоченными булавками огромная рюшка из лент ярких цветов: красного, синего, зеленого или вишневого. Их концы свисали до земли и развевались за спиной. Ниже шла очень свободная накидка, расшитая бархатной тесьмой, прикрывающая белый передник с широкими карманами. Домье, а также Кристоф в «Сепере Камемберо» навеки запечатлели эту величественную фигуру, прогуливающую маленьких аристократов по Елисейским полям или в Булонском лесу, под наблюдением кучера, сидящего на высоком ландо с гербами в цилиндре и широком плаще с каракулевой подкладкой.
Случай «Брольи» все же особый. Обычно после того, как ребенка отнимали от груди, истощенная кормилица отправлялась обратно в свою деревню с довольно приличной суммой, для того, чтобы снова родить и вернуться предложить свою щедрую грудь другому богатому младенцу.
После того, как его отнимали от груди, бывший грудной младенец без всякого труда оказывался в Британской империи при посредстве няни, прибывшей прямо из Англии или Шотландии. В знатных семьях это было почти всеобщим обычаем… Считалось хорошим тоном отдавать своих детей в сильные руки дочерей Альбиона. По крайней мере, два поколения убаюкивались на языке Шекспира.
В действительности, они играли роль постоянной няни. Они брали все заботы о детях на себя, спали рядом с самыми маленькими, одевали их, дети доверяли им свои большие и маленькие горести. Так, у маркизы д'Аркур няней была Аньес Линч, молодая девушка двадцати лет, приехавшая во Францию по рекомендации английской ветви семьи. Сначала она каждый год ездила на родину, потом со временем поездки стали все реже, и в конце концов она стала безвыездно жить со своими подопечными. Она не расставалась с ними, пока они не выросли. За эту преданность она была похоронена в фамильном склепе. Разумеется, ее жизнь протекала отдельно от прислуги. Таким образом, это была сила, с которой должна была считаться гувернантка, которая появилась, когда старшей девочке исполнилось семь лет. Это была немка Хелен Гербауман.
Она и кормилица ненавидели друг друга от всей души. Вновь прибывшая была учительницей и преподавала детям математику, немецкий и, что самое удивительное, французский. Так как няни были англичанками, в те времена существовало впечатляющее количество молодых аристократов, которые свободно говорили только на британском языке. Так как родители также говорили на этом языке, французский появлялся только на склоне лет. Так же как и чувство привязанности к родине-матери. Дошло до того, что во время столкновений в Фашоде совсем молодая Полина де Брольи, ставшая позже графиней де Панж, чтобы доставить удовольствие своей няне, решительно встала на сторону лорда Китченера, считая нашего бедного майора Маршана чем-то вроде бандита с большой дороги и одновременно отвратительным убийцей.
Жизнь детей протекала в этом окружении отдельно от жизни родителей. Дети жили на верхнем этаже дома, прямо под прислугой, у них была своя столовая, где они ели вместе с няней и гувернанткой. Каждое утро они шли здороваться с матерью и отцом. Только когда они достаточно подрастали, их допускали к общему столу, естественно, в интимной обстановке, а девочек приглашали в гостиную по «дням» матери. Помимо этого они занимались каждое утро в специально отведенной для этого комнате, после чего, около одиннадцати часов, карета отвозила их, скажем, на Марсовое поле, где под наблюдением англичанки или немки – никогда обеих сразу – и кучера они встречались со своими маленькими товарищами. После обеда случалось, что мать брала с собой девочек в объезд города в карете, который она делала, чтобы «развезти визитные карточки» в тот или другой дом друзей. В противном случае дети снова совершали прогулку между уроками фортепьяно, пения, рисунка акварелью и других любительских видов искусства.
Приходило время, когда няня окончательно возвращалась на родину. Часто это были настоящие трагедии для детей, которые видели в ней вторую мать, в то время как их собственная представлялась им скорее эфирным божеством, роскошно одетым и усыпанным брильянтами, которое осторожно целовало их по вечерам, стараясь не испортить прическу…
Элизабет де Грамон было достаточно двух строчек, чтобы описать, чем была детская жизнь в этой социальной категории, которую тогда называли «запеканкой», термин, который лично я нахожу слишком кулинарным: «Кроме работы и двух часов хождения по Елисейским полям, нам было все запрещено. И мы работали». Она добавляет: «Я неутомимо переходила от английского к немецкому, от фортепьяно к трапеции и от танца к рисунку». Ей еще повезло, что у нее в качестве гувернантки была некая мадемуазель Вивье, которая разрешала этой ученице со способностями к языку и литературе читать почти все, что она хотела.
Но когда приходила летняя пора и семья уезжала из Парижа в замок, казалось, поднимался занавес, открывая путь к бегству. Это было нечто вроде свободы, радость жизни на открытом воздухе и более близких отношений с родителями.
Молодая хозяйка замка Манже
Молодая Элизабет не знала свою мать, Элизабет де Бово-Краон, которая умерла, произведя ее на свет. Ее отец, профессиональный офицер, не мог брать с собой маленькую дочку в различные гарнизоны и оставил ее на попечение дедушке и бабушке. Но когда Аженор де Грамон снова женился, маленькая Элизабет имела счастье привязаться к своей мачехе. Последняя, Маргарита де Ротшильд, дочь барона Карла из немецкой ветви семьи, вызвала его неудовольствие, выйдя замуж за француза, к тому же христианина, и была вынуждена отказаться от роскошной жизни, которую она вела у Ротшильдов, бывших настоящим феноменом общества, о котором мы поговорим позже. Она согласилась на скромную жизнь, которую ей мог предложить небогатый муж, которого она любила.
Семья жила в то время на улице Франциска I в квартире, «безобразно отделанной обойщиком Пижасу… Что касается умывальной комнаты моей матери, то ею бы не удовлетворилась мидинетка[6]6
Молоденькая мастерица (фр.)
[Закрыть] 1926 года: темная антресоль с мраморным умывальником и полосатой коленкоровой занавеской, скрывавшей туалетные принадлежности. Ванная комната была в том же роде…» Несмотря на это семья старалась быть достойной своего положения в обществе. Умирая, принц Бово-Краон завещал своей внучке Элизабет замок Манже, красивое строение в стиле Людовика XIII, расположенное в Сарте, недалеко от Краона, и благодаря этому «достаток семьи увеличился». Наконец, появилось собственное место, где можно было проводить летние дни, во всяком случае, до совершеннолетия или брака молодой владелицы, которая тогда имела бы право жить в нем одна.
Графине Маргарите совсем не нравилось в Манже. Она находила, что замок слишком далеко от Парижа. Действительно, жизнь, которую она там вела, не изобиловала развлечениями. Утром она прогуливала свою собачку по гравию аллей, а после обеда читала старые номера «Обозрения двух миров». Что касается герцога, он занимался землей. Для Элизабет же маленький замок представлял собой рай.
По приезде она начинала с того, что обходила весь замок, приветствуя по дороге портреты своих красивых предков и проверяя, стоит ли «напудренный молодой человек в розовом фраке» на углу рояля. Потом она шла в библиотеку со шкафами, закрытыми на ключ, в которых были свалены романы Жоржа Онета, Поля Бурже и философа Каро. После этого обхода она проводила все свое время только под открытым небом среди «тенистых лесных полян, тропинок, бегущих сквозь рощи, стен, в которых я знала все проломы, чтобы попасть в поля и виноградники!»
В июле, когда все высшее общество отправлялось на воды или в Дьеп, дети семьи Грамон жили в Манже под присмотром прислуги, гувернантки, преподавателя и маленького мопса.
«Я уезжала на маленькой коляске в лес, где читала, зарывшись в скирду или устроившись на полянке рядом со сверкающим источником. Позже я прочитала здесь «Понедельники» Сент-Бёва и в этом темном лесу в моей памяти вперемешку сменяли друг друга принцесса Юрсенов, аббат де Берни, Мария-Антуанетта, Жозеф де Мэстр, Бальзак, Вольтер, Сюлли».
Когда Аженор и Маргарита наконец приезжали в Сартр, они все вместе ездили по утрам верхом в лес Берсе, а после обеда за семьей приезжал на коляске управляющий, чтобы сделать объезд ферм, так как нельзя представить себе замок без сельского хозяйства, которое дает ему жизнь. В связи с этим Элизабет де Грамон приводит забавное воспоминание: «Дворы ферм были полны грязи и навозной жижи, которые я стала счищать с ног, перед тем как войти на ферму пополдничать молоком с жареными каштанами: «Не надо чистить их, принцесса, не надо!» – однажды сказал ей работник фермы, для которого наследница принца автоматически имела право на тот же титул.
Естественно, в сентябре-октябре охотились, как, кстати, и везде. Безусловно, не с таким блеском, как в Шомоне или в других ему подобных замках, которые нам еще предстоит посетить. Элизабет обожала свое маленькое владение, где она чувствовала себя по-настоящему дома, и не мечтала ни о чем лучшем, как увидеть в будущем своих собственных детей, резвящихся там. Но судьба решила иначе.
Когда в 1886 году умер барон Карл де Ротшильд, отец мадам де Грамон, положение семьи коренным образом изменилось. На нее обрушился настоящий золотой дождь. Они тут же переехали с улицы Франциска I в просторный особняк, расположенный на углу улицы Шайо и Елисейских полей, купленный у графа Владимира де Монтескью-Фезензак. Герцог де Грамон наконец-то смог вести широкий светский образ жизни, который он так любил. Жена следовала в этом за ним, хотя ее вкусы вовсе не соответствовали такой жизни. Как истинный представитель семьи Ротшильдов, она любила окружать себя редкими и великолепными вещами. Благодаря ей дом был восхитительно украшен и меблирован. Она предпочитала роскошным платьям менее блестящие туалеты, которые больше подходили обществу, которое она любила: обществу писателей, артистов и политических деятелей. Поэтому, несмотря на свое большое состояние, она не вызывала зависти других женщин. «Ее нравы были чистыми, а туалеты простыми, возможно, слишком простыми…»
Быстро возникла необходимость в замке. Мало заботясь о ремонте Бидаш, старинного и благородного владения герцогов де Грамон, отец Элизабет решил построить новый замок недалеко от Парижа: им стал Вальер, воздвигнутый в поместье Мортефонтэн рядом с Сенлисом, с почти такой же роскошью, которую мы еще найдем в замке Фериер, легендарном владении Ротшильдов. Тридцать комнат, каждая с ванной и туалетом, соединенных широкими галереями, не считая просторных гостиных. Кроме того, при замке был конный завод, конюшни, псарня, дом для сторожей, ферма по выращиванию фазанов и оранжерея с орхидеями. Создается впечатление, что в то время мало заботились о выращивании герани или бегонии: только самые дорогостоящие цветы имели право гражданства.
А что же Манже? – спросите вы: Что стало с Манже, дорогим маленьким замком Элизабет с пятью комнатами для гостей и единственной ванной комнатой? Однажды вечером, когда молодая владелица замка читала при свете лампы Виктора Гюго, она услышала, как ее отец говорит, что только что сдал Манже в аренду. Обеспокоенная и, кстати, недовольная, она тут же спросила: кому? Очень аккуратным людям, Монтгомери, из старинной нормандской семьи, которая, как мы знаем, стала английской. Элизабет все же была недовольна: «Что же тогда стоит право собственности, которое было у меня отобрано по воле моего отца? Я почувствовала свою беспомощность, и одновременно мне было стыдно, и я была в отчаянии». Вот так создают феминисток.
Увы, Монтгомери, не особо деликатничая, пересдали замок американцам; которые вели себя в нем, как настоящие вандалы. «Эти ужасные люди не жили в Манже, они загрязняли его. Они устраивали оргии с девицами, развращали округу нелепыми чаевыми. Прекрасная Отеро жила в Манже…»
Когда, уже после того как она вышла замуж и стала герцогиней, молодая владелица захотела снова увидеть свой дом, она его не узнала: старинная мебель исчезла, обивка была грязная и порванная. Тогда она склонилась к мнению своего супруга и согласилась продать замок, никогда не простив того, что сделали с ее любимым домом.
Получив более или менее приличное образование от нескольких странствующих преподавателей, девушки обычно мечтали о замужестве, которое позволяло им наконец жить на взрослый манер. Они, как правило, соглашались на первого претендента, которого им предлагали.
Встречи происходили не в замках – исключая провинцию! – а чаще всего там, что называлось в то время «белыми балами», разновидности матримониальных мероприятий, которые начинались, неизвестно почему, в полночь. Туда привозили девушек на выданье. В свою очередь, молодые люди, решившие вступить в брак, посещали в течение более или менее длительного времени эту «ярмарку невест». Самые прилежные танцоры – которых Элизабет де Грамон называет «полотерами», – были обычно «некрасивые, тщедушные, не умели танцевать, вонзали свои острые коленки мне в ноги, пачкали мои сатиновые туфли… Асы того времени лишь бросали презрительный взгляд на нашу толпу и уезжали в другое место».
Красивая, остроумная, молодая, хорошо воспитанная и очень богатая Элизабет в действительности не нуждалась в этих вечеринках – предложения о браке накапливались у ее отца, по ее мнению, даже в слишком большом количестве. К несчастью, очень независимая, она решила взять дело в свои руки и как-то мимоходом, заметив «красивую внешность» Филибера де Клермон-Тонера, старшего сына герцога с той же фамилией, вышла за него замуж в 1896 году. Это позволило ей кроме всего прочего открыть для себя Бургундию под знаком двух самых величественных замков провинции: Анси-ле-Фран и Танлай. Она не получила от замков какого-либо удовольствия, во всяком случае, это касалось первого, который принадлежал ее свекру и свекрови и в котором те жили. «У меня было впечатление – и я его высказала, что я вошла в подземелье». Подземелье, великолепие которого она, тем не менее, признавала: «Угрюмый и великолепный Анси-ле-Фран близок к совершенству». И трудно ей возразить. Замок, построенный на берегу Армансона, является шедевром, чудом строгой сдержанности. Этот дворец в итальянском стиле состоял из четырехугольника гордых зданий, окружающих восхитительный главный двор. Антуан III де Клермон-Тонер начал строительство замка в 1546 году Болонский архитектор Серлио составил план постройки и следил за работами, внутреннюю отделку осуществлял Ле Приматис. К несчастью, Антуан III не увидел окончания работ, завершившихся около 1622 года. Строители, последовательно сменявшие друг друга, столь скрупулезно следовали директивам двух итальянцев, что, по мнению современников, «можно было сказать, что замок построен в один день, настолько он приятен взору». Как бы там ни было, короли посещали его: Генрих III, Генрих IV, Людовик XIII, а также Людовик XIV, к несчастью, в сопровождении Лувуа, ревность которого успокоилась только тогда, когда он вырвал замок из рук владельца. Клермон-Тонерам пришлось ждать до 1845 года, чтобы возвратить свой прекрасный замок, благодаря Гаспар-Луи, который женился на самой богатой наследнице семьи: Сесиль де Клермон-Монтуазон.
Но после стольких лет величия и блеска жизнь на берегу Армансона, кажется, приобрела некоторый привкус горечи. Замок прекрасен, но его содержание стоит дорого, отсюда и жалобы молодой супруги: «Как можно скучать в таком прекрасном месте, каким является Анси-ле-Фран? (Она находила его даже красивее Фонтенбло). Так вот я в нем скучала, и даже ужасно. И мой муж в нем скучал. И мой свекр в нем скучал… Летом мы ужинали в семь часов из-за моей золовки, которая была еще ребенком, и особенно из-за того, что повар любил кататься на велосипеде прохладными вечерами. С восьми часов вечера в ожидании наступления темноты мы всей семьей сидели на каменном балконе, который возвышался над передним двором с травяным газоном в виде ромбов, огороженным тремя рядами деревьев. Мы смотрели на местных жителей, которые непрерывно проходили через двор. Это было маленькое развлечение…
Выйдя из столовой в стиле Карла X, мы направлялись в караульный зал, где можно было составить партию в бридж в каждом оконном проеме. Мы играли в бильярд, стараясь не смотреть в окна на холмы, покрытые белой пылью от цементного завода Полие и Шосон, стоявшего вплотную к стене парка… Пока светило солнце, жизнь снаружи казалась мне невыносимой… я предпочитала поэтому крутиться в замке, а не в парке, умудряясь создать атмосферу, в которой скука становилась какой-то внутренней вещью… Я ходила по паркету, жирному от трехсотлетних втираний. Они наполняли помещения благоуханием, и солнце любовно задерживалось здесь… Комната Цветов была настолько красива, что я знаю множество людей, которые с радостью провели бы в ней два дня. В ней было все необходимое: мыло и одеколон в туалетной комнате, запас перьев в пенале. Но дело заключалось именно в том, что, если бы сюда кто-либо приехал, весь этот тщательный порядок был бы нарушен. А именно это любила моя свекровь: порядок! С утра до вечера она прогуливалась по замку, что очень полезно для здоровья. Она ходила с севера на юг и с востока на запад: я никогда не видела замка, в котором поддерживался бы такой образцовый порядок… Вечером моя свекровь читала вслух старый назидательный том под названием «Жизнь и смерть маркизы де Клермон-Тонер». Этот титул носила в то время молодая супруга, которая невозмутимо слушала рассказ о своих последних минутах.
«В общем и целом мои свекр и свекровь были героями. Они посвятили себя Анси-ле-Фран, как посвящают себя идее или соусу. Они это делали с простотой и достоинством, которыми я теперь восхищаюсь. Они были добры, мягки и воспитаны, а я же, безусловно, не была с ними ни добра, ни мягка, ни воспитана. Я сожалею теперь об этом: это единственные угрызения совести в моей жизни…»
Создается впечатление, что Элизабет действительно вела себя не особенно правоверно. Если она не копалась в семейных архивах, она просила подать себе чай на острове пруда в парке или, в зависимости от погоды, приготовить ей ванну в зале Совета, чем вызывала настоящую боевую тревогу: «Приносили вязанки хвороста, разводили огонь, как для большого костра, Приготовление этой ванны продолжалось целый час, и процессии камеристок пересекали двор с халатами, домашними туфлями и духами…»
Скажем прямо, мало свекровей переносили бы подобные капризы, имеющие целью только усложнить им жизнь и нервировать их. К счастью, существование Элизабет облегчал Танлей, очаровательный веселый Танлей, дворец Дамы Тартинки, храм Хорошего стола, куда она с супругом устремлялась в среднем четыре раза в неделю, «чтобы покутить у своих соседей и друзей, маркиза де Танлей, его сестры Сюзанны и его матери, самой молодой из троих. Никогда я не видела более гостеприимного трио. У маркиза были небывалый стол и погреб и здоровый аппетит. К нему поступало великое множество разнообразных продуктов: пулярки из Мана, рыба из Булоне, дичь с его земель, наилучшие паштеты. Готовились также блюда по специальным рецептам «Я вспоминаю о зайце по-королевски, о кнелях из фазанов и овсянок, приготовленных в трюфелях. Вина пятидесятилетней выдержки легко путешествовали вокруг стола, и столетняя водка лилась рекой. Чтобы согреть её до нужного уровня, мадам де Икс не боялась ставить рюмку в центр своей пышной груди, перед тем как преподнести ее хозяину дома…» Все эти прелести не помешают безжалостному цензору в юбке добавить: «Ледяной воздух Бургундии, распространявшийся по всему замку, способствовал этим излишествам».
Став герцогиней, Элизабет не была счастлива с человеком непостоянным и находящимся рядом с ней из-за денег, но она устроила свою жизнь, в которой, к сожалению, две дочки Беатрикс и Диана совсем не занимали места. Это иногда случается с интеллектуальными феминистками, настолько привязанными к идее освобождения женщины, что они стараются склонить ее к свободе ото всех обязанностей и даже, надо это сказать прямо, от ее главного предназначения: давать жизнь и заботиться о том, чтобы новые жизни развивались настолько гармонично, насколько это возможно.
Что касается мужа, она пыталась вовлечь его в то, что она называла своим «вторым миром», миром литературы и искусства, в котором она играла важную роль. Мы вернемся к этому позже, когда закончим рассказ о начале века. Так как ей этого не удалось, она в конце концов отправила его в его мир.
Конечно, Элизабет де Грамон была не единственной женщиной того времени, у которой не удался брак и которая не высказывалась по этому поводу, как мы еще сможем в этом убедиться.
Канонисса[7]7
Католический соборный священник, член капитула.
[Закрыть] и ее замок
Немного сложно, рассказывая о «девушках в расцвете лет», говорить о несколько своеобразной демуазель[8]8
Здесь – незамужняя женщина.
[Закрыть], графине Полине д'Армайе, хозяйке замка Сент-Амадур в Анжу, родившейся, как и Виктор Гюго, когда «этому веку было два года», и умершей, кстати, очень богатой в 1891 году. То, как она понимала жизнь в замке, заслуживает того, чтобы быть рассказанным. Особенно пером ее правнучки, графини де Панж.
«Канонисса была любопытной персоной… Сирота, она, хотя и была довольно привлекательна, отказалась от всех планов замужества из опасения, что ей придется отдать мужу все бразды правления в делах, которыми она хотела руководить сама. Она получила титул канониссы в Баварии, чтобы носить звание, не позволяющее называть ее старой девой. Она называла свой диплом «мой бумажный муж…»
Привязанная к земле длинной цепочкой пред ков она жила абсолютно на манер дворянина-фермера, нюхала табак, как солдат наполеоновской старой гвардии, охотно играла в карты с арендаторами, увлекалась всеми видами сельского хозяйства и – оборотная сторона медали – употребляла иногда выражения, мало подходящие для слуха «капитула», пусть даже баварского. Как Жорж Санд, она любила носить брюки, которые, на ее взгляд, были намного удобнее юбок, чтобы перешагивать плетни, разделяющие ее поля, и проведывать коров, ради которых эта дама земли была готова на любые жертвы. Она даже ездила в Шотландию покупать короткорогих быков дархамской породы, чтобы еще более улучшить свое гужевое поголовье.
Ее замок назывался Сент-Амадур. Это прекрасное имение со старинным названием принадлежало роду Армайе уже века. «С возрастом у нее появились маниакальные черты. Она тиранила бедных девушек, служивших ей компаньонками, основная задача которых состояла в ежедневном чтении наизусть канноника[9]9
Церковная книга, свод канонов.
[Закрыть], в то время как канонисса, освобожденная таким образом от нудной обязанности, занималась своими бухгалтерскими книгами и составляла завещание».
Ох уж это завещание! Оно наверняка являлось основной темой разговоров в семье. Не единожды переделанное, укороченное, приписанное и – главное – с непрерывно меняющимся в зависимости от настроения и погоды основным наследником, оно было чем-то вроде дамоклова меча, вечно висящего над той или другой головой. В конце концов оно все же нашло свой последний адресат: мать мадам де Панж, которая, по крайней мере, проявляла интерес к своей старой тете и утруждала себя, посещая ее. Что касается последней, «она позаботилась о том, чтобы приготовить себе гроб по росту из красивого красного дерева, отделанный бронзой; в ожидании ее смерти он использовался для хранения запасов картофеля…»
Попав в руки молодой и предприимчивой пары, Сент-Амадур познал что-то вроде возрождения. Брольи мечтали жить там на манер джентльменов-фермеров. Они отремонтировали замок, чтобы устроиться в нем и продолжать сельскохозяйственные работы канониссы. Из этого был сделан логический вывод: принц стал депутатом от Шато-Гонтье, не проведя даже малейшей избирательной кампании. В замок была переведена вся парижская прислуга, что породило определенные трудности с некоторыми слугами, непоколебимо привязанными к брусчатке столицы. В конце концов удалось все уладить, так как депутат должен был иметь, о крайней мере, какое-нибудь пристанище, не слишком удаленное от Бурбонского дворца[10]10
В Бурбонском дворце заседает Национальное собрание, нижняя палата французского парламента.
[Закрыть]. Это было больше, чем пристанище! Именно здесь старший брат Полины, Морис, в то время студент высшего военно-морского училища, страстно увлеченный физикой, устроил среди мебели в стиле Людовика XV при помощи камердинера свою первую лабораторию. Известно, кем он стал впоследствии: шестой герцог де Брольи, покинув военно-морской флот, стал доктором наук, профессором общей и экспериментальной физики в коллеж де Франс, был избран в академию наук и наконец во Французскую академию. Что касается его[11]11
Научно-исследовательский институт в Париже. Самое престижное военное училище во Франции.
[Закрыть] брата Луи, он перешел от занятия историей к математической физике, создал в 1924 году волновую механику, получил в 1928 году Нобелевскую премию по физике и последовал за своим братом в вышеназванные Академии.
Как путешествовали по Франции, оставаясь в семье
В то время, как образование девушек часто оставляло желать лучшего, образование юношей было гораздо более тщательным, яркое доказательство чему мы с вами только что получили. После того, как он вырос из нянек и гувернанток, молодой аристократ учился в коллеже, поступал на юридический или факультет естественных наук, если только не выбирал Высшую политехническую школу, Сен-Сир или Высшее военно-морское училище, потому что в то время было еще далеко даже до мысли о военно-воздушном училище.
Выходя каждый день после занятий из колледжа, мальчики также пользовались относительно большей свободой. Никаких карет, если только не захочешь; никаких лакеев, следящих за каждым вашим жестом, никакого надзора. Так, молодой Огюст-Антонен Номпар де Гомон; который стал впоследствии герцогом де Ля Форсом, рассказывает, как после суровых занятий в коллеже Иезуитов на улице Мадридаон добирался до улицы Сен-Гийом, Он спускался пешком по Елисейским полям до Курсов ля Рен (сегодня Курсы Альберта I), потом, если была хорошая погода, – садился в империал[12]12
Второй открытый этаж в трамвае, дилижансе, омнибусе и т. д. с сиденьями для пассажиров.
[Закрыть] трамвая, в то время еще на конной тяге, следовавшего по маршруту Лионский вокзал – мост Альма, который пересекал Сену по мосту Сольферино, ехал по улице того же названия, выезжал на бульвар Сен-Жермен, чтобы наконец высадить нашего ученика почти на углу улицы Сен-Гийом. «Вы совершали прогулку со скоростью неторопливого шага двух, першеронов на уровне нижних зеленых веток каштанов, вдыхая аромат цветов». Возвращение на улицу Пресбур, где находился семейный особняк, часто скрашивалось компанией одного или двух товарищей.
В 1902 году, получив соответствующий диплом, герцог присутствовал на свадьбе своей любимой сестры Элизабет – число девушек, которых в то время звали Элизабет, действительно впечатляющее – с виконтом Гастоном де Луппе. Этот брак ему нравился, потому что он заключался под знаком любви, но, с другой стороны, ему было немного грустно расставаться с той, которая была его подругой детства. В семье Гомон-ля-Форс их было четверо детей. Он и Элизабет старшие. Однако расставание подарило некоторую компенсацию: молодожены проводили лето в замке Асон, под Коарразом, одном из двенадцати владений барона в Беарне, где Генрих IV провел раннее детство. Замок находился в двадцати четырех километрах к югу от По, не очень далеко от старинной крепости де Гомон в районе Ариеж, главного родового поместья герцогов де Ля Форс. Любимый брат был приглашен полюбоваться цепью Пиренеи. Для него это было началом своеобразного путешествия по Франции Путешествия из замка в замок лишь с редкими остановками в вульгарных гостиницах. В этом состояло преимущество великосветских семей: почти везде можно было найти родственников, чтобы остановиться у них. В наши дни престижная гостиничная сеть – Эстафета замков – предоставляет в распоряжение путешественников подобный образ жизни с той лишь разницей, что это стоит на много дороже.
Итак, наш молодой человек отправился в Ассон, который еще принадлежал в то время прадеду и прабабушке Гастона де Луппе, графу и графине д'Ангос. Он выехал из Ля Жюмельер – замок, который мы уже знаем – поездом, доставившим его из Тура в Коарраз-Ней через Тур, Бордо, Дакс и По. На железнодорожной станции его ждало ландо, запряженное большими «каретными лошадьми» графа де Луппе, чтобы отвезти его в замок.