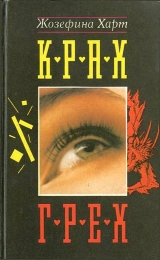
Текст книги "Грех"
Автор книги: Жозефина Харт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Жозефина Харт
Грех
Посвящается Морису Саатчи
Пролог
Детства очень просто лишиться. Для этого вполне достаточно почувствовать себя слишком счастливым. В наше время это ощущение не торопится осенить души. Говорят, что завесу, скрывающую от нас будущее, ткет ангел милосердия. Но кто накидывает покров на наше прошлое? Почему мы бродим ослепленные среди руин, то и дело попадая в капканы, путаясь в намерениях и поступках, странных и необъяснимых? Писатели из жизни и смерти реальных людей создают свои истории. И эта история – фрагмент жизни. Фрагмент из двух судеб. Из моей. И из ее.
1
По-настоящему я никогда ее не знала.
Она вошла в мою жизнь вместе с человеком, который был ее мужем. Вместе с человеком, с которым мне суждено жить. И вместе с ее сыном Стефаном.
В мою жизнь вошла ложь.
Меня окружили миры, искрившие тайным интересом к ней. И еще другие, молчаливые, таинственные, державшие меня на дистанции, в ожидании. В надежде, что мимолетный отсвет укажет путь к ней. Теряя ее след, я погружалась в темные воды своей жизни и сквозь толщу мутных волн, захлестывавших меня, пыталась прорваться к ее душе, слабо мерцавшей надо мной. Она пряталась от меня, а я искала ее. Она пряталась ради моего же блага. Теперь я готова растоптать эту бледную, неясную тень.
Она ранит меня, но я не чувствую боли и наношу ответный удар. Я не собираюсь убивать ее. Только дать отпор. Выбрать точку на гладкой поверхности зеркала и с силой опустить серебряный молоточек. И я стану ею.
Иногда в минутном порыве решимости мы приближаемся к тому, что готовит нам случай, исступление или отчаяние. Но не случай привел ее в мою жизнь. Она ждала меня, и это было предрешено. Она ждала меня в моем доме. Она не была рождена моей матерью. Но она была ее ребенком. И это величайшая несправедливость по отношению ко мне.
Ее звали Элизабет Эшбридж. Я всегда завидовала этому имени.
2
– Кто-то летает по моей комнате. Кто-то черный. Мама. Мама. Кто-то летает. Черный. У него крылья. Мама. Мама. Где ты, мама? О, пожалуйста, мама. Иди сюда. Мама, пожалуйста. Пожалуйста. Он вот-вот сядет мне на лицо.
Я бьюсь о дверь. Я не могу дотянуться до выключателя. Я слишком мала.
– Мама, я не могу… Мама, мама!
Темный коридор. Кто-то черный.
– Мама, он летит за мной. О, мама. Где ты, мама?
Здесь должны быть ступеньки. Я встаю на цыпочки, тянусь… Но все равно выключатель расположен слишком высоко. Я цепляюсь за перила. Я медленно ползу, ступенька за ступенькой я погружаюсь во тьму.
Холл настолько узок, что, вытянув руки, я касаюсь стен. Слезы текут по моему лицу… ноги подгибаются…
Я продвигаюсь вперед.
– Мама. Мама.
Я кричу, я обращаюсь к далекому благословенному лучу света.
– Мама.
Навстречу мне плывут звуки радио и ее голос. Из последних сил я толкаю дверь из мрака на свет.
Они оборачиваются. Они купаются в потоках света. Великолепная троица. Элизабет стоит на коленях. Ее золотые волосы струятся по плечам. От нее исходит свет. Позади сидит моя мать с гребнем в руках. Напротив них отец с чашкой какао. Он сильно наклонился вперед, почти сполз на пол.
Покой и счастье. Гармония. Но мне здесь нет места. Мать бежит ко мне. Она сжимает меня в объятиях. Элизабет пугается:
– Рут, бедная Рут, почему ты так кричишь!
Отец встает с места и тихо произносит:
– Дорогая Рут. Дитя мое. Что с тобой? Ты шла одна по темной лестнице! Бедная малышка.
Они целуют меня. Они ласкают меня. Они усаживают меня. Они стараются успокоить меня.
Я пью какао из чашки Элизабет. Она целует меня. Она целует мои коленки.
– Бедная, бедная Рут! – шепчет она.
Я снова начинаю кричать. Слезы ненависти капают на голову Элизабет. Стекают по ее золотым волосам. Она поднимает ко мне лицо. Я нагибаюсь к ней. Я прижимаюсь к ее лицу. На ее губах капли. Мои слезы.
Жгучи ли они, Элизабет? Жгучи?
Меня несут обратно в постель. Через освещенный холл. Мать и отец нежно воркуют надо мной. Они старательно ищут крылатое чудище. Оно уворачивается от них. Отец садится рядом со мной, гладит меня по голове. Мать тихонько поет колыбельную. И, я проваливаюсь в сон.
Надо мной разверзлись небеса. Из тьмы я смотрю на светило. Я окунаюсь в свет. Я одна.
3
Теперь я понимаю, что слишком рано столкнулась с добротой и она безвозвратно ушла из моей жизни.
Я попала в жестокие тиски великодушия Элизабет. Зная о ее прямоте и искренности, я задыхалась в той атмосфере, которая окружала Элизабет. Убийственная мощь ее сердечности разрушала чахлые ростки доброты, пробивавшиеся в моей душе.
Мне казалось, что я придавлена темной толщей воды, и восставала против господства Элизабет. Она была королевой. И поэтому к ней нельзя было испытывать ни любви, ни жалости.
Она осталась сиротой, когда ей было всего девять месяцев. Ее родители, Астрид, сестра моей матери, и Оливер Орд Эшбридж, молодые, любящие супруги, погибли в автомобильной катастрофе. Элизабет привезли в Лексингтон. Старые каменные стены стали для нее надежным укрытием, а знаменитые парки и озеро придали особую красоту ее свободе, ограничив пространство и наделив его множеством неповторимых деталей. Она жила в Лексингтоне, и мои родители любили и баловали ее. У них появилась дочь. Еще до меня.
Я была их единственным ребенком. По крови. Но эта привилегия была отнята у меня.
Никто в этом не виноват. Мои родители поступили правильно. Они были добры. Они приютили Элизабет. Они дали ей кров. Мой кров. И наделили меня тоской по чему-то безвозвратно утерянному.
Я навсегда стала второй, и в этом изначально была ложь. И не просто второй, а одной из двух, одной, которая ничего не значит без другой.
Мои мать и отец вряд ли догадывались о том, как я реагировала на их заботу, на их почти любовь. Они хотели, чтобы в моей памяти остались самые трогательные воспоминания. Об их привязанности и нежности. Но я ненавидела эти старательно возводимые декорации. Вот моя мать любуется туго заплетенными, длинными, золотистыми косами Элизабет, уход за которыми занимал гораздо больше времени, чем за моими космами, черными, вьющимися, покорявшимися нескольким энергичным движениям гребня. Меня так и подмывало крикнуть: «Мама, я знаю, что надо сделать. Обрежь волосы Элизабет. Пусть у нее не будет кос. Сожги их». Но я молчала. Я училась терпению. Скрытности.
Элизабет безутешно рыдала в тот день, когда она должна была отправиться учиться в пансион. Отец, стоя на коленях у ее постели, гладил ее руки и шептал:
– О, мое золотце. Мой светлячок.
Но хватит воспоминаний. Они разрывают мне сердце. Хватит. «Ты никогда не становился передо мной на колени, папа. Ты никогда не становился на колени передо мной. Она не твоя дочь, папа. Не твоя».
Память неподвластна мне.
Я так и вижу, как они грустно смотрели на меня – после ее отъезда, – когда я пыталась копировать ее в мелочах, помня, что именно обычно вызывало похвалы. И я слышу, как они говорят: «Ты тоже скучаешь по ней, Рут. Дорогая, мы знаем, ты тоже скучаешь».
Я так и вижу, как моя мать умоляет директрису пансиона поселить нас вместе – подобная практика не была принята в школе.
– Так важно, чтобы они были вместе. Рут так привязана к Элизабет.
Моих родителей радовала мысль о том, что у них две дочери. Элизабет и Рут, старшая и младшая, – это казалось им настоящим чудом.
И Элизабет творила чудеса. С детства привыкнув подражать ей, брать на заметку ее великодушие, ее доброту, я, холодея от зависти, из года в год брела по тропинкам, проложенным ею. Подобно сатане, я возненавидела саму природу добра, стала бояться его силы.
В детстве мне не хватало мужества взбунтоваться. Поэтому я ушла в подполье. Чтобы обдумать, как жить дальше. И как навредить ей.
Иногда меня словно что-то толкало подражать ей. И я принималась во всем ее копировать. И еще… ее вещи. Я прятала их. Те вещи, которые имели ценность в детстве. Ее кружку с красными зайчиками. Ее любимую куклу. Тряпичную собаку с желтой пастью. Ленточки. С улыбкой я наблюдала, как она ищет пропавшие вещи. И как она плачет. Из-за куклы.
Я привыкла к улыбке на ее лице. Иногда меня переставала раздражать эта улыбка. Хотя она ей не шла.
Позже, уже в отрочестве, живя в пансионе, я собрала небольшую коллекцию. Нижнее белье. Заколки. Чулки. И тому подобные мелочи. Я редко пользовалась этими вещами, просто держала их у себя.
В то мучительное время мне хотелось познать себя. И я раздувала пожар.
Все начиналось с малого. Должно быть, так бывает всегда. Мелкие кражи. Мелкие подлости. Гаденькие радости. Жестокость в мелочах.
А если бы я была старше Элизабет? Если бы я родилась раньше? Вела бы она себя так, как я? Что, если бы Сиф, третий ребенок, был бы старше Каина и Авеля? Если бы Господь призрел не Каина? Проснулся бы в нем зверь или нет?
Я сделала выбор. Я не прирожденная интриганка, понимаешь? И я не тщеславна. Я не нуждалась в аплодисментах. Я была задумчива. Задумчива и недоброжелательна. Как и многие другие люди.
4
Я никогда не была легкомысленной. Я тщательно выбирала себе любовников. Полагаю, что в моем выборе всегда присутствовала некоторая оригинальность. Мои жертвы плясали на подмостках, послушные моей воле, подчиняясь моему произволу. Тем не менее хищнические налеты производились с большим артистизмом.
Я красива. Это всего лишь констатация факта. И констатация власти. У меня темные волосы и смуглая гладкая кожа. У меня карие, слегка раскосые глаза. Мои брови – что особенно примечательно – прямые, словно распластанные в полете крылья. У меня правильной формы нос, узкий и длинный, хорошо очерченный рот, и мои губы без всякой помады красные и блестящие. Моему лицу придает необычность удивительная яркость. «Да, она настоящая мальтийка!» – говорила моя мать, намекая на мою бабушку со стороны отца, итальянку. Я среднего роста, немного ниже Элизабет. И у меня восхитительная фигура.
Физически я вполне годилась для того, чтобы выступать на сцене. Но, сомневаясь в своем будущем успехе, я сделала ставку на глубинное познание ритма, ударных тактов человеческих желаний.
В юности я подбирала забытые Элизабет предметы. У меня была небольшая коллекция. Шелковое белье. Украшения для волос, два из них золотые. Губная помада. Черные туфли на высоких каблуках. И тому подобные мелочи. Я редко пользовалась этими вещами, просто держала их у себя.
После Оксфорда, где я изучала английскую словесность, я получила скромную должность в небольшом издательстве. Я делала успехи, но старательно скрывала то, чем владела, и не спешила предстать во всей своей красоте.
Как и все по-настоящему красивые женщины, я одевалась очень просто. Я знала, что, усиливая эффектность моей и без того яркой внешности или подчеркивая достоинства моей фигуры, рискую выглядеть попросту вульгарно. Мне необходимо было всеми силами избегать какой бы то ни было драматизации и оттачивать ум, расставляя сети уловок, в которые неминуемо попалась бы жертва.
У меня был самый скромный, но элегантный гардероб, летом я чаще всего носила темные или же белые платья, а зимой я предпочитала неяркие кремовые оттенки (очень любимые мной) или же черные одежды с красными вкраплениями. Аксессуары к своим туалетам я покупала в самых дорогих магазинах и старалась, чтобы они были в отличном состоянии. Но темный цвет и классическая форма моей сумки, например, отвлекали внимание от того факта, что она стоит больше моей месячной зарплаты.
Моя внешняя скромность вводила в заблуждение коллег-женщин. Мужчины, с которыми я сталкивалась на работе, находили, что их внимание ко мне встречает слишком слабый отклик, и, несмотря на ореол таинственности, которым я была окружена, рано или поздно отступали. Разочарованные, но не утратившие чувства собственного достоинства.
Втайне от своих коллег я стала подумывать о создании своего небольшого дела на базе издательства моего отца. Мне предстояло многому научиться.
Я провела неделю в Лондоне, поселившись в уютной квартирке, в доме, расположенном в тупике позади Харродса. Об этом никто не знал. Многие предполагали, что я живу не только на зарплату, но мое финансовое положение оставалось тайной. Я исходила из этого и исхитрялась вести светскую жизнь, не пересекаясь с Элизабет. Мне казалось, что я хорошо контролирую свою жизнь.
Элизабет удивляла меня. Она не была красива. В детстве ее внешность – золотые волосы, тонкие черты лица – была многообещающей, но с годами она поблекла, и Элизабет не пыталась хоть как-то бороться с этим. Она была высокого роста, в отца, стройна и длиннонога. Одежда строгого покроя подчеркивала ее широкие плечи, налитые почти мужской силой.
Я тщательно подбирала себе стиль одежды, исходя из только мне понятных соображений. Элизабет не была привередлива, но при этом простота ее нарядов мозолила глаза. Она носила черные блузки из хлопка или шелка и джинсы или брюки. Если она выходила вечером, то неизменно в вельветовом или шелковом жакете и длинной юбке, что делало ее похожей на индонезийскую женщину, закутанную в саронг. Днем она зачесывала волосы назад и подхватывала их заколкой. По вечерам она надевала шиньон. Подобный стиль держится уже многие годы и в наше время очень распространен.
После Школы искусств, где Элизабет отнюдь не блистала, она обосновалась в просторной квартире в Кенгсингтоне, которая одновременно служила ей студией, и занялась живописью. Она писала исключительно небо, что не вызывало никакого интереса, редко выставлялась и, на мой взгляд, была совершенно бездарна.
У нее было мало друзей. Она общалась по преимуществу с художниками. Однако еще со школьных лет она сохранила дружеские связи с Баатусами, известной респектабельной семьей, владевшей многими банками. Мари Баатус часто приглашала Элизабет в Париж или на Луару, в замок, принадлежавший ее семье. Элизабет с детским восторгом принимала эти приглашения. На проявленное по отношению к ней гостеприимство она отвечала тем, что время от времени зазывала Мари в Лексингтон. Мари с удовольствием приезжала, ей нравился Лексингтон, и она очень любила озеро. За его «таинственность», как она однажды выразилась.
Лексингтон действительно может казаться укромным загадочным местом. Путь к нему лежит через леса, карабкающиеся по откосам. Он вырастает внезапно, багровый, вознесшийся над холмами. Парк отлого спускается к воде.
Лексингтон – дом и озеро, где протекали многие годы нашей жизни, – был приобретен моим дедом в те времена, когда его дела пошли в гору. «Удачная шахматная партия», – объяснял он.
Дед купил скромное издательство, не приносившее большого дохода, но вполне устоявшееся. Он вывез издательство из старого огромного здания в центре Лондона, где оно помещалось, и сумел пустить в оборот так называемое недвижимое имущество. Положив в банк крупную сумму, полученную за продажу помещения, дед закрыл за три года шесть нежизнеспособных журналов, а другие преобразовал и прибавил к ним два совершенно новых издания. Он создал издательство «Альфа». Мою бабушку звали Алексой. Двум своим дочерям она дала имена Астрид и Алин. Отсюда и название издательства. «Начало всему – альфа», – шутил дед.
После смерти дедушки не знаю, от горя или от радости, бабушка решила покрасить серый каменный дом в красный цвет.
Дед и отец каждую неделю приезжали в Лексингтон из Лондона на выходные дни и проводили время за рыбалкой, охотой и картами. Лексингтон наполнялся мужскими запахами, просмаливался смехом, и все это волновало меня. Даже цвет стен менялся, и краснота становилась особенно яркой, победной. Когда мужчины уезжали, стены снова становились кровавыми, с проступавшими кое-где черными подтеками.
5
Меня никогда не интересовали красивые мужчины. И не потому, что я считала их пустыми, неспособными на глубокое чувство людьми. Нет. Я знала, что природа не так уж щедра и что, наделив человека неотразимой внешностью, она наверняка сэкономила на других его качествах.
Элизабет было двадцать лет, когда в один из летних дней в Лексингтоне появился тот, из-за которого участились ее визиты во Францию. Губерт Баатус.
Он с широкой улыбкой пересек лужайку и направился к моему шезлонгу. Его лицо представляло собой идеальное соотношение линий, теней и света и являлось воплощением мужской красоты.
В его внешности не было ничего оригинального. Я намеревалась соблазнить возлюбленного Элизабет. Этот план возник сразу же, как только я его увидела. Банальность подобного замысла не могла смягчить той боли, которую должна была испытать при этом Элизабет.
Я улыбнулась сквозь яркие солнечные лучи и протянула ему руку. Как джентльмен, он должен был ее поцеловать.
– Элизабет столько рассказывала мне о вас. Мне не терпелось познакомиться с вами.
– Вы слишком добры, – ответила я.
– Слишком добр? Разве можно быть слишком добрым?
В разговор вмешалась моя гостья, Элен, приехавшая на уик-энд.
– Не надо буквально понимать эту фразу, Губерт. Когда англичане говорят «вы слишком добры», они имеют в виду нечто более общее.
Губерт посмотрел на меня. Он был в некотором замешательстве.
– Мне кажется, я правильно понял то, что хотела сказать Рут. Я говорю немного топорно. Мой английский… такой неуклюжий.
– Да нет, ваш английский очарователен, – сказала я.
– О, да, очарователен. Теперь я понимаю, что подразумевают англичане под словом «очаровательный». Так сказать, все нюансы.
Он засмеялся. Элизабет улыбнулась.
– Возможно, года три или четыре Губерт проведет в Лондоне, – сказала она.
– Правда? А что вы там будете делать? – поинтересовалась я.
– Мы открываем филиал Банка в Лондоне. Перед тем как вернуться в Париж, я какое-то время буду занят этим.
– Вы думаете, вам понравится жить в Англии?
– О, да. Я уверен в этом.
И он взглянул на Элизабет.
– А прежде вы бывали в Лондоне? – не унималась я.
– Я часто бывал в Лондоне, но никогда не задерживался надолго. Я люблю Лондон. Лондонские театры – лучшие в мире. Но, кажется, я уже перешел на лесть…
– Мы любим, когда нам льстят.
Элен тоже улыбнулась ему. Ее ум был бессилен против его очарования.
Элизабет сияла. Что привлекало его в ней? Может быть, душа? Существует ли столь тонкий инструмент, который позволил бы ответить на этот вопрос? Насколько серьезно они относились друг к другу? Элизабет? Очень серьезно. Губерт?
– Рут.
Я вздрогнула и обернулась на зов матери.
– Рут, дорогая. О чем ты задумалась? Мы идем на террасу. Все готово для ленча.
Элизабет и Губерт направились к дому. Я наблюдала за ними. Он обнял ее за талию, она повернулась к нему. Ее взгляд словно освещал дорожку. Обыкновенный летний вечер.
Я плелась позади. На них падала моя тень. Они остановились и, улыбаясь, смотрели на меня. Я подошла и встала рядом с Губертом.
– Надеюсь, вы будете бывать в Лексингтоне, когда обоснуетесь в Англии.
– Губерт приедет через месяц, – сказала Элизабет.
– Вы уже присмотрели себе дом в Лондоне?
– Нет. Компания предоставит мне квартиру. В Мэйфэере. Первое время я буду жить там.
Мы подошли к дому. Ленч был сервирован на террасе. Буфет отливал почти альпийской белизной – чистота была пунктиком моей матери, – и складки скатерти струились с узкого стола на серые камни террасы. Я наблюдала за тем, как Губерт ел. Он был очень голоден, но старался это скрыть. И поэтому держался скованно. Элизабет улыбалась, слушая, как он расхваливает вино, на которое приналег, впрочем, без каких бы то ни было последствий. Думаю, он знал свою норму и сумел вовремя остановиться.
Элизабет воспринимала еду как забаву. Она ничего не пила. Она не могла бы ходить по краю пропасти. И в ее живописи не было чувства опасности, риска, напряжения всех сил. Губерт словно прочел мои мысли. Он сказал:
– Мне очень нравятся работы Элизабет. В них столько красоты. Она следует традициям французских живописцев. Мы не любим уродства… всего того, что шокирует. Вы меня понимаете?
Он обернулся ко мне.
– Да, конечно.
Я старалась быть дипломатичной.
– Но великое искусство всегда шокирует. Разве не так?
– Возможно. Но Элизабет не претендует на то, чтобы ее считали великой художницей, Рут. Тем не менее она очень наблюдательна. Кто знает, быть может, она еще удивит вас. У меня есть какое-то предчувствие…
– О, Губерт, пожалуйста, не надо.
Элизабет покраснела.
– В действительности все гораздо проще. Живопись – это единственное занятие, к которому я чувствую влечение. Я не обладаю большим талантом. Но, работая, я счастлива. И те скромные успехи, которыми я могу похвастаться, придают мне уверенности…
– И очарования, – подсказал Губерт.
– Да уж, – хихикнула Элен, – вы очаровательная пара. Просто уникальная.
– Рут, а где сейчас Доминик? – спросила мама.
Доминик был вполне сносным компаньоном для уик-эндов в Лексингтоне. Особенно когда он не приставал ко мне с предложением выйти за него замуж.
– Он в Америке, мама. Преподает в Беркли, – отозвалась я.
Доминик занимался математикой, и любые беседы на тему его работы были невозможны. Никто не решался расспрашивать его, боясь, что он пустится в объяснения. Он жадно читал современные романы. Большинство из них вызывали в нем глубокое отвращение. «Тут есть о чем поговорить», – с ухмылкой замечал он часто.
Да, он был наделен своеобразным обаянием. Но со мной он повел себя неправильно. И я считала, что будет лучше, если он уедет. Я надеялась, что он благополучно отбыл из Англии.








