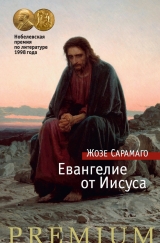
Текст книги "Евангелие от Иисуса"
Автор книги: Жозе Сарамаго
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
* * *
Немудрящий обед был окончен, а десятник еще не погнал на работу, так что плотник Иосиф, один из многих и многих других плотников, мог еще посидеть, отдыхая, или даже полежать с закрытыми глазами, предаваясь неспешному течению отрадных мыслей, представить себе, что идет по дороге, открывающейся за грядою гор Самарии, а то и еще лучше – вообразить, что глядит с вершины на родной Назарет, по которому так тоскует душа его. Но сейчас душа просто пела, и говорил себе Иосиф, что вот и настал он, последний день долгой разлуки, ибо завтра рано-рано поутру, чуть только померкнут перед рассветом все звезды, кроме Пастушьей, которая одна останется блистать на еще темном небе, двинется он домой, вознося по дороге хвалу Богу Всевышнему, направляющему шаги наши и оберегающему домы наши. Он встрепенулся, открыл глаза – померещилось, что заснул и не слышал свистка на работу, но нет: его и вправду сморило ненадолго, однако вот его товарищи – кто дремлет, кто точит лясы, и десятник сидит себе с таким видом, будто решил объявить нынешний день нерабочим и не раскаивается в своем великодушии. Солнце уже в зените, и краткие, но сильные порывы ветра гонят в другую сторону дым от жертвенников, и сюда, в низину, где строят ипподром, не доносится даже гомон торгующих у Храма, и кажется, будто все маховики и шестеренки времени замерли и застыли, ожидая, когда придет великий десятник, надсмотрщик над пространством Вселенной и над всеми эрами и эпохами. Но странное беспокойство охватило вдруг Иосифа, еще мгновение назад столь безмятежно счастливого, и он повел вокруг себя глазами, отыскивая причину его, однако вокруг все было прежнее, ставшее за эти недели привычным, – строительные леса, камни, и доски, и белая колючая крошка вокруг камнедробилок, и опилки, даже под палящим солнцем долго остающиеся влажными, – и, смутясь и растерявшись от этой внезапной и гнетущей тоски, попытался найти объяснение столь неожиданному своему унынию, подумав сперва, что это вполне естественное чувство всякого, кто должен бросать начатое дело на полдороге, даже если дело это – не его и имеются такие славные и законные основания бросить его. Он поднялся на ноги, прикидывая, сколько еще времени у него в запасе, – десятник же и головы не повернул в его сторону – и решил наскоро обойти те места на стройке, где доводилось ему работать, чтобы попрощаться, так сказать, с бревнами, которые обтесывал, с досками, которые остругивал, с брусьями, которые пригонял на подобающее им место, – уподобясь, извините за смелое сравнение, пчеле, имеющей право сказать: Мед этот – мой.
Завершив прощальный обход, он уже готов был вернуться к своим плотничьим обязанностям, но задержался еще на мгновение, засмотрелся на город, уступами вздымавшийся перед ним на холме, многоступенчатый город, цветом обожженных кирпичей, из которых он выстроен, подобный хлебу, и вот теперь десятник уже наверняка зовет его, но Иосиф не торопится – он смотрит на город и ждет, а чего – неведомо. Минуло время, ничего не произошло, и он пробормотал так, словно смирялся с чем-то или от чего-то отказывался: Ну ладно, надо идти, – и тут с дороги, проходившей внизу, под тем местом, где стоял он, донеслись голоса, и Иосиф, выглянув из-за каменной стенки, увидел троих воинов. Они, конечно, шли по этой дороге, но теперь остановились: двое, уперев в землю древки копий, слушают третьего – он по виду старше годами, а может, и чином выше, однако наверное судить об этом может лишь тот, кому внятен таинственный смысл, сокрытый в количестве, форме и расположении всех этих звездочек, шпал, нашивок, шевронов. А неразборчивые слова, достигшие слуха Иосифа, были вопросом, заданным одним из этих троих: И когда? – и последовавший на них ответ старшего звучал уже вполне отчетливо: В начале третьего часа, когда все уже будут дома, и опять спросили его:
Скольких отрядят? – и вновь донесся ответ: Пока не знаю, но городок-то надо будет оцепить. И что же – всех? Нет, не всех, от двух лет и ниже. Поди-ка различи: два ему или уже три стукнуло, сказал первый. И сколько же это получается? – допытывался второй. По переписи – душ двадцать пять, отвечал старший. Иосиф так вытаращил глаза, словно надеялся, что через них придет к нему постижение услышанного, ибо ушам своим верить отказывался, и тело его вмиг покрылось гусиной кожей: одно, по крайней мере, было ясно – воины эти намеревались идти убивать каких-то людей. Каких, каких людей? – растерянно допытывался он у самого себя, да нет, не людей, а детей, а дети, что же, не люди? От двух лет и ниже, сказал этот капрал, сержант, писарь-каптенармус или кто он там, а где же, где это будет? – но не мог же Иосиф перевеситься через стенку и спросить: Эй, ребята, где воевать собрались? – и пот бежал с него ручьями, и тряслись колени, когда снова заговорил старший, сказав и озабоченно, и как бы с облегчением: Слава Богу, что мы и сыновья наши не в Вифлееме живем. А известно-то хоть, почему посылают нас убивать этих вифлеемских младенцев? – спросил первый копейщик. Нет, и похоже, начальство само не знает: приказ царя – и точка. Воин, водя по земле концом древка, будто вычерчивал неведомые знаки судьбы, сказал: Горе нам, горе: видно, мало того зла, что каждый творит в жизни, так еще и приходится быть орудием зла чужого. Но Иосиф этих слов уже не слышал – он крадучись отошел от этой, самой судьбой ему посланной каменной стенки, а потом бросился бежать сломя голову, с козлиным проворством скача по камням, и только что высказанный копейщиком философский постулат, лишенный того, кто мог бы подтвердить, что он и в самом деле был высказан, причем этими самыми словами, заставляет сильно усомниться в своем существовании, особенно если принять в расчет вопиющее противоречие между его завидной и очевидной глубиной и самобытностью и социальной ничтожностью уст, изрекших его.
Вихрем, сметая всякого, кто попадался ему на пути, сшибая лотки и прилавки торговцев, переворачивая клетки с обреченными в жертву голубями и столики менял, не слыша яростных криков, летевших ему вслед, несется Иосиф, и одна мысль бьется в воспаленном его уме – ищут убить сына его и неведомо за что, и согласимся, что коллизия исполнена драматизма: один человек дал ребенку жизнь, другой хочет эту жизнь отнять, и одно желание стоит другого – творить и разрушать, завязывать и развязывать, создавать и уничтожать. Вдруг он замирает как вкопанный, осознав внезапно, как опасно продолжать этот бешеный бег – того и гляди появятся храмовые стражи и схватят его, счастье еще, что они не сразу заметили учиненный им разгром. И вот, притворясь как можно лучше таким, как все, затаившейся в шве вошкой спрятался Иосиф в гуще толпы – и сразу стал безликим и безымянным и тем лишь отличался от всех прочих, что шел чуть скорее, но и на это в густой толчее едва ли кто обращал внимание.
Он знает, нельзя бежать до тех пор, пока не выберешься за городские стены, но ему не дает покоя мысль о том, что солдаты, вооруженные копьями, мечами, ножами и злобой, лютой, но беспричинной, уже пустились в путь, и хорошо, если в пешем строю, а не отрядили конных, и скачут облегченной рысью, и дорога, как нарочно, идет под уклон, приятная верховая прогулка, да и только, и если так, то их не опередишь и не догонишь, и сын мой погибнет, бедный мой мальчик, несчастный мой, любимый мой, единственный, Иисус мой, – ив это мгновение новая мысль, мысль дурацкая и недостойная, точно бранное слово, оскорбительно вламывается в сознание: жалованье, пропадет жалованье за неделю, и такова сила презренной корысти, низкого интереса, что Иосиф хоть и не остановился, но чуть-чуть придержал стремительность шагов, словно для того, чтобы дать рассудку время взвесить и прикинуть, нельзя ли совместить одно с другим – жизнь, так сказать, и кошелек, – но была эта мелкая мыслишка мимолетней и легче луча, что рождается и исчезает, не успев оставить по себе сколько-нибудь определенной памяти, так что Иосиф не успел даже испытать стыд, который столь часто – и все же недостаточно часто – становится самым надежным, самым верным нашим ангелом-хранителем.
Но вот он наконец за городской чертой, воинов на дороге не видно, насколько хватает взгляд, и не заметно никакого оживления, неизбежного в том случае, если бы через эти ворота выходил отряд, однако самая безобманная и верная примета – это мирно играющие дети: не так бы они себя вели, если бы под сенью знамен, под барабанную дробь и пенье труб появились тут воины, мальчишки, повинуясь древнему как мир воинственному зову души, непременно увязались бы за отрядом следом – ни единого мальчишки не осталось бы тут – и провожали бы его, по крайней мере, до первого поворота дороги, а самый боевой довел бы и до места назначения, узнав таким образом, что суждено ему в будущем, а суждено ему убивать и умирать. Иосиф же теперь может припустить бегом – и он бежит, бежит, благо дорога под гору, бежит, путаясь в полах своего хитона, хоть он и подоткнул его чуть не до колен, но – так бывает во сне – его не оставляет мучительное ощущение, что ноги не способны выполнять требования и мольбы верхней части тела – сердца, головы, глаз, рук, которые спешат спасти и уберечь, но явно не поспевают. Встречные останавливаются, провожают этого опрометью несущегося человека удивленными взглядами, а зрелище и вправду неприятно поражает глаз, ибо народ этот высоко ставит сдержанное достоинство, степенность и даже известную величавость походки и вообще всего поведения, и единственное, что может извинить Иосифа – не считая, понятно, того, что мчится он спасать сына, – это явная его принадлежность к племени галилеян, людей, как не раз уж говорилось, неотесанных и грубых. Вот позади осталась гробница Рахили, которая, верно, никогда и не предполагала, что появится у нее столько поводов оплакать детей своих, огласить воплями и рыданиями бурые холмы вокруг, расцарапать себе лицо или что там от него осталось, прядями вырывать себе волосы или ранить голый свой череп. Иосиф еще до того, как показались первые домики Вифлеема, сбегает с дороги и мчит напрямик, через поле: Так короче, скажет он, если кто удивится и спросит, что это он затеял, и хоть так, наверно, и в самом деле гораздо короче, но можно ручаться, что и гораздо неудобней. Избегая встреч с теми, кто работает в поле, припадая за камни, чтобы не заметили пастухи, Иосиф делает большой крюк, чтобы попасть в свою пещеру, где жена не ждет его в этот час, а сын – ни в этот, ни в какой другой, ибо спит. Уже на середине склона последнего холма, когда уже показалась впереди черная дыра – вход в пещеру, еще одна ужасная мысль пронзает его: а вдруг Мария, взяв с собой младенца, пошла в селение и – это ведь женщинам так свойственно, так присуще – воспользовалась своим одиночеством, чтобы толком и без спешки попрощаться с невольницей Саломеей и местными мамашами, с которыми свела за последнее время знакомство и дружбу, оставив мужу право и обязанность по всем правилам поблагодарить хозяев пещеры. А перед мысленным взором мужа этого проносится в тот же миг картина – вот он бежит по улицам Вифлеема, стучит в двери домов, кричит: Нет ли тут жены моей?! – ибо глупо было бы спрашивать, нет ли тут младенца двух месяцев от роду, и, увидев, что он сам на себя не похож, непременно осведомится какая-нибудь женщина с ребенком:
Стряслось что-нибудь? – а он скажет: Да нет, ничего особенного, просто завтра рано утром уходим мы, так надо собрать пожитки. Отсюда, с высоты, похож Вифлеем на строящийся Храм, и разбросанные повсюду камни будто ждут, когда придут рабочие, поставят их один на другой, выстроят из них что-нибудь – дозорную ли вышку, обелиск ли в честь одержанных побед или стену плача. Лает вдалеке пес, откликаются ему другие, но знойное безмолвие последнего предзакатного часа еще осеняет Вифлеем, как позабытое благословение, почти уже утратившее силу свою и благодать, как последнее перышко растаявшего в вышине облака.
В неподвижности провел Иосиф меньше времени, чем нужно, чтобы выговорить эти слова. Последний рывок – и вот он уже был у входа в пещеру и окликал жену: Мария, ты здесь? – и когда она отозвалась ему из глубины, он вдруг и только сейчас ощутил, как дрожат и подкашиваются у него ноги – от бешеного бега, но и от счастливого потрясения: сын цел и невредим. А в пещере Мария нарезала овощи к ужину, спал в яслях младенец. Иосиф без сил повалился наземь, но тотчас заставил себя встать и сказал: Мы уходим, мы уходим, и Мария непонимающе взглянула на него: Уходим? – и он ответил: Да, да, уходим немедленно. Но ты же говорил… Молчи! – перебил он ее, собирай вещи, покуда я заседлаю осла. Давай сперва хоть поужинаем. В дороге поужинаем. Скоро стемнеет, куда ж это мы на ночь глядя, заплутаем, и Иосиф сорвался на крик: Молчи, сказано, делай, что тебе говорят! Слезы выступили на глазах Марии – в первый раз муж повысил на нее голос, – и молча принялась она собирать немногие их пожитки.
Живей, живей, подгонял ее Иосиф, а сам тем временем взнуздал и заседлал осла, подтянул подпруги, как попало и вперемежку набил седельные торбы всем, что подвернулось под руку, а Мария дивилась, не узнавая мужа.
Они уже были совсем готовы пуститься в путь – оставалось лишь засыпать землей огонь, как вдруг Иосиф, жестом приказав жене оставаться на месте, подошел к выходу, выглянул наружу. Пепел сумерек припорошил землю и небо, сделав их неразличимыми. Солнце еще не село, но густая пелена, хоть и висела достаточно высоко, чтобы оставались окрестные поля в поле зрения, не давала лучам пробиться наружу. Иосиф прислушался, шагнул вперед раз и другой – и волосы его стали дыбом: из Вифлеема летел крик, и был он столь пронзителен, что, казалось, не могут издать его уста человеческие, и тотчас, следом, еще не успело смолкнуть в окрестных холмах эхо, грянул, заполняя собой все вокруг, новый взрыв рыданий и воплей, но нет, это не ангелы оплакивали попавших в беду людей, а обезумевшие люди взывали к пустым небесам. Иосиф медленно, словно боясь, что звук его шагов будет услышан кем-то, отступил в глубь пещеры, столкнувшись с нарушившей его запрет Марией – она дрожала с головы до ног. Что это за крики? – спросила она, Иосиф же, не отвечая, втащил ее в пещеру и стал забрасывать землей костер. Что это за крики? – повторила она, невидимая во тьме, и на этот раз он, помолчав, сказал: Это убивают людей, еще помолчал и добавил, словно по секрету: Детей убивают, так приказал царь Ирод, и горло ему перехватил спазм беззвучного бесслезного рыдания, но, справившись с ним, он договорил: Потому я и хотел бежать. Зашелестела солома, зашуршала ткань – это Мария, вынув сына из яслей, прижала его к груди: Иисус, тебя ищут убить, и последнее слово пресеклось плачем. Молчи, сказал Иосиф, ни звука, может быть, воины сюда не придут, им ведено убивать всех младенцев вифлеемских от двух лет и ниже. Как ты узнал? Подслушал разговор у Храма, прибежал сюда. Что же нам делать? Вряд ли они станут обшаривать все пещеры в округе, приказано им лишь обойти все дома, молись, чтобы никто не выдал нас, и тогда мы спасены. Он снова выглянул наружу: вопли стихли, и слышались теперь лишь рыдания, и значило это, что избиение младенцев совершилось и завершилось. По-прежнему непроглядно было небо – наступающая ночь и туманная пелена надежно укрыли Вифлеем от взоров тех, кто обитал в небесах. Оставайся здесь, сказал Иосиф, пойду к дороге, посмотрю, ушли воины или нет. Будь осторожен, сказала Мария, словно было ей невдомек, что мужу ее никакая опасность не грозит, что смерть пришла лишь к жителям Вифлеема мужского пола от двух лет и ниже – если только кто-нибудь, вышедший на дорогу с той же целью, что и Иосиф, – поглядеть, ушли ли солдаты, – не выдаст, не донесет, не скажет: А вот плотник Иосиф, и сыну его, нареченному Иисусом, нет еще и двух месяцев от роду, и не про него ли говорилось в пророчестве, ибо никогда мы не читали и не слыхали, чтобы уготован был царский венец нашим сыновьям, тем более теперь, когда вы их перебили всех до единого.
Столь плотная тьма стояла в пещере, что, казалось, можно потрогать ее пальцами. Мария боялась темноты, с детства она привыкла, что в доме горит огонь в очаге, светильник ли или то и другое вместе, и теперь усилилось и стало совсем нестерпимым ощущение того, будто она заживо зарыта в землю, что пальцы тьмы вот-вот схватят ее.
Выйти из пещеры, нарушив запрет мужа и подвергнув сына смертельной опасности, она не могла, но страх нарастал в ней с каждой секундой, грозя вот-вот смести утлые заслоны благоразумия, и впустую было увещевать себя:
Раз ничего тут не было, пока горел огонь, то и сейчас нет, но это вдруг помогло, и она, нащупав ясли, положила в них сына, потом почти ползком добралась до кострища, хворостиной смела землю, засыпавшую его, и, когда обнаружились несколько все еще тлеющих головней, страх вдруг покинул ее – ей непонятно почему припомнилась земля в глиняной чашке, испускавшая такой же дрожащий и мерцающий свет, прорезаемый стремительными сполохами, будто кто-то на гребне горы размахивал факелом или бежал, воздев его над головой. Возник было образ нищего и тотчас исчез – настоятельная надобность осветить пещеру вытеснила его. Мария все так же ощупью подобралась к яслям, нашарила солому, выдернула пучок, вернулась туда, где бледно светилась земля, – и вот уже в самом дальнем углу, невидимая тому, кто заглянул бы снаружи, затеплилась коптилка, озаряя сходящиеся в этом месте стены пещеры, и вместе с этим тусклым, умирающим светом снизошло на нее умиротворение. Мария подошла к яслям, где по-прежнему безмятежно спал ее сын, безразличный ко всем страхам, потрясениям, насильственным смертям, бушевавшим снаружи, снова взяла его на руки и, присев на землю там, где было светлее, принялась ждать. Прошло некоторое время, и он проснулся и, еще не открывая глаз, плаксиво сморщил личико, однако Мария, уже превзошедшая науку материнства, заплакать ему не дала – выпростала из-за пазухи грудь, вложила сосок меж нетерпеливых губ. Так сидели они, когда снаружи раздались шаги. В первое мгновенье Марии показалось, что сердце у нее остановится – солдаты! – но шаги явно принадлежали одному человеку, солдаты же, как известно, ходят не поодиночке, а, по крайней мере, парами, блюдя обычай и полевой устав вообще, а в подобных обстоятельствах, когда идет поиск, а вернее – розыск и один во избежание всяких неожиданностей должен прикрывать другого, – особенно. Это Иосиф, подумала она и испугалась, что он станет бранить ее за то, что развела огонь. Медленные шаги приближались, и вот вошел Иосиф, но внезапно Марию затрясло – шаги, грузные, твердые, не могли принадлежать мужу, должно быть, какой-нибудь бродяга искал себе пристанища на ночь, и так уже дважды бывало раньше, и Мария не пугалась, по тому что представить себе не могла, что кто-то, каким бы ни был он злодеем, способен обидеть женщину с грудным младенцем на руках, но тогда она не могла знать, что многие из убитых сегодня в Вифлееме тоже были на руках у матерей, как сейчас лежит у груди ее Иисус, и так же, как он, сосали молоко в тот миг, когда клинок, рассекая тончайшую кожицу, вонзался в нежную плоть, но рукоять этого клинка держала рука не бродяги, но царского воина, а это, согласитесь, разница, и немалая. Нет, это был не муж ее и не воин, ищущий подвигов в одиночку, чтобы ни с кем не делиться славой, и не бездомный бесприютный бродяга – нет, на этот раз в обличье пастуха пришел к ней тот, кто прежде – раз и другой – являлся нищим попрошайкой, тот, кто назвал себя ангелом, но не сказал только, ангел ли он небесный или ангел ада. Мария сначала и не подумала, что это может быть он, а теперь поняла, что никто другой и не мог появиться здесь.
И сказал он так: Мир тебе, жена Иосифа, тебе и сыну твоему, счастье, что пещера эта стала вам домом, а иначе один из вас был бы растерзан и мертв, а другой – жив, но с растерзанным сердцем. Сказала Мария: Я слышала крики. Сказал ангел: Да, на этот раз только слышала, но придет день, и взывать будут к тебе, а ты не внемлешь им, а еще раньше того дня услышишь ты рядом с собой тысячекратно усиленный крик. Сказала Мария: Муж мой ушел к дороге посмотреть, покинули ли Иродовы воины пределы вифлеемские, и нехорошо будет, если он застанет тебя здесь. Сказал ангел: Не тревожься об этом, я уйду прежде, чем он вернется, и пришел я затем лишь, чтобы сказать – теперь ты увидишь меня не скоро, ибо все, что должно было произойти, произошло уже, не хватало лишь этих убиенных младенцев и – до того как убили их – не хватало свершенного Иосифом преступления. Сказала Мария: Никакого преступления не совершал муж мой, он добрый человек, он хороший человек. Сказал ангел: Да, он добрый человек, он хороший человек, совершивший преступление, и ты даже вообразить себе не в силах, сколько уж было таких, как он, – неисчислимы преступления хороших людей, и, вопреки понятиям общепринятым, только их преступления нельзя простить. Сказала Мария: Что же сделал он?
Сказал ангел: Сама знаешь, не отнекивайся, не то попадешь в сообщницы ему. Сказала Мария: Клянусь, я не знаю. Сказал ангел: Клясться не надо, а впрочем, можешь и поклясться, помни лишь, что в клятвах для меня значения не больше, чем в шуме ветра. Сказала Мария: Что же сделали мы? Сказал ангел: По жестокой воле Ирода обнажены были клинки, но это ваше себялюбие и малодушие связало по рукам и ногам тех, кого пронзили они. Сказала Мария: Что же могла я сделать? Сказал ангел: Ты – ничего, ибо слишком поздно узнала обо всем, а плотник твой мог все: мог предупредить жителей Вифлеема, что уже идут туда воины убивать младенцев, и тогда родителям их достало бы времени убежать с ними и скрыться в пустыню, скажем, или же в Египет и там дождаться смерти царя Ирода, которая уже близка. Сказала Мария: Он не подумал об этом. Сказал ангел: Нет, не подумал, но это не оправдание. Сказала Мария, заплакав: Прости меня, ты ведь мой ангел. Сказал ангел: Не затем, чтобы прощать, пришел я сюда. Сказала Мария: Прости его. Сказал ангел: Я ведь тебе уже сказал – этому преступлению прощения нет, скорее уж будет прощен Ирод, чем Иосиф, скорее будет прощен изменник, чем отступник. И вновь сказала Мария:
Что же нам делать? Сказал ангел: Будете жить, будете страдать, как все. Сказала Мария: А сын мой? Сказал ангел: Вина родителей падает на голову детей, и тень преступления, свершенного Иосифом, ляжет на чело Иисуса.
Сказала Мария: Несчастны мы. Несчастны, согласился ангел, и нет средства помочь вам. Мария поникла головой, крепче прижала сына к себе, словно этим могла спасти его от грядущих бед, а когда подняла глаза на ангела, его уже не было – но только исчез он не в пример тому, как появился, шагов слышно не было. Улетел, подумала Мария.
Она поднялась, подошла к выходу из пещеры проследить путь его в воздухе или хоть след этого пути, взглянуть, нет ли поблизости Иосифа. Туман рассеялся, металлическим блеском сверкали первые звезды, по-прежнему доносились из Вифлеема рыдания, и в этот миг голова ее закружилась от какого-то безмерного тщеславия, от греховнейшей горг дыни, обуявшей ее вопреки пророчеству ангела, словно спасение сына ее свершилось не по воле Всевышнего, обладающего достаточным могуществом, чтобы избавить кого угодно от злой смерти в тот самый миг, когда другим обреченным остается только одно – ждать, пока не представится случай спросить самого Бога: Зачем Ты нас убил? – и удовольствоваться любым, каков бы ни был он, ответом.
Но недолгим было упоение Марии: уже в следующий миг представилось ей, что могла бы и она, как многие матери вифлеемские, держать на руках мертвое тело сына, и тогда во спасение ее души, во исцеление разума слезы вновь выступили на глазах у нее и хлынули ручьем. Так сидела она и плакала, когда вернулся Иосиф, – Мария видела его, но не шевельнулась, ибо уже не боялась его упреков: она плакала теперь вместе с другими матерями, что сидели в кружок, держали на коленях бездыханных своих сыновей и ждали часа воскресения. Иосиф увидел ее слезы, понял причину их и промолчал.
И, войдя в пещеру, он не стал бранить жену за то, что та зажгла светильник. Угли костра подернулись тонким слоем пепла, но посреди них и между ними еще трепетал, еще бился из последних сил язычок пламени. Развьючивая осла, сказал Иосиф: Опасность миновала, они ушли, и самое лучшее – переждать здесь до утра, а завтра утром, чем свет, тронемся в путь, да не по дороге, а по тропинке, а где тропинки нет – прямиком. Сколько детей погибло, прошептала Мария, и Иосиф вдруг рассердился: Сколько, почем ты знаешь сколько, ты что, ходила считать? Я просто помню некоторых. Скажи лучше спасибо, что твой сын жив. Говорю. И не смотри на меня так, словно я свершил злодеяние. Я не смотрю. И не смей говорить со мной так, словно судишь и осуждаешь. Я буду молчать. Да уж, лучше помолчи. И с этими словами он привязал осла к яслям, где еще оставалось немного соломы, хотя вряд ли тот уж очень сильно проголодался, ибо в последние недели ел, что называется, вволю, только и делал, что щипал травку да нежился на солнце, но счастье, как известно, недолговечно, совсем скоро вновь начнутся тяжкие его труды под тяжкой кладью. Мария уложила сына и сказала: Раздую огонь. Зачем? Ужин приготовлю. Не надо, кто-нибудь может заметить костер, поедим всухомятку что Бог послал. Так и сделали. Масляная плошка озаряла призрачным светом четырех обитателей пещеры – неподвижно, как изваяние, стоял осел, ткнувшись губами в солому, которую так и не стал есть; спал младенец; а мужчина и женщина пытались обмануть голод пригоршней сушеных смокв. Потом Мария раскатала по земле циновки, расстелила простыню и, как всегда, стала ждать, когда ляжет муж. Но Иосиф сначала вновь выглянул из пещеры, прислушался – но покой царил на земле и в небесах, и из Вифлеема не доносилось больше ни воплей, ни рыданий, и видно, хватало у Рахили сил на то лишь, чтобы стонать и вздыхать, затворив и двери и душу. Иосиф растянулся на циновке, почувствовав вдруг небывалое изнеможение, – слишком много бегал он в этот день, слишком силен был страх его, и он не мог даже сказать, что это благодаря его стараниям остался в живых Иисус, ибо воины всего лишь неукоснительно выполнили данный им приказ – истребить всех младенцев вифлеемских мужского пола, не позаботившись проявить хоть немного инициативы и по собственному почину обшарить ближайшие пещеры, чтобы удостовериться, что никто там не спрятался или – а это уж просто грубейший тактический просчет, приведший, строго говоря, к провалу всей операции, – что не служит одна из них местом постоянного обитания целого семейства. Обычно Иосифа не раздражало всегдашнее обыкновение жены укладываться на ночь уже после того, как он засыпал, но сегодня была ему несносна сама мысль о том, что вот он заснет, а Мария будет бодрствовать, глядя на его беззащитное во сне лицо безо всякой жалости. И потому он сказал; Ложись, не сиди надо мной. И Мария повиновалась, проверив сначала, как всегда она это делала, крепко ли привязан осел, а потом со вздохом улеглась на циновку, изо всей силы зажмурила веки – сразу ли придет сон или погодя немного, но она смотреть ни на что более не желает. А посреди ночи приснилось Иосифу, будто скачет он верхом по дороге, спускающейся к какому-то селению, и вот уже показались первые его домики, а сам он – в одежде и снаряжении воина, с мечом, с копьем, с кинжалом, как и все вокруг него и вроде бы неотличим от других, но спрашивает начальник: А ты, плотник, куда? – и без запинки отвечает ему Иосиф, гордясь, что так хорошо знает цель свою: В Вифлеем, убить сына своего, и только сказал он это, как захрипел и проснулся, и все тело его перекручено было судорогой ужаса. Сказала Мария: Что такое, что с тобой? – и Иосиф, дрожа с ног до головы, только и мог, что выговорить:
Ничего, ничего, но в тот же миг пережитый ужас прорвался в рыданиях, раздирающих ему грудь. Мария поднялась, поднесла поближе коптилку, осветила его лицо, но он заслонился ладонями: Убери, убери! – и, все еще вздрагивая от рыданий, встал, подбежал к яслям взглянуть на сына.
Да вы напрасно беспокоитесь, достопочтенный наш Иосиф, мальчик ваш и вправду – чистый ангел, ни забот с ним, ни хлопот, поел да спит, и так безмятежно, словно не прошла в двух шагах от него смерть, да какая смерть – от руки собственного, родного отца, давшего ему жизнь, и хоть знаем мы, что от судьбы не уйдешь, что смерти в конце концов не миновать, но согласимся все же, что смерть смерти рознь. Иосиф же, боясь задремать, чтоб снова не привиделся ему этот кошмар, ложиться не стал, а завернулся в одеяло и сел у выхода из пещеры, под каменным уступом скалы, что образовывал нечто вроде природного навеса и в ярком свете луны отбрасывал тень такую густую и плотную, что дрожащая коптилка справиться с ней была не в силах. Появись тут на плечах своих рабов, в окружении своих алчущих крови полчищ хоть сам царь Ирод, он и то сказал бы: Дальше, дальше, не тратьте времени даром, нет здесь того, что мы ищем, – нежной младенческой плоти и только начавшейся жизни, и вообще ничего нет, кроме камней да тени от камней. Иосиф задрожал, припомнив свой сон, спросил себя, что бы мог он значить и как понимать все это – под всевидящим оком небес мчался он вниз по дороге, прыгал по камням, перемахивал через изгороди, торопясь, как отцу и пристало, защитить и спасти сына, а во сне увидел себя в обличье палача-кровоядца, но, может, не врет поговорка, гласящая, что снам веры нет. Дьявольское это было наваждение, пробормотал он. Тут, будто трель невидимой во тьме птицы, засвистало что-то в воздухе – пастух, что ли, дунул в свою сопелку, созывая стадо, но для пастуха рано, спит вся скотина, одни лишь сторожевые псы бодрствуют в такой час. Однако ночь, тихая и отчужденно-далекая от людей, тварей и неодушевленных предметов, ночь, исполненная того ли высшего безразличия, которым склонны мы наделять Вселенную, проникнутая ли равнодушием иным, остающимся – если только что-нибудь останется – от всеобъемлющей пустоты, что последует за полным и окончательным концом всего сущего, – ночь отвергала смысл и разумный порядок, которые правят миром, как кажется нам в те часы, когда мы все еще продолжаем считать, будто сотворен мир этот был, чтобы принять нас во всем безумии нашем. И в памяти Иосифа постепенно стал делаться этот его сон все не правдоподобней и нелепей, стал блекнуть, и тускнеть, и выцветать, опровергаемый этой ночью, и лунным светом, и спящим в яслях младенцем, а больше всего – разумом человека, очнувшегося, овладевшего собой и своими мыслями, которые, хоть и стали мирными и ласковыми, все же еще способны были производить на свет таких чудищ, как славословие за то, что солдаты, перебив стольких, пощадили, – разумеется, по лени и небрежности – сына его возлюбленного. Одна и та же ночь укрывает плотника Иосифа и матерей вифлеемских, об отцах же, равно как и о Марии, упоминать не будем, не указывая причины подобного умолчания. Неспешно текут часы, и – заря уже занимается, а луна еще не померкла – Иосиф встает, навьючивает на осла пожитки, и вскоре все семейство его – Иисус, Мария и сам он, плотник Иосиф, – пускается в обратный путь, в Галилею.








