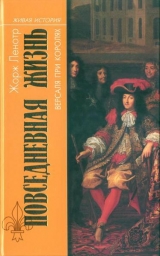
Текст книги "Повседневная жизнь Версаля при королях"
Автор книги: Жорж (Теодор) Ленотр (Госселен)
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Об этих документах было наговорено столько плохого, что лишний аргумент в их пользу не помешает.
Латур
В не слишком-то достоверных «Мемуарах» знаменитой жеманницы графини де Жанлис[122]122
Стефани-Фелисите де Жанлис (1746–1830) – воспитательница детей герцога Орлеанского, автор сочинений на педагогические темы.
[Закрыть] мы находим описание следующего странного факта. Когда прославленному портретисту Морису Кантен де ля Латуру[123]123
Годы жизни Латура – 1704–1788.
[Закрыть] нужно было из Парижа вернуться к себе домой в Шайо,[124]124
Шайо – ныне один из центральных районов Парижа.
[Закрыть] он, чтобы не тратиться на экипаж, спускался к Сене, раздевался, складывал одежду в узелок и, прицепившись к плывшей вниз по реке лодке или барже (то ли из экономии, то ли из неумеренной любви к гидротерапии), таким вот образом добирался до места назначения. Мадам де Жанлис не сообщает, в каком именно состоянии выходили из такого плавания его нежнейшие, сверххрупкие пастельные карандашики.
Предположим, рассказ правдив, но как же трудно в таком случае писать Историю! Ведь современники и соотечественники изображают Латура человеком в высшей степени озабоченным своей элегантностью, чрезвычайно «изысканным в одежде и необычайно чистоплотным». Если вышеупомянутые купанья и не противоречат последнему эпитету, то все же они грозили большой опасностью «платью превосходного черного бархата, кружевному жабо и тщательно напудренному парику», в которых он обычно появлялся.
Конечно, имея дело с художником такой величины, можно допустить все: Латур был личностью неординарной и сложной. Тот, кто решился судить о нем единственно по той грации, что запечатлелась в его будто созданных легкой рукой волшебника шедеврах, впал бы в заблуждение.
Внешне Латур был не слишком привлекателен: хрупкое телосложение, высоко задранная голова, горящие огнем глаза, тонкие губы. И хотя в своих автопортретах он придает себе победительный вид и насмешливую улыбку, он на самом деле был измучен неуверенностью, сомнениями и изнурен работой, трудность которой усугублялась близорукостью. Сверх того в его голове царила полная мешанина из идей политического, метафизического, космологического и этического толка, из которой он мучительно конструировал собственное представление о предназначении человека. Теперь его наверняка сочли бы неврастеником, но в XVIII веке этого слова, по счастью, не знали.
Неодолимые трудности искусства живописи были его наваждением. Сохранившиеся письма говорят о его необычайной взыскательности. «Живопись – все равно что море, которое надо выпить…» «Сколько требуется внимания, чтобы вопреки всем изменениям, которые поток мыслей и чувств сообщает лицу модели, сохранить впечатление цельности! Каких мучений всякий раз стоит поиск нужного приема! Каждый миг ставит новую задачу. А зависящее от погоды освещение – ведь оно изменяет все цвета!.. Любой снедаемый чувством профессиональной чести художник имеет все основания сетовать на бездну трудностей, которые ему предстоит одолеть». Сокрушается он и бедностью своих художественных средств. «Пастель – это воистину дьявольское искусство. Ни один ее тон не верен. Нужные оттенки приходится искать прямо на бумаге, накладывая штрихи множеством разных карандашей, вместо того чтобы работать одним. В живописи краска наносится кончиком кисти, и в случае неудачи, стерев верхний слой и открыв то, что было под ним, художнику ничего не стоит убрать ошибку…»
Также клянет он несовершенство своих глаз: «Картина, которая воспринимается только на расстоянии двадцати шагов, шокирует чувствительность взыскательных зрителей». Писать же вблизи неимоверно трудно. «Художник, работающий в двух или трех шагах от модели, вынужден непрестанно привставать, приседать, клониться то вправо, то влево в попытке ухватить то, что видно только издали. А до чего сложно передать лицо в перспективе! Если художник пишет лицо вблизи, ему никак не удается уловить одновременно оба глаза модели: у них разное направление взгляда. Но ведь именно от их согласия, от их „дуэта“ зависят жизнь и душа портрета!» Отсюда и происходит та нервозность, что делает «несчастного живописца похожим на сумасшедшего или по меньшей мере на субъекта с причудами и странностями».
Человеческая душа – вот что прежде всего стремится он воплотить. «В той или иной степени любой человек неизбежно томится своим положением, каждый несет на себе печать этой усталости. Вот ее-то и надо уловить прежде всего. Идет ли речь об изображении короля, генерала армии, чиновника, священника, носильщика или философа, нужно, чтобы на полотне он с головы до ног выглядел бы королем, священником или носильщиком».
Такого рода размышления художника в моменты, когда он стоит перед своей моделью, отчасти объясняют, откуда возникает то пронзительное ощущение жизненности, что охватывает нас при созерцании этих давно умерших господ и дам. Нам явлена их жизнь, их душа, их тайные мысли, их характеры и привычки – и все это посредством хрупкой пыльцы, нанесенной двести лет тому назад кончиком пальца! Поразительно! Читая латуровские письма, даешь себе клятву не относиться отныне к таким «воскрешениям», как к должному, и не забывать о душевных терзаниях, которыми автор оплатил свой шедевр.
Г-н де Нолак,[125]125
Пьер де Нолак – автор множества книг по истории Версаля.
[Закрыть] для которого в Версале нет тайн и секретов, рассказал нам, каким образом протекали визиты Латура в замок. Его сюда приглашали неоднократно: в первый раз – чтобы заказать портрет королевы Марии Лещинской.
Посланная за художником придворная карета подвозит его к вестибюлю мраморной лестницы. С папкой под мышкой и треуголкой в руке он поднимается по ступеням: всякий, вступая в королевское святилище, должен обнажить голову. О нем докладывают. Приветливая королева с доброй улыбкой уже ждет его; она в домашнем платье, без румян, без мушек, в простой косынке на голове. Латур вкладывает ей в руки веер; она охотно подчиняется его указаниям. Художник в обхождении с этой вызывающей всеобщее восхищение женщиной соблюдает почтительную простоту. Сейчас ему предстоит написать одну из лучших своих картин.
Позже он работает у дофина на первом этаже замка, в той комнате за кабинетом принца, что украшена деревянными панелями по эскизам Вербекта.[126]126
Поль Вербект (1704–1771) – прославленный мастер отделки интерьера в стиле рококо.
[Закрыть] Рано располневший дофин прост в обращении и не лишен ума; Латур нимало его не стесняется. В начале своей деятельности он имел счастье написать портрет Вольтера; с той поры он остался другом философа, который, в свою очередь, ценит в художнике «отчаянного врага предрассудков». Латур неоднократно писал и Жан Жака Руссо. Он восхищается этим почитателем природы и числит себя его восторженным учеником. Короче, он – человек самых передовых, самых радикальных взглядов, и его перу случалось выводить словечки, попахивающие Революцией. Слово «монсеньор» царапает ему слух, а «гражданин» – ласкает. Прежний Господь Бог уже превратился для него в «Высшее существо», а князья, принцы и другие великие мира сего в его глазах суть обыкновенные смертные, куда менее полезные для Отечества, чем художник.
Вот потому-то, работая в присутствии наследника престола, он позволяет себе поучать его и внедрять в голову дофина демократические идеи. Он дает монсеньору непрошеные советы, он учит его правильно воспитывать детей и презирать окружающую его мишуру. Однажды он извлекает из кармана пропагандистскую брошюру. «Я не читаю брошюр», – говорит принц. Латур настаивает: это новейший трактат об Отчизне; тот, кому предназначено царствовать, обязан с ним ознакомиться. «Я не люблю новшеств», – холодно парирует принц. Глубоко набожный, дофин и в самом деле питает по отношению к философам, энциклопедистам, янсенистам[127]127
Янсенизм – неортодоксальное учение во французском и нидерландском католицизме, названное по имени голландского теолога Янсения (1585–1638), в котором истинная вера резко противопоставлялась формальному отношению к церковному учению. В XVIII в. с этим понятием ассоциировалась уже всякая оппозиция официальной церкви.
[Закрыть] и парламенту священный ужас.
При дворе латуровские проповеди равноправия вызывают лишь смех; придворные, издеваясь, перетолковывают их на свой лад. Но это не мешает Людовику XV заказать художнику свой портрет.
«Голубые пажи» приводят его в апартаменты Его Величества, в сей священный храм, где обитает тот, кто может, как разонравившихся слуг, уволить господ из Верхней палаты, где парижским епископам, чтобы приблизиться к нему, приходится ползти на коленях через две комнаты… И вот Латур введен в роскошный, блистающий золотом и зеркалами кабинет.
Король уже ждет его. Торопясь показать свою независимость, художник тут же начинает возмущаться: «Два окна! Невозможное освещение! Что вы хотите, чтобы я делал в этом фонаре?» Король просит прощения: он хотел сделать, как лучше, выбрав для сеанса ту комнату, где его будут меньше беспокоить. И привыкнув обходиться без слуг, король сам закрывает внутренние ставни, передвигает кресла; Латур в это время продолжает брюзжать: «Не мешало бы, чтобы французский король хоть в собственном доме был хозяином!» Наметив таким образом тему беседы, он, начав работать над эскизом, продолжает в том же духе.
Словно находясь в собственной мастерской, Латур делится с монархом своими соображениями об общественных делах, которые, по его мнению, совсем нехороши. Он, к примеру, недоволен министрами и рекомендует срочные реформы. «И главное, у нас абсолютно нет флота, нет кораблей!» «Как, господин Латур, разве вы забыли о тех, что создал ваш собрат по искусству господин Верне?»[128]128
Клод-Жозеф Верне (1714–1789) – чрезвычайно плодовитый французский живописец-маринист.
[Закрыть] Эту остроту часто цитируют, и она действительно мила; король умел метким словечком поставить на место забывшегося подданного. Если не теперь, то, вероятно, потом на досуге Латур сообразит: время, когда знаменитые художники принимают участие в политике, нанося тем великий ущерб своему искусству и своей стране, еще не настало.[129]129
Автор намекает на Жака-Луи Давида, знаменитого художника эпохи Революции, принимавшего участие в политической жизни страны (он был членом Комитета общей безопасности). См. примечание к с. 175.
[Закрыть]
Но он запомнил этот эпизод и сумел отыграться позднее, когда писал портрет тогдашней фаворитки мадам де Помпадур. Два года добивалась маркиза этой милости: Латур заставлял себя упрашивать. Напрасно она осыпала его комплиментами, интересовалась его здоровьем, успехами, Академией, членом которой он состоял… Он всячески сопротивляется и ничуть не скрывает, что его не привлекает двор, что «он не любит этой страны, где невозможно чувствовать себя в безопасности: у него тут украли из кармана золотую гильошинированную[130]130
Гильошинирование – изобретенный во второй половине XVIII в. ювелиром Гильоше особый прием в работе с эмалью: металлическую поверхность сначала украшают врезанным узором, а затем покрывают прозрачной эмалью.
[Закрыть] табакерку!» Наконец он уступает и водворяет свой мольберт в просторном кабинете маркизы на первом этаже, выходящем окнами на Северный партер.
Вот они – почет и уважение, завоеванные настоящим талантом! Перед этим раздражающим ее человеком маркиза – слаще меда. Она готова забыть его грубые отказы, она ему прощает все. Но на первом же сеансе Латур демонстрирует свой колючий характер: «чтобы работалось сподручней», он снимает с себя парик, распускает подвязки, снимает камзол… Он требует, чтобы никто ему не мешал и не смел заходить во время сеанса в комнату. Однажды дверь все же открылась: входит король. Латур, еще не переваривший «кораблей господина Верне», якобы не узнает царственного посетителя и изрекает сварливым тоном: «Мы ведь условились, Мадам, что сегодня сюда никто не войдет. Так-то вы держите слово?» Он встает, закрывает коробку с пастелью, делает вид, что собирается одеваться… но, удовлетворенный мольбами короля и фаворитки, в конце концов снова принимается за работу.
Латур умер в 1788 году в своем родном городе восьмидесятичетырехлетним стариком на самом пороге желанной Революции. Он умер как раз вовремя: судьба избавила его от безвкусной игры в санкюлота.[131]131
Санкюлотами в начале Французской революции пренебрежительно называли городское простонародье из-за носимых мужчинами длинных штанов, вроде современных брюк, в отличие от принятых в высших классах штанов по колено (culotte). Затем это слово стало обозначением патриота и революционера.
[Закрыть]
Воспитание принца
С расстояния более чем в два столетия фигура Людовика XVI, освободившись от налипшей на нее хулы, панегирических восхвалений и слезливой жалости, представляется одной из самых интересных в истории.
В наше время профессия короля уже не считается легкой. Попытаемся же представить себе, чем она должна была обернуться для человека, взращенного на идеалах, весьма отличных от тех, что исповедовали, к примеру, Филипп-Август[132]132
Филипп II Август (1165–1223) – воинственный средневековый французский король (с 1180), участник 3-го Крестового похода, соперник Ричарда Львиное Сердце.
[Закрыть] или Людовик XI,[133]133
Людовик XI (1423–1483) – деспотичный и энергичный французский король (с 1461), будучи дофином, боролся со своим отцом Карлом VII за обладание троном, затем хитростью и силой успешно увеличивал территорию Франции за счет соседних.
[Закрыть] и которого угораздило очутиться в самом центре чудовищного вихря политических утопий – утопий, настолько соблазнительных и дерзостных, что ничего более разрушительного не смогли изобрести даже самые передовые из наших современников. Эта ситуация напоминает военный поединок, который в штормящем океане вели бы колумбовых времен каравелла и великолепно оснащенный современный крейсер… Может быть, Наполеону с Макиавелли в придачу и удалось бы выйти из такой переделки, но кому-либо другому!..
Катастрофа была фатально неизбежна.
Принц, которому выпал жребий бороться с неразрешимой задачей, в одиннадцать лет потерял отца; то был честный, прямодушный и умный человек, но, не играя в государственных делах ни малейшей роли, он добровольно ограничил свое существование частной жизнью и благотворительностью. Два года спустя умерла его жена Мария-Жозефа Саксонская, и дело воспитания будущего короля, тринадцатилетнего круглого сироты, легло на деда – Людовика XV. Не имея на то времени и к тому же сознавая, что по своим моральным качествам абсолютно не подходит для такой задачи, тот устранился от нее полностью.
Гувернером дофина с малолетства был старинный друг его отца герцог де ла Вогюйон. Дельный и глубоко набожный офицер, он был человеком ограниченным и тщеславным, не без склонности к интригам и интрижкам. Почтенный знаток грамматики аббат де Радонвилье был наставником принца; высокая обязанность обучать дофина глагольным спряжениям немедленно обеспечила ему место во Французской Академии. В образовании наследника участвовали также два известных проповедника-иезуита: отец Бертье и отец Крус; однако вскоре в связи с изгнанием иезуитского ордена их место занял аббат Сольдини, человек достойный, но несколько твердолобый.
Ученик обладал ординарными способностями, добрым сердцем, крепким здоровьем, простыми и честными жизненными правилами. Благодаря трудам де Радонвилье он был широко образован: хорошо знал историю, свободно владел латынью, читал и разговаривал по-немецки и по-английски и будто бы испытывал живейший интерес к географии.
К сожалению, все его достоинства сводили на нет какая-то душевная апатия, нервная усталость, доводившие его врожденную застенчивость и неловкость до предела. В нем жила болезненная убежденность в собственном ничтожестве, что вовсе не соответствовало действительности. Он считал себя полной посредственностью и абсолютно не верил в себя. Он находил себя гораздо глупее своего младшего брата, сотоварища по занятиям, имевшего склонность к острословию, – будущего Людовика XVIII. Один придворный льстец однажды вслух восхищался ранними успехами дофина. «Вы ошибаетесь, – ответил тот не без горечи, – умен вовсе не я, а мой брат». К несчастью, вместо того чтобы подбадривать юношу, г-н де Вогюйон его постоянно бранил и унижал, что причиняло наследнику глубокие страдания.
Чему же учили этого принца, которому через несколько лет предстояло столкнуться в борьбе с самыми отпетыми реформаторами? Ему внушали, что, став королем, он должен решать все сам, даже если его мнение будет идти вразрез с общим; ему объясняли взаимозависимость государственности, религии и естественного права; в духе Боссюэ и Фенелона ему истолковывали традиции и основные законы французской монархии – эти законы не предусматривали ограничения верховной власти, искони принадлежавшей королю. Короче, все это было старой традицией единовластия, какой ее постепенно выработали Карл VII,[134]134
Карл VII (1403–1461) – король (с 1422), при котором благодаря гению Жанны д’Арк Франция была освобождена от англичан; после победы стремился упрочить военную и политическую систему страны.
[Закрыть] Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV. Под руководством наставника ученик формулировал в своих «Размышлениях» следующее принципиальное положение: «Основание всякого рода власти покоится только на личности короля. Никакой частный человек, никакое сообщество людей не могут быть независимы от его авторитета». Такие правила – весьма негодный багаж для того, кто первым в истории Франции будет вынужден сражаться с революционной Ассамблеей, страстно желавшей лишить его всех прерогатив.
По воле злой судьбы принц был послушен и прилежен; он воспринял этот урок как Евангелие и проникся им до глубины существа. Интересно, читал он, по крайней мере, «Дух законов»[135]135
«Дух законов» – изданное в 1748 г. в Женеве фундаментальное сочинение Шарля-Луи Монтескье, философа и писателя, сильно повлиявшего на политическую и культурную жизнь Европы XVIII в. В нем он рассматривает бесконечное разнообразие законов как результат различных природных и исторических условий, в которых формировались разные типы государственного устройства. Осуждая систему сословных привилегий, погубивших, по его мнению, французскую монархию, он ратует за конституционную форму правления.
[Закрыть] или «Общественный договор»?[136]136
Трактат Руссо «Об общественном договоре» (1762) претендует вскрыть причины происхождения социального неравенства, возникшие, по его версии, от изначальной несправедливости заключенного меж людьми общественного договора. Из этого следует необходимость создания нового договора, основанного на абсолютном равенстве. Утверждавшая непогрешимость «общей воли» народа, эта книга послужила рычагом для революционеров.
[Закрыть] Взял ли кто-нибудь на себя труд уведомить его, что на свете рождаются и мгновенно разносятся по миру новые идеи? Я лично в этом сомневаюсь, и исследование Мариуса Сепе, посвященное жизни и личности Людовика XVI, не дает оснований для положительного ответа. В то время как все умы во Франции двинулись по одной дороге, сознание будущего короля упрямо следовало в противоположном направлении, а его наставники даже не поставили его в известность о существовании этих других путей.
Но все это – из области теорий… В практические же дела государства Людовик XV своего внука абсолютно не посвящал. И кто бы мог это делать? Министры тоже держали дофина в стороне, он же при своем пассивном характере смиренно сносил положение политического нуля. Семнадцати лет в пышном и распущенном Версале он вел монотонную и скучную жизнь, часто охотясь, очень много читая, занимаясь благотворительностью и прилежно посещая молебны.
И вот еще что: его дед официально держал любовницу низкого происхождения, уличную девку, превращенную в подобие французской королевы. Его не пристало осуждать: ведь он король, а все, что делает король, должно уважать. Но постоянное совместное сосуществование с куртизанкой травмировало религиозное чувство дофина; он часто уходил в кузницу, предпочитая обществу прекрасных дам из королевского окружения беседу с мастером-литейщиком Гаменом[137]137
Гамен – придворный слесарь, обучавший Людовика своему ремеслу: будущий король мастерил сложные замки и даже художественные поделки.
[Закрыть] или компанию псарей: их он, по крайней мере, не стеснялся.
Когда же был решен вопрос о предстоящей женитьбе, и он узнал, что ему подыскали самую очаровательную, темпераментную, даровитую, кокетливую, но одновременно и самую ветреную из принцесс, он не ощутил от этой перспективы ни малейшей радости. Он воспринял грядущие события как тягостную повинность, и его застенчивость заранее страдала в предвидении длинной череды обязательных церемоний. И не помешает ли все это его любимым охотам?
В момент знакомства с невестой он, как известно, ограничился краткими фразами, пообещав в ближайшем будущем выразить свое расположение более красноречивым образом.
Но одинаковое отвращение, питаемое молодоженами к фаворитке, к «этой твари», породило в них, за неимением любви, взаимопонимание. Они часто злословили о ней наедине, пока не обнаружили случайно, что за дверью их подслушивает де ла Вогюйон, после чего, впав в привычную меланхолию, дофин вернулся в свою кузницу.
Немногие эпизоды нашей истории сравнятся по трагизму с той сценой, что разыгралась в Версале 10 мая 1774 года. В королевской комнате на первом этаже замка агонизирует Людовик XV. Болезнь заразна, и дофин с женою не могут находиться рядом; они томятся в другом крыле дворца. Ежеминутно к ним приносят вести. Конец близок; придворные ждут последнего вздоха как развязки. Дофин меряет комнату большими шагами, с болезненным вниманием ловя перешептывания и громко моля небо отдалить час его вступления на престол. Трон страшит его. «Мне кажется, весь мир сейчас обрушится на меня», – произносит он.
Внезапно зажженная в одном из окон комнаты умирающего свеча гаснет… Это условный сигнал… И немедленно громкий возглас: «Да здравствует король!» – разносится по коридорам и галереям замка; лавина придворных скатывается по лестницам, торопясь к новым властителям. Те, кто в толчее входит первым, застают Людовика XVI и Марию-Антуанетту на коленях. «Боже милосердный, защити, сохрани нас, – рыдая, повторяют они. – Мы слишком, слишком молоды и неопытны, чтобы царствовать!»
И, кажется, в тот самый миг с проницательностью отчаяния король понял, что именно надлежало ему уметь и чему его так никто и не научил.
Коронация
Прибыв 9 июня 1775 года в Реймс для предстоящей коронации, Людовик XVI сразу же ощутил тяжесть уготованного ему испытания. Человек сугубо домашний, застенчивый, неловкий, бедный король испытывал перед торжествами и парадами настоящий страх. О том, чтобы избежать их, уже нельзя и мечтать: подготовка к церемонии ведется более полугода, город битком набит съехавшимися со всего света любопытными.
У городской заставы короля заставили выйти из берлины,[138]138
Берлина – дорожная коляска с большими окнами и откидывающимся капотом, изобретенная в Берлине.
[Закрыть] в которой он проделал путь от Компьена, и усадили в восхитительный экипаж из сплошного стекла, внутри обитый алым шелком, – настоящая карета феи. В нее впряжены восемь украшенных роскошными попонами и плюмажами коней. Под звуки фанфар, барабанов, приветственные крики и колокольный звон вслед за сказочным экипажем в путь трогается грандиозный кортеж. Через каждые сто шагов – остановка: король делает вид, что вслушивается в торжественные речи и любуется триумфальными арками. Из-за близорукости он многого не различает и, как всегда в этих случаях, усердно изображает восхищение.
Но мыслями он далеко: его вера и благочестие слишком искренни, чтобы он был в состоянии относиться равнодушно к чуду, которое вот-вот должно с ним произойти. Он твердо знает, что через два часа сам Господь осенит его своим священным прикосновением: ему предстоит принять помазание тем самым миром, которое тринадцать веков назад в момент коронования Хлодвига[139]139
Хлодвиг I (ок. 466–511) – основатель в V в. франкской монархии (король с 481), принявший в 496 г. христианство и крещенный св. Ремигием в Реймском соборе.
[Закрыть] принесла в своем клюве спустившаяся с небес голубка; отныне для доказательства истинного избранничества Божия ему достаточно будет лишь коснуться больных – и те исцелятся.
Попробуем вообразить чувства стоящего на пороге такого перевоплощения человека. Вряд ли нам удастся это. Ведь он убежден, что не является простым смертным, как другие, что он – существо высшего порядка, избранное и призванное Богом вести лучший из народов по предначертанному пути. И каждый момент коронационной церемонии имеет своей целью укрепить в новом короле это убеждение. За семь столетий ничто не изменилось в ней, и Людовик XVI собирается подчиниться ритуалу с набожным послушанием. Испытание это нешуточное, оно требует сверхчеловеческой выносливости и отработанной, как в балете, точности движений; сыграть эту роль тем более трудно, что репетиций не бывает.
11 июня все начинается в шесть утра: два прелата, предваряемые процессией из каноников с горящими свечами, детским хором и певчими из главной и нижней церкви, движутся в епископский дворец, где остановился король. Сумел ли он заснуть в ту ночь? Маловероятно.
В настоящий момент одетый в сутану из серебряной парчи, он покоится на постели, на голове у него треугольный черный берет с белым плюмажем, в который вставлено несколько темных перьев цапли. Вокруг постели стоят первейшие персоны двора в одеждах времен седой старины.
Дверь королевской комнаты заперта. Приблизившись к ней снаружи, главный регент собора стучится своим посохом. Изнутри слышен голос главного камердинера: «Кто надобен вам?» – «Король». Голос отвечает: «Король почивает». Через несколько мгновений главный певчий стучит снова; тот же вопрос, тот же ответ. Певчий стучит в третий раз, но теперь уточняет: «Нам надобен данный Богом король Людовик XVI». Дверь тут же отворяется; подойдя к монарху, оба прелата помогают ему подняться с ложа и встать на ноги. Символика действия очень прозрачна: король продолжал спать, поскольку еще не сподобился Божественного помазания, и именно церковные сановники, которые одарят его благодатью, прерывают ритуальную летаргию.
Тем временем формируется королевский кортеж: солдаты с алебардами, швейцарская гвардия; музыканты с трубами, барабанами, гобоями, флейтами, дудками; герольды, камергеры, камер-юнкеры, кавалеры ордена Святого Духа, наряженные в серебро, золото, шелк, бархат и кружева. Дивное зрелище! По крайней мере, в пересказе.
В действительности многое, конечно же, нарушало благолепие: король маловат ростом, несколько тучен, ходит вразвалку, у него набрякшие веки, мясистый нос и толстые губы. Здесь был бы надобен какой-то более совершенный принц, прекрасный и одухотворенный, как Мессия.
Среди участников кортежа тоже слишком много больных и старых. Коннетаблю де Клермон-Тонеру уже восемьдесят шесть; два красавца-привратника стерегут его неверную поступь и, замечая, как он пошатывается, волнуются: сможет ли он свою трудную обязанность довести до конца. То тут, то там возникают споры из-за очередности в шествии: вот только что епископ Ланский, в митре и с крестом, занял место епископа из Бове, также обладателя митры и креста; тот противится, они начинают браниться, обвинять друг друга, толкаться, чем весьма шокируют окружающих. Но все это мелочи. Толпы людей, разинув рты, глядят на феерическую процессию, иные в экстазе опускаются на колени. Меж тем кортеж достигает собора и, вливаясь густой массой, заполняет все его пространство. Двери закрываются.
* * *
Мы не в состоянии не только описать, но даже перечислить все моменты грандиозной церемонии. В продолжение пяти часов король будет раздеваться, одеваться, снова раздеваться, переходить из рук в руки, к нему будут всяческим образом прикасаться, его будут теребить, поворачивать туда-сюда, как манекен; ему надлежит повергаться ниц, вновь подниматься, неоднократно он должен преклонять колени перед епископом – в память фразы св. Ремигия, приказавшего Хлодвигу наклонить голову перед крещением: «Склонись, гордый Сикамбр!»[140]140
Сикамбры – название древнего германского племени, к которому, видимо, принадлежал Хлодвиг.
[Закрыть] Королю предстоит поочередно подставлять для святого помазания лоб, живот, спину, правое плечо, левое плечо, внутреннюю поверхность локтей, запястий и ладони. Затем ему надо вновь надеть тунику, далматику, мантию и принять тяжесть короны Карла Великого[141]141
Карл Великий (742–814) – король франков (с 768), коронованный папой в 800 г. императором; основатель династии Каролингов, сумевший объединить под своей властью почти всю Западную Европу.
[Закрыть] – момент особо ответственный, поскольку держащий ее священник останавливается на некотором расстоянии от монарха. Теперь по существующей со времен Филиппа-Августа традиции двенадцать пэров Франции должны взять ее одной рукой и возложить на голову короля. Тот чуть не падает под необычайным весом короны. «Она давит меня», – произнесенные им в тот момент слова трагически отзовутся впоследствии. Тут же корону заменяют более легкой, сделанной специально для этой церемонии и осыпанной бриллиантами. Затем ему в руку влагают «Отраду» – меч все того же Карла Великого; держать его надлежит острием вверх. Его обувают, к его бархатным башмакам прикрепляют золотые шпоры, на палец руки надевают кольцо. Наконец ему вручают скипетр.
И вот во всем этом облачении, влача за собой тяжелую мантию (тридцать квадратных футов горностая и шитого золотом бархата), мучимый царящей в церкви невыносимой жарой, он должен одолеть сорок ступеней лестницы, ведущей на амвон. Здесь, вознесшись надо всеми присутствующими, наконец он может сесть на особый трон без спинки и подлокотников, что означает: больше он не нуждается в поддержке.
Это был момент необычайно торжественный: зазвучал оркестр, грянули фанфары, загремели пушки, ударил большой колокол, и ко сводам взметнулись сотни выпущенных в церкви птиц… «Да здравствует король! Слава! Слава!» – возгласы поднимаются из самых недр старого собора, заполненного теперь простолюдинами, и это звучит так потрясающе, что королева (она выглядит очаровательно в своей золоченой ложе) не в силах удержать слезы, а все остальные аплодируют, словно в театре… Вслед за тем начинается месса, и длиться она будет долго.
Морис Ренар, уроженец и восторженный знаток Реймса, посвятил описанию этого события целый том, где сообщил целый ряд мелких, стыдливо замалчиваемых официальными источниками подробностей. Так, мы узнаем, что восьмидесятишестилетний коннетабль, изнемогши, все же упал, однако не причинив вреда ни себе, ни мечу Карла Великого, что находился в его трясущихся руках. Архиепископ Реймский, хоть ему было всего семьдесят девять, выглядел не крепче, и казалось, что и он вот-вот упадет в обморок. Оплошность допустил и брат короля граф д’Артуа, куда более озабоченный вниманием дам, чем добросовестным исполнением своей роли: глазея по сторонам, он уронил корону, она покатилась по ковру, а он, ожидая, когда ее снова ему подадут, бормотал в досаде: «Черт, ах черт!» – высказывание по меньшей мере неуместное при столь благолепных обстоятельствах. (Пройдет пятьдесят лет, и этому принцу придется вернуться сюда по личным причинам, чтобы принять помазание под именем Карла X.) Все также пересказывали нелепую фразу дряхлого архиепископа, чья бестолковость была общеизвестна: в конце службы король спросил, не слишком ли он устал. «О нет, Государь! Я готов повторить все сызнова», – прибавил он любезно.
В толпе всех этих статистов Людовик XVI чувствует себя неуютно. С какой радостью он предпочел бы быть сейчас на охоте и вдыхать свежую прохладу лесов! Но, хотя нескончаемая церемония его явно утомила, он покорно старается делать все должным образом. И даже в самые торжественные моменты он остается таким же добродушным и непритязательным, как обычно. Он не выступает королевской поступью, а идет вперевалочку, покачиваясь влево-вправо, вместо того чтобы горделиво скользить по прямой. Так что уроки, которые по настоянию королевы он брал в Опере у Гарделя,[142]142
Пьер Гардель (1758–1841) – потомственный танцор и хореограф, возглавивший постановку балетов при дворе и (с 1787) в Опере.
[Закрыть] не произвели ожидаемого эффекта. В своих бархатах и туниках он задыхается от жары, пот льет с него градом, и все же, оказавшись во время совершаемых эволюций возле трибуны жены, он не упускает случая послать ей ласковую улыбку.
Его выдержка поистине железна: ведь и по завершении коронации спектакль отнюдь еще не закончен; теперь объявляется королевский пир. Тут власть ритуального поведения, поклонов, приветствий столь велика, что король не смеет и притронуться к еде, что подносят ему под аккомпанемент труб и барабанов. Он должен еще показаться в городе верхом на коне, в сопровождении великолепной кавалькады. Потом ему надлежит возглавить капитул рыцарей Святого Духа, затем исцелить своим прикосновением две тысячи четыреста золотушных в больнице; это он делает с чувством удовлетворения. Да он просто запрыгает от радости, когда сможет, наконец, снять с себя парадную мантию и расправить плечи; их будет ломить еще двое суток.
Переодевшись в повседневное платье, об руку с королевой он отправляется теперь на прогулку в Лес любви, так называется любимое загородное место жителей Реймса. И здесь толпа окружает его и теснит. Ах, как молода и красива королева! Как она приветлива и до чего любезна! Она легко вступает в разговор с простыми людьми: горожанами, мужиками, виноградарями и их женами, ласково обращаясь к ним: «Милая», «милый». Ее обожают.
К Людовику XVI относятся с приязнью, но находят его недостаточно величественным: ведь он совсем не выделяется из окружающей толпы. «Чего? И вот этот-то – наш король?» Чтобы на него взглянуть, многие проделали длинную дорогу. Например, вот этот юноша, лет шестнадцати, не больше, он еще учится в школе. Он прошагал весь путь из Труа, его одежда запылилась, и лицо осунулось от усталости. К тому же он явно некрасив: его портят заячья губа и чересчур выпуклый лоб. Может быть, это он только что разочарованно воскликнул: «Вот тот – король?» И если бы тогда Людовику XVI пришло в голову дружески спросить его имя, он услышал бы в ответ ломающийся, но уже звучный и властный голос: «Меня зовут Дантон,[143]143
Жорж-Жак Дантон (1759–1794) – один из вожаков Великой французской революции, член Конвента и Комитета общественного спасения, казненный на гильотине. Однако в ту пору он, как и все будущие революционеры, еще был убежденным роялистом.
[Закрыть] Ваше Величество. Я весь к Вашим услугам».








