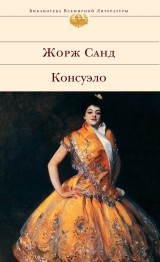
Текст книги "Консуэло"
Автор книги: Жорж Санд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 66 страниц)
Глава 6
Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и свои новые увлечения – Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, – далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которою эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.
И вот в тот самый вечер, когда Андзолето так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами своей любовницы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и, для собственного успокоения, направился во дворец, где жила Корилла.
Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, устанавливавшим гондолу примадонны под портиком, специально для этого приспособленным. Несколько золотых развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник, выяснить же, кто именно, ему так и не удалось: гондольеру этот человек был неизвестен; хотя он и видел сотни раз Андзолето бродящим около театра и дворца Дзустиньяни, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он его не узнал. Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим соперником – единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных ухаживаний, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в зал, где должны были собраться молодые ученицы.
Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзустиньяни уже не был его музыкальным противником, – напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, – нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на преподавание и распространение серьезной музыки. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.
– Дорогой маэстро, – сказал граф, отводя его в сторону, – необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей succeditrice . (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.) – У меня нет того, что вам нужно, – сухо ответил Порпора.
– Как, маэстро! – воскликнул граф. – Вы опять впадаете в вашу черную меланхолию? Возможно ли, чтобы после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом, отказали мне в самом маленьком одолжении?
– Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, – истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является серьезным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке.
– Все это так, – сказал граф, – но ведь мы сами создали Кориллу: мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть очаровательные ученицы, не хуже ее. Уж этого вы не станете отрицать! Согласитесь, что Клоринда – красивейшее создание в мире.
– Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима». Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние… А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим.
При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолето, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс (якобы для того, чтобы переговорить с ним) и, стоя поблизости, слушал во все уши.
– Все равно, – сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, – я стою на своем. Давно я не слышал Клоринды. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Андзолето, – прибавил он, смеясь, – ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что профессор и я ждем их здесь.
Андзолето повиновался. Но, шалости ради или с иной целью, он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак Руссо мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая».
К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.
– Что за великолепные волосы! – шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.
– На этой голове гораздо больше, чем внутри, – ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.
Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певших самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».
– Если б ваше сиятельство позволили мне сказать вам два слова насчет того дела, которое так вас беспокоит… – шепнул Андзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.
– Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем? – спросил граф.
– Да, ваше сиятельство.
– В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?
– В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда вы, ваше сиятельство, делаете смотр своему женскому батальону.
– Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, блеска которого мои глаза никогда еще не видели? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку…
– Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет в хоре, когда бывает нужно; профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.
– Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?
– Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.
– И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?
– Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили выгнать ее, если только она появится среди них…
– Так, значит, это девушка дурного поведения?
– О боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения… как и я, ваше сиятельство, которого, однако, вы милостиво приближаете к себе. А эти злючки грозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.
– Где же послушать это чудо?
– Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.
– Твоя уверенность невольно заставляет меня поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь припомнить, но…
– В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina»
Перголезе…
– Вспомнил! – воскликнул граф. – Голос, выразительность, понимание необыкновенные!
– И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.
– Да, но… помнится, она некрасива.
– Некрасива, ваше сиятельство? – переспросил изумленный Андзолето.
– Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое странное имя…
– Консуэло, ваше сиятельство.
– Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашей любовью. Консуэло! Так, так… любимица профессора, умница, но очень некрасива.
– Некрасива? – повторил ошеломленный Андзолето.
– Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?
– Она моя подруга, ваше сиятельство.
– «Подругой» мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?
– Сестра, ваше сиятельство.
– Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто уродлива.
В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолето все стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Она уродлива!»
Глава 7
Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, а между тем это правда, что у Андзолето не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой – привлекательной или неприметной – проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолето: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолето как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за «подругой» Андзолето. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или ее наружность никого не прельщала? Наиболее правдоподобно последнее предположение.
А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы «переделываются», по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то по крайней мере миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она слишком рано бывает хорошенькой…
Возмужав, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле не была уже некрасивой. Но так как она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, кричащие о том, как со дня на день расцветает красота царственного ребенка, так как некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолето: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».
Андзолето слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону – он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.
Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничивалась и мало-помалу, с течением времени, почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту разучивать свой урок и лакомиться рисом в обществе Андзолето, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в кафе, где она до сих пор выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но сраженной нуждою матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Любовь к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь – все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолето часто жаловался на это, но, видя, что его упреки бесплодны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолето не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолето, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущенность – не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Спасшись от порочных страстей, конечно, только из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за ученье, но это уединение показалось ему тягостным и тоскливым. Он почувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться сквозь землю к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд – наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие – тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Но оно им незнакомо: даже когда кажется, будто они предаются праздности, они и тогда работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что они в это время создают что-то, тогда как в действительности они только выявляют то, что уже создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я могу ответить тебе, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось проследить на примере собственного бедного разума божественную тайну этой умственной работы! Но, увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.
Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолето, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолето, даже не отдавая себе в этом отчета, сам того не понимая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия – всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища знания Андзолето похитил у Консуэло. Объясняется это тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолето, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с прыткостью котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.
Эти предосторожности принимались и позже, когда Консуэло сделалась сиделкою у постели матери. Андзолето, не в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни вдохновляться, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую, сидячую жизнь и из вечера в вечер выслушивать колкости и испытывать на себе вспышки раздражения ее умирающей матери. Несчастная женщина за несколько месяцев до смерти стала меньше страдать и под влиянием своей набожной дочери сама смягчилась. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолето был ровный характер и приятные манеры. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец покорило сердце матери, и перед смертью она заставила их поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолето дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя – другом, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и, не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже видели, взяла особую клятву с Консуэло, что та не будет принадлежать своему возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за неверия и независимого характера Андзолето.
Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, видя в ней их общую с Андзолето будущность. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила одна на своем чердаке, юная пара встречалась ежедневно, но Андзолето не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.
Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки настолько успел развить в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, они могут добиться блестящей будущности. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее привычках. Она была готова заниматься музыкой исключительно по призванию, и общность интересов, возникавшая у нее с Андзолето благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, даже не предупредив ее, Андзолето вдруг решил ускорить осуществление их мечтаний. В ту минуту Дзустиньяни был озабочен, кем заменить Кориллу, и, с редкой проницательностью угадав мысли своего покровителя, юноша сделал неожиданно то предложение, о котором уже шла речь.
Уродливость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибался, внесло страх и смятение в душу Андзолето. В таком состоянии побрел он на Корте-Минелли. Останавливаясь на каждом шагу, он силился представить себе образ подруги и все спрашивал себя: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»








