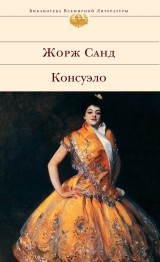
Текст книги "Консуэло"
Автор книги: Жорж Санд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 66 страниц)
Глава 30
Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми, с которыми уже успела несколько освоиться, и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе – это было решено ею заранее – и, рассказывая об условиях, среди которых ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в них играла. Тщетно старалась любопытная Амелия заставить ее больше рассказать о себе, – Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Для этого было много причин: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолето, начав ее разыскивать, не мог напасть на ее след, – совершенно излишняя предосторожность, так как Андзолето после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный своими дебютами и своим успехом в Венеции.
С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простые набожные люди об ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, не давая никому догадаться о блеске и горестях своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось – и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души; а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой ею между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой деятельной жизни. Эта перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, выдавая себя за другую, стать каким-то новым существом.
Это полное отречение от всяких радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья, – говорила она себе, – счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, довольствующиеся похвалами и тешащиеся торжеством, – мое не из таких: мне слишком дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть несколько друзей!..»
Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви; прежде чем выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он не достаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция и что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.
То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. Это было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом.
Словом, теперь то была уже не скрытая, еще не понятая красота этой scolare Zingarella или блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, – то была нежная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководится святостью своих побуждений.
Ее хозяева, простые и сердечные старики, движимые врожденным благородством, вдыхали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на их духовную атмосферу из ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло – в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему от природы. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно опускался вечером в свое кресло, согбенный тяжестью лет и горя, все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы центр своей семьи, и принимал участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.
– Видно, господь услышал наши горячие молитвы, – обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. – Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.
– Да, возблагодарим господа! – проговорил старый граф. – Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но мне в течение всего дня, а особенно вечером, казалось, что мой сын излечился навсегда.
– Простите меня, – заметила канонисса, – но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, считая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда думала, что он во власти двух противоположных сил, оспаривающих одна у другой его душу: ведь часто после речей, как будто внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы и особенно его последние слова перед уходом: «Благодать господня снизошла на этот дом». Альберт почувствовал, что над ним свершается чудо милосердия божьего, и я верю в его исцеление.
Капеллан был слишком боязлив, чтобы сразу согласиться с таким смелым предположением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким изречениям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в бога», и к разным другим – более утешительным, чем новым.
Граф Христиан колебался между желанием согласиться с аскетическими воззрениями сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкой и осторожной ортодоксальности капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить бога, если бы ее об этом спросили.
Наблюдения Амелии были более точны. Для нее было очевидно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрывать беспорядочность своих мыслей перед людьми, не внушающими ему доверия или, наоборот, пользующимися его особенным уважением. Перед некоторыми друзьями и родственниками, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амелия, мучимая тайной досадой, попыталась разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.
– Ах, друг мой, – сказала она, – не доверяйте этому обманчивому спокойствию; это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы чужая воля предназначила вас в жены подобному духовидцу, если бы, чтобы победить ваше молчаливое сопротивление, был составлен молчаливый заговор и вас держали бы до бесконечности пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если б вы должны были ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, – вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.
– Мне кажется просто невероятным, – сказала Консуэло, – чтобы вас могли принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир ваших родных.
– Меня ни к чему не могут принудить, – они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному богу известно, когда в них умрет наконец безумная надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первые дни своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, раз двадцать уже решенный, но не осуществленный. Ах, Нина милая, если б вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы этим оказали бы мне величайшую услугу.
– К сожалению, я только могу развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным и снотворным средством.
– Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа.
Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…
Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.
«Он был уже не нужен вам, – ответили ему, – и вернулся к своим делам.
Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»
«Я заметил, – ответил Альберт, – что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета – чего именно».
«Так вы очень страдаете, Альберт? – спросила канонисса.
«Да, очень», – ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал.
«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен? – в свою очередь спросил его граф Христиан.
«Очень», – тем же тоном ответил Альберт.
«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях, я бы немедленно избавил тебя от них?»
«Это так мало прибавляло к моему горю, – ответил Альберт с ужасающим спокойствием. – Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но то, что вы удалили бы аббата, мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверно, заменили бы его другим надзирателем».
«Скажи лучше – товарищем по путешествию; при моей любви к тебе, сын мой, мне больно слышать слово „надзиратель“.
«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где, по воле провидения, я должен был бы жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и, хотя я лучше понимал, что полезнее для нас с вами, я должен был вам повиноваться. Сознавая свой сыновний долг, я его выполнил».
«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но разве ты не можешь выразить свою мысль яснее?»
«Это очень легко, – ответил Альберт, – и настало время сделать это». Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его наконец перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласками и взглядами впервые в жизни открыть свою душу. По-видимому, он решил довериться нам, и вот что он поведал:
«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чувствуй я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, раскрыл бы пропасть, разделяющую нас, и доказал вам, что, в то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло сферу истины и света. Но, не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, верования и благополучие, вы не были бы в силах понять меня. Когда невольно в порыве восторга у меня вырывается несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума – все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек слишком любящий и слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению моей судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понимаете ли вы меня теперь?»
Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт создал для себя религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных, но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление о некоторых особенностях его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слышала об этом, и, правду сказать, бесконечные пререкания на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от Альберта более подробных разъяснении, но их так и не последовало.
«Я вижу, – сказал наконец Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, – что вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-вашему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и убежище лишь в обещанном мне утешении».
«Что же это за утешение, сын мой? – спросил смертельно огорченный граф Христиан. – Не можем ли мы сами дать тебе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга?»
«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам только это и дано. И пусть небо будет свидетелем, что наше бесконечное, непоправимое разногласие никогда не уменьшало моей любви к вам».
«А разве этого недостаточно? – сказала канонисса, беря Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал ему другую руку. – Скажи, – продолжала она, – не можешь ли ты забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить любовью среди нас?»
«Я и живу ею, – отвечал Альберт. – Любовь – это благо, которое дает радость или горечь, в зависимости от того, одну ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враждует, – и это большое несчастье для всех нас! Я знаю, что вражда эта продлится еще века; вот почему в этом столетии я жду обещанного мне блага, которое даст мне силы надеяться».
«Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать мне?»
«Не могу, потому что оно неведомо и для меня самого. Но оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не возвещала мне этого во сне; и все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над скалой Ужаса; здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жижкой, я был охвачен гневом божьим и впервые стал орудием господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой скалы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольда. И это грозное искупление научило меня печали и состраданию, этот день роковой расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и душегубца, каким я был сто лет назад, в человека слабого, с нежным сердцем».
«Боже милостивый! – в ужасе воскликнула тетушка, осеняя себя крестным знамением. – Безумие снова вернулось к нему!»
«Не прерывайте его, сестрица, – остановил канониссу граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. – Дайте ему высказать все. Говори же, сын мой. Что сказал тебе ангел у скалы Ужаса?»
«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, – ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга, – и снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».
Бедный дядя поникнул головой. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она и ни один из ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажется, тетушка Ванда была тоже немного ясновидящей, чтобы не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю: никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспоминания.
Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор.
Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы ответить капеллану.
«Я говорю вам о божественном и вечном, – сказал он после некоторого колебания, – а вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, уже почти забытом мной».
«Говори же, сын мой, говори, – вмешался граф Христиан. – Дай нам узнать тебя сегодня!»
«Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в том, что вы называете этой жизнью. Но если вас интересует, почему я путешествовал, почему терпел этого неверного, невнимательного стража, которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной по пятам, как голодный, ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это. Довольно я помучил вас, нужно было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием, но необходимо было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, данным мне вами, и я предоставил ему возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему возможность поддерживать в вас надежду и спокойствие, сообщая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он гулял со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я отказался от той жизни, какую считал для себя правильной, я приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей я их учреждения. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только жертвы; теперь я стал относиться с состраданием и к палачам – жалким грешникам, искупающим в этой жизни преступления, совершенные ими в прежних воплощениях, и обреченным за это богом быть злыми, – пытка, в тысячу раз более жестокая, нежели та, которую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я раздаю милостыню только для того, чтобы облегчить бремя богатства для себя, себя одного, вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями, – я понял, что время быть счастливым еще не настало, так как, говоря языком людей, время быть добрым еще далеко».
«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя несчастий, которые ты постепенно устраняешь вокруг себя, не встречая препятствий своим великодушным порывам, – скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать из сердца тревогу?»
«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные, – проговорил Альберт. – Сегодня я больше ничего не скажу!»
И он сдержал слово даже на больший срок: он не раскрывал рта целую неделю.








