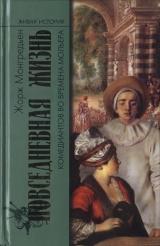
Текст книги "Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера"
Автор книги: Жорж Монгредьен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Вот так всего за несколько дней, в марте 1672 года, вероятно, 13-го числа, Люлли добился официальной отмены привилегии Перрена, который, как сказал Его Величество, не сумел «вполне поддержать его намерения и возвысить музыку до того уровня, который он себе наметил». Люлли разрешили «содержать королевскую академию музыки» в Париже на протяжении всей его жизни, «а после него его дети получат оную должность распорядителя камерной музыки по наследству, с правом брать компаньонов по своему усмотрению». Отметим, что Академия музыки впервые была названа королевской; это значит, что Людовик XIV намеревался взять ее под свое покровительство, как и все прочие академии. Люлли, а после него – его наследник были ее всемогущими директорами.
Все те, кого новая привилегия Люлли лишала их собственных прав, – Сурдеак, Шамперон, Гишар, Саблиер, а также Мольер – воспротивились ее утверждению. Но Люлли не позволил завлечь себя в дебри судебных разбирательств.
30 марта Людовик XIV приказал Ла Рейни закрыть театр на улице Фоссе-де-Нель, уничтожив, таким образом, одним росчерком пера соперничество со стороны Сурдеака и Шамперона. 14 апреля Королевский совет признал действительной привилегию Люлли, «несмотря на несогласие». Кольбер лично замолвил слово за Люлли перед председателем парламента Ламуаньоном и докладчиком. Воля короля была ясна: его фаворит должен выиграть процесс. 27 июня парламент послушно вынес постановление о том, чтобы зарегистрировать привилегию в обмен на компенсацию Сурдеаку и Шамперону за декорации и машины. 20 июля новое постановление избавляло Люлли от выплаты этой компенсации, оставляя его противникам в собственность зал для игры в мяч на улице Фоссе-де-Нель, декорации и машины.
12 августа (заметьте, как быстро разворачивались события) Люлли арендовал на восемь месяцев зал для игры в мяч «Беке» на улице Вожирар, который некогда снимал Перрен и откуда Оперу изгнали еще до окончания ремонта. В тот же день король своим ордонансом запретил актерам арендовать зал на улице Фоссе-де-Нель; это значило задушить Сурдеака и Шамперона, которые отказались от компенсации, чтобы сохранить декорации; теперь декорации оказались бесполезны, поскольку им было официально запрещено использовать единственный обустроенный и свободный зал в Париже. Королевский ордонанс также запрещал комедиантам использовать для представлений более шести скрипок и двенадцати певцов. Просьба Мольера, таким образом, была удовлетворена лишь частично.
2 сентября Перрена, наконец, окончательно выпустили из Консьержери; таким образом, он, если бы захотел, мог присутствовать при торжестве своего преемника, работавшего со знаменитым декоратором Вигарини. В ноябре 1672 года музыка Люлли звучала на всех парижских сценах: в то время как в Пале-Рояле с успехом возобновили постановку «Психеи», Опера на улице Вожирар открылась «Празднествами Амура и Вакха» – поспешной переделкой уже сыгранных пьес, в частности, комедий-балетов Мольера; но только весной 1673 года Люлли, распорядитель камерной музыки короля, директор королевской Академии музыки, поставил первую большую оперу, достойную этого названия, – «Кадм и Гермиона» по либретто Кино. Присутствие Людовика XIV 27 апреля наглядно показало, какой интерес король проявлял к опере.
Он не замедлил предоставить Люлли новые блестящие доказательства своего покровительства. Мольер умер 17 февраля 1673 года, практически впав в немилость. Четыре дня спустя, 21 февраля, за несколько часов до того, как его прах упокоился в освященной земле, клочок которой едва-едва удалось вымолить его друзьям, король, пересмотрев свои более либеральные распоряжения, подписал по просьбе Люлли ордонанс, запрещающий актерам использовать более двухпевцов и шестискрипок. Видно, с каким упорством, да и поспешностью Люлли ковал железо, пока горячо. Ради него Людовик XIV предал Мольера в самый день его похорон, забыв об удовольствиях, которые великий комик дарил ему пятнадцать лет, и о том блеске, который он придал его двору. Но Люлли был человеком дня, и Людовик XIV в своей королевской неблагодарности в отношении памяти Мольера бесплатно предоставил ему 28 апреля 1673 года зал Пале-Рояля, который занимала труппа покойного драматурга.
Лишившись своего руководителя, она, в свою очередь, заняла зал для игры в мяч «Бутылка» на улице Генего, где и ей тоже, как мы видели, пришлось иметь неприятные дела с Сурдеаком и Шампероном.
Все это время Люлли находился на вершине успеха и продвигался к славе. Если вспомнить, с какими материальными трудностями пришлось сражаться несчастному Перрену, можно только подивиться, каких великолепных условий флорентиец добился для своей королевской Академии музыки: даровой зал, декорации и костюмы, оплаченные королем, ибо его оперы представляли при дворе, прежде чем показать парижанам; из сделанных сборов он платил только певцам и музыкантам. Устранив всех конкурентов, пожертвовав даже дружбой ради своего безудержного честолюбия, Люлли оказался единовластным господином Парижа в сфере музыки – после жестокой четырехлетней борьбы, повлекшей столько жертв.
Глава девятая
Театральное представление
Нам уже знакомы разные театры, между которыми мог выбирать парижский зритель в XVII веке, игравшие в них труппы, ведущие трагики и комики. Посмотрим теперь на каждодневную работу этих трупп и смешаемся с публикой, чтобы взглянуть, как актеры занимаются своим ремеслом на сцене.
В первой половине века дни представлений не были четко установлены, но совершенно точно, что спектакли не были ежедневными; в классическую эпоху были установлены «ординарные» дни работы театров – вторник, пятница и воскресенье, премьеры обычно давали по пятницам; но были и исключения; так, чтобы максимально использовать успех новой пьесы, играли во внеочередной день, часто удваивая цену за билеты; итальянцы же, делившие зал Пале-Рояля с Мольером, всегда играли в «экстраординарные» дни – понедельник, среду, четверг и субботу. Но начиная с 1680 года «Комеди Франсез», пользуясь своей исключительной привилегией в Париже, станет давать спектакли ежедневно. Было подсчитано, что если сложить драматические и оперные спектакли, за год парижская публика могла увидеть восемьсот представлений.
Полицейским приказом от 1609 года начало спектаклей было назначено на два часа дня, чтобы в любое время года представление заканчивалось до ночи, столь щедрой на неприятные сюрпризы. Но на деле спектакли всегда начинались с большим опозданием, поскольку опаздывающих зрителей было принято терпеливо ждать. Таким образом, давали только дневные представления, и никогда – после ужина, разве что если они устраивались при дворе.
О представлениях объявляли различными рекламными способами, о которых мы еще поговорим; естественно, им предшествовали репетиции, как и в наши дни. «Версальский экспромт» представляет собой очень живую картину одной из таких репетиций, на которой Мольер, директор труппы, предстает в своем амплуа режиссера, давая последние советы актерам, разбирая споры между ними, ибо распределение ролей вызывало соперничество и зависть. Эту деликатную проблему порой решали в договоре о создании товарищества, в котором распределялись «амплуа» – первые, вторые и третьи роли: королей, крестьян, первых любовников, комиков; в некоторых договорах даже пошли еще дальше, зафиксировав распределение всех ролей репертуара, с согласия всех участников соглашения. Но если директор пользовался авторитетом, он принимал решение самолично. Так было, например, в труппе Мольера, который, кстати, создал большинство персонажей своих комедий, имея в виду определенного актера своей труппы.
При постановке новой пьесы автор мог сказать свое слово, и порой ему удавалось назначить исполнителей главных ролей; Корнель сам выбрал дез Ойе на роль Софонисбы, а Расин – Дюпарк и Шаммеле на роли Андромахи и Федры. После 1680 года, когда «Комеди Франсез» попала в жесткую административную зависимость, конфликты, связанные с распределением ролей, улаживали обер-камергеры под руководством дофины.
Итак, войдем в зал Бургундского отеля или Пале-Рояля около двух часов дня, «пока еще не зажжены свечи».
О спектакле возвещали афиши на перекрестках. Они были небольшими, примерно 40x50 сантиметров, у Бургундского отеля – красными, у театра с улицы Генего – зелеными, у Оперы – желтыми; на них значились только заглавие пьесы и имя автора, исполнители ролей не указывались. Составление и печатание этих плакатов входили в задачу «оратора» (представителя) труппы.
Занавес еще опущен. Занавес? Кое-кто спросит: точно ли, что в залах XVII века сцену закрывал занавес? Специалисты долго об этом спорили. Существование занавеса подтверждается письменными и графическими документами начала века – для придворных балетов. В городских театрах занавес, наверняка не существовавший в начале века, тоже вскоре появился. Занавес из двух частей, раздвигающихся в обе стороны сцены, изображен на гравюре о представлении «Мирамы» в Пале-Кардиналь в 1641 году. Во время ремонтных работ 1647 года в Бургундском отеле в смете была четко обозначена установка перекладины над сценой «для подъема занавеса», поднимавшегося снизу вверх. Примерно в ту же эпоху в театре Марэ тоже был занавес, закрывавший всю сцену перед представлением. Так что сегодня в этот вопрос внесена ясность: в каждом театре был занавес, но, вероятно, его не опускали во время антрактов, если не надо было менять декорации. Возможно, в «пьесах с машинами» дело обстояло иначе, ведь там происходили существенные смены декораций.
И вот мы в плохо освещенном зале, понаблюдаем за публикой. Современный зритель больше всего бы удивился, увидев после подъема занавеса, что некоторые зрители сидят на плетеных стульях прямо на сцене. Впрочем, это знатные, богато одетые люди, служащие театру «роскошным украшением», как считал добрый Шаппюзо. Некоторые из привилегированных зрителей злоупотребляли этой вольностью, как тот, которого Мольер вывел в «Несносных», ставя свое кресло посреди сцены, перед актерами, вместо того чтобы расположиться сбоку. Эти лучшие места были и самыми дорогими. Из письма Мондори, которое мы уже цитировали, можно понять, что этот обычай восходит к первым триумфальным представлениям «Сида».
Однако следует заметить, что ни Ла Менардьер в своей «Поэтике» (1640), ни аббат д’Обиньяк в «Театральной практике» (1657) не намекают на этот обычай, который, похоже, тогда еще не принял повсеместного распространения, но постепенно прижился в Итальянском театре, а позднее – в опере, что вызывало у современников справедливые протесты. Тальман де Рео видел в этом «жуткое неудобство». А аббат де Пюр усматривал в такой практике источник невыносимой путаницы:
«Сколько раз на словах „вот и он“, „я вижу его“ за актера и ожидаемого персонажа принимали хорошо сложенных и хорошо одетых людей, которые в этот момент входили в театр и искали свои места, тогда как несколько сцен уже было сыграно!»
Только с появлением Вольтера с этим возмутительным злоупотреблением, не прекращавшимся во весь XVII век, было покончено.
Но маркизы в шелках и лентах, занимавшие места на сцене, сильно контрастировали с остальной публикой, которая тогда была очень пестрой. Конечно, красивые разодетые женщины блистали в своих роскошных ложах, но если мы смешаемся с публикой из партера, которая, напомним, оставалась на ногах, мы встретим там праздношатающихся, слуг, пажей, мушкетеров, ремесленников, студентов, рассыльных из лавки, многие из которых, пользуясь толкотней у входа, просачивались в зал, не платя. Королевский эдикт от 1673 года запретил такие злоупотребления, но, возможно, не пресек их. Среди этих бездельников затесались несколько проходимцев, воров и карманников. Эта простонародная публика – бурливая, больше интересующаяся фарсами, чем благородной трагедией, – окликала друг друга, осыпала других зрителей насмешками и порой затевала настоящие драки, требовавшие вмешательства караула. Часто эти люди принимались играть в карты или в кости. Как только поднимался занавес, именно из партера слышались гул голосов, безудержные аплодисменты или свистки; те, кто были в глубине зала, плохо видели происходящее на сцене и едва могли слышать актеров. Зал наполнялся шумом, и зрители с верхних рядов амфитеатра тоже вносили свою лепту в это брожение и гомон. Театр по-прежнему оставался общественным местом, где собиралась пестрая и шумная толпа. Даже на исходе века в театре вспыхивали скандалы и драки.
Сорель в 1642 году писал:
«Партер весьма неудобен из-за давки, которую устраивает там тысяча негодяев, и даже порядочные люди, которым они порой наносят оскорбления, а затеяв ссору из-за пустяка, хватаются за шпагу и прерывают весь спектакль».
В том же году Гильом Коллете говорил о «скандальных вызовах», которые устраивают в партере, «не считаясь с порядочностью и стыдливостью дам», а также о разворачивающихся там «ссорах и драках», и даже совершаемых «убийствах». Аббат д’Обиньяк утверждал, что «театр мало посещали порядочные люди, он по-прежнему считался порочным развлечением». Однако Мольер заявлял, что доверяет суждению именно этого поносимого партера, который в большей степени, чем ученые или светские завсегдатаи лож и галерей, олицетворял для него собой народный здравый смысл.
Наконец, после того как из партера неоднократно выкрикнут: «Начинайте! Начинайте!», занавес поднимается. Шутливый пролог, который какой-нибудь Брюскамбиль произносил в начале века, чтобы воодушевить публику, быстро сошел со сцены.
Представление начинается сразу же с главной пьесы – трагедии или комедии. Когда занавес поднят, сначала любуются декорациями, и нам нужно остановиться на этой важной составляющей спектакля, тем более что на протяжении века она претерпела глубокие изменения.
Действительно, в начале века театральные декорации, в соответствии со средневековой традицией, состояли из нескольких частей. Сцена разделялась на четыре-пять «домиков», каждый из которых изображал определенное место – площадь, дворец, зал, гору, лес или море, порой они были сильно удалены друг от друга в пространственном отношении. Таким образом, иногда «Франция была в одном углу театра, Турция – в другом, а Испания – посередине», писал аббат д’Обиньяк. По ходу пьесы актеры переходили от одной декорации к другой по просцениуму, оставленному свободным. Иногда некоторые из «домиков» скрывали раздвижными занавесями или раскрашенными холстами, которые открывались в тот момент, когда того требовало действие. Сохранилась «Записка» декораторов Бургундского отеля, Маэло и его преемников, в которой есть большое количество рисунков сепией этих множественных декораций с пометками, содержащими длинные перечни необходимых аксессуаров.
Но примерно с 1630 года наши драматурги переняли у итальянцев аристотелевское правило трех единств. Прежде всего начали соблюдать единство действия и единство времени; Мерэ первым сформулировал эти правила в предисловии к своей «Сильванире», опубликованной в 1631 году. «Медею» Корнеля (1635) и «Сида» (1636) еще играли в симультанных декорациях, чего, кстати, требовал текст. Но начиная с этой даты количество «домиков», которых раньше было пять-семь, сократилось до двух-трех. По мере того как единство времени (как правило, сутки, но на деле и того меньше) соблюдалось с большей строгостью, вынуждая актеров концентрировать театральное действие, появились и распространились единые декорации – знаменитый «универсальный дворец» трагедии, подходящий как для пьес о Древней Греции и Риме, так и о Востоке. Симультанные декорации исчезли к 1645 году.
Но от новых единых декораций, столь удобных для комедиантов, не требовали ни национального колорита, ни археологического соответствия. Да и сама режиссура была еще очень простой. Например, в «Смерти Кира» Розидора (1662) Томирис в четвертом акте кричит: «Ко мне, воины!» В этот момент с колосников спускают холст, на котором изображена армия, переходящая через мост в боевом порядке!
Надо признать, что зрителя лишили «услады взора», которую ему доставляли перемены сцен в театре, когда там представляли трагедии или пасторали, щедрые на непредвиденные ситуации и невероятные приключения. Но классический театр доставлял порядочным людям высшее удовлетворение своими драматическими и психологическими достоинствами. Литературное произведение доставляло новые радости утонченным умам, которых вполне удовлетворяла скупая единая декорация.
Но так обстояло дело с «правильными» трагедиями и комедиями, а для зрителей, не желавших отказаться от услады для взора, оставался особый жанр, на котором специализировался театр Марэ, и где, напротив, главная роль отводилась декорациям и машинерии: это фантасмагории, для которых требовался внушительный и ослепительный набор декораций. Итальянцы, в особенности прославленный Джакомо Торелли и ею преемник Карл Вигарини, поставлявшие декорации для королевских балетов и великолепных празднеств «Увеселения зачарованного острова», прослыли мастерами в устройстве такого рода зрелищ; именно в их школе французские декораторы и машинисты научились устраивать роскошные постановки, которые впоследствии перешли по наследству к опере.
У каждой труппы обычно имелся штатный декоратор; у Мольера сначала был Матье, а потом Жан Кронье. Но для постановки зрелищных пьес актерам приходилось обращаться к специалистам: живописцам для создания декораций, инженерам для разработки машин, которые авторы пасторалей и пьес на мифологические сюжеты использовали с давних пор. Было обнаружено некоторое количество договоров, заключенных актерами на оборудование такого рода, например, договор о «Золотом руне» Корнеля, подписанный актером из театра Марэ Франсуа Жювеноном по прозвищу Ла Флер, от имени маркиза де Сурдеака, в нормандском замке которого – Небуре – была поставлена пьеса. Шесть декораций, в том числе сад («наивеликолепнейший, какой только можно сделать», как сказано в договоре), и «жуткий дворец чудовищ» изготовил Никола Белло – ординарный королевский живописец.
Для постановки своего «Дон Жуана» Мольер обратился к двум художникам – Жану Симону и Пьеру Пра. Договор, который он с ними заключил, сообщает нам ценные сведения о шести декорациях, которые живописцы обязывались предоставить за установленную цену в 900 ливров. Каждая из них включала задник и рамы, от трех до пяти, с каждой стороны сцены, причем их высота, составлявшая восемнадцать футов на авансцене, уменьшалась, уходя вглубь сцены. Декорации к первому акту представляли собой сад, ко второму – «зеленый хуторок» с пещерой, к третьему – лес с храмом в глубине, к четвертому – храм изнутри, к пятому – комнату, последняя декорация представляла собой город. Поперечно натянутые полотнища изображали облака или своды. Но эти фразы из юридического документа, какими бы они ни были ценными, несмотря на свою сухость, не способны воссоздать богатство декораций и машин, восхищавших публику, все еще жадную до чудес и многочисленных перемен декораций.
Другие свидетельства позволят нам лучше себе их представить. Для знаменитого представления «Мирамы» Демаре, сыгранной в Пале-Кардиналь в 1641 году, кардинал Ришелье показал пример еще неслыханной роскоши. «Газетт» так описывала декорацию:
«Франция, да и, возможно, иноземные страны еще никогда не видали столь великолепной сцены, перспектива которой больше бы услаждала взор зрителя… Прелестные сады с гротами, статуями, фонтанами, большими клумбами, террасами, спускающимися к морю с перекатывающимися валами, казавшимися естественными для этой бескрайней стихии, и два больших флота, один из которых казался в двух лье от нас, оба открылись взору зрителей. Затем как будто настала ночь, и тьма незаметно спустилась на сад, море и небо, которое оказалось освещено луной. За этой ночью наступил день – так же неуловимо рассвело, и солнце обошло свой круг».
Сменивший Ришелье Мазарини с помощью итальянских декораторов еще усовершенствовал эти чудеса для представления «Мнимой сумасшедшей» и «Орфея», «вбухав» в них полмиллиона экю.
Вскоре после этого, когда театр Марэ стал специализироваться на зрелищных представлениях, постановки такого рода следовали одна за другой. «Андромеда» Пьера Корнеля, «Улисс на острове Цирцеи» Буайе и «Рождение Геракла» дали первый залп. Божества, летающие в небесах, бурное море с кораблями, звезды и молния в небе, горы, утесы, цветущие сады, пещеры, статуи, роскошные дворцы, ужасный ад или страшная тюрьма – все чудесные средства машинерии были пущены в ход, чтобы поразить зрителя.
У театра Марэ был свой штатный декоратор – Дени Бюффекен, писавший все эти декорации, которым музыка, танцы и пение только добавляли прелести. Он вошел в товарищество актеров Марэ и получал регулярное жалованье помимо своих гонораров декоратора. «Золотое руно» Корнеля, «Любовь Юпитера и Семелы» и «Праздник Венеры» Буайе, «Любовь Венеры и Адониса» и «Свадьба Вакха и Ариадны» Донно де Визе поддерживали любовь публики к пышной демонстрации декораций и машин, поставленных на службу языческим чудесам, – более привлекательным для зрителя, чем суровость классической трагедии и строгие правила трех единств. Этот театр, избавленный от оков всяческих принуждений, позволял драматургам отправить свою фантазию в свободный полет. Многочисленные смены декораций нравились публике.
Для «Любви Юпитера и Семелы» (1665) частично использовали машины от «Золотого руна», но верный Бюффекен написал декорации с помощью Жана Симона – того самого, который изготовил декорации к «Дон Жуану» Мольера. В пьесе Буайе сцена должна была меняться в каждом из пяти актов. В момент развязки Семела и Юпитер в своем дворце появлялись в облаках, а Меркурий и Фама «уносились в самую глубину зала». Луи де Молье взял на себя музыкальное сопровождение, актеры наняли музыкантов и танцмейстера.
Газетчик расхваливал богатство декораций, говоря о том, что машинист превзошел сам себя.
Сам Людовик XIV, которому было мало придворного театра, явился в Марэ посмотреть «Любовь Юпитера и Семелы» и подал знак к аплодисментам. Пьесу возобновляли несколько раз, но, несмотря на хорошие сборы, издержки были таковы, что театр Марэ с большим трудом покрыл все расходы. Ему даже пришлось занять по этому случаю 2 700 ливров у прокурора Ролле – того самого, которого Буало обозвал плутом.
Пять лет спустя плодовитый Донно де Визе передал в Марэ «Любовь Венеры и Адониса» (1669). Полеты божеств в очередной раз восхитили зрителей. Вот описание пролога, составленное самим де Визе:
«Весь театр изображает небо, видны лишь скопления облаков. В глубине появляется сияние, и верх изображает облака, отличающиеся от нижних.
Появляются Грации в прозрачном шаре в сопровождении Амура, сидящего на облаках, с которых он тотчас слетает и через весь зал проносится к амфитеатру; оттуда он возвращается на зов Граций и останавливается в передней части сцены, чтобы сыграть с ними пролог, после чего исчезает в глубине зала. Небо смыкается, сцена меняется и представляет леса Италии».
Два года спустя, на волне успеха, Донно де Визе представил «Свадьбу Вакха и Ариадны» с той же нарочитой роскошью, музыкой и танцами.
«Газетт» писала по поводу одной из таких пьес: «Зрители задумывались о том, уж не перенеслись ли они сами в другое место».
Посмотрим теперь, что делали актеры среди этих богатых декораций. В начале века, в подражание итальянцам, в комедии еще использовали маски или пудрили лицо мукой. Сегодня установлено, что Мольер играл Маскариля из «Смешных жеманниц» в маске, а Жоделе в этой пьесе представал в своем обычном виде, с набеленным лицом. Но в классическую эпоху маска исчезла.
Актеры с особенным вниманием относились к костюму, и на этот счет у нас есть исчерпывающая информация. Несколько гравюр того времени, в частности, с изображением фарсовых актеров, но главное – нотариально заверенные описи имущества покойных сообщают нам точные сведения о театральных костюмах. Их богатство и разнообразие ни в чем не уступали пышности декораций.
Костюмы обычно являлись личной собственностью актеров, и нам известно, что их гардероб был достаточно богат, хотя в начале века некоторые руководители трупп располагали гардеробом, позволявшим им одевать комедиантов, которых они нанимали. Тальман де Рео утверждает, что в ту эпоху актеры одевались у старьевщика, в жалкие обноски. Вероятно, это было верно для жалких странствующих трупп. Шарль Сорель подтверждает;
«Я видел несколько раз в Париже, в „Доме игры“, таких людей, у них у каждого был лишь один костюм для персонажей всякого рода, и они преображались только с помощью накладной бороды или какого-то едва заметного знака, в зависимости от представляемого персонажа. Аполлон и Геркулес выходили на сцену в штанах и колетах. Судите же о том, как выглядели смертные».
Но в парижских театрах костюмы были роскошными; с 1606 года Валлеран Леконт щеголял в мантиях и плащах из златотканого сукна, алого бархата, дамаста и тафты; в нотариально заверенных описях имущества Мольера и нескольких его товарищей, а также Ленуара из театра Марэ перечислены богатые костюмы из бархата, тафты или атласа, пучки разноцветных перьев, юбки из золоченых тканей, муара или шелка, вышивки золотом и серебром (часто фальшивым, что бы ни говорил Шаппюзо). Во времена, когда промышленные товары были крайне дороги, приобретение таких одежд вовлекало актеров в непомерные расходы. Людовик XIV неоднократно вознаграждал Мольера щедрой рукой по случаю придворных представлений, жалуя ему одежду. Для актеров это была манна небесная, и они потом использовали подаренные костюмы в своих театрах. Иногда вельможи щедро раздавали актерам собственные придворные наряды. У одного из основателей театра Марэ, Шарля Ленуара, был двадцать один полный костюм, все из дорогих тканей, украшенные кружевами и лентами и во всем похожие на те, что носили при дворе Людовика XIII. В описях такие костюмы обычно оцениваются довольно дешево, в несколько сотен ливров, но эти цифры наверняка сильно занижены по сравнению с покупной ценой. Для нотариусов эти шелковые наряды с лентами, кружевами и золотыми позументами, некогда блиставшие в свете свечей, становились после смерти их владельца всего лишь обносками, годными разве что для старьевщика.
Тонкий наблюдатель театральной жизни, Шаппюзо подметил богатство костюмов:
«Эта статья расходов комедиантов гораздо внушительнее, чем можно себе представить. Мало новых пьес не требуют обновок… Один-единственный костюм в римском стиле зачастую обходится в пятьсот экю. Они предпочитают сэкономить на чем-нибудь другом, лишь бы доставить больше удовольствия публике, и есть такие актеры, наряды которых стоят больше десяти тысяч франков».
Кстати, многим актерам, и в первую очередь Мольеру, случалось в трудные времена закладывать часть своего гардероба, чтобы раздобыть денег.
Описание театральных костюмов в таких перечнях порой может рассказать нам о личных пристрастиях их владельцев; так, Мольер отдавал явное предпочтение двум цветам – желтому и зеленому (Альцест носил зеленые ленты), который, кстати, встречается и в убранстве его дома. Опись его гардероба особенно ценна, поскольку речь идет о комедийных костюмах, и в описи уточняется роль, для которой использовался каждый костюм.
Однако богатство костюмов снимало всякую заботу о достоверности и национальном колорите; простые пастухи из пасторалей «ходили в шелковых камзолах и с серебряными свирелями». Что же до трагических ролей, то их было принято играть в современных одеждах. Самое большее, на голову восточным владыкам надевали тюрбаны, а герои трагедий появлялись на сцене, наряженные версальскими придворными: Александр Македонский носил парик, шляпу с перьями и кружевной галстук на шее. Кирасы заменили нагрудниками из муара, атласа или бархата с золотыми и серебряными узорами; мадемуазель де Вилье в роли Химены походила на Анну Австрийскую, Шаммеле в роли Федры – на госпожу де Монтеспан, а Полиевкт выходил на сцену в испанском камзоле, в коротких штанах с прорезями и круглой шапочке с пером. Несмотря на протесты д’Обиньяка против таких анахронизмов, придется ждать появления Лекена, {59} а главное – Тальма, прежде чем будут предприняты попытки придать костюму историческую достоверность.
Эти трагедийные костюмы, которые нам с вами показались бы нелепыми, способствовали созданию в зале, у зрителей того времени, общего впечатления, сильно отличающегося от того, которое мы испытываем сегодня. Для нынешнего зрителя трагедия – жанр давно минувших дней, где предстают цари и правители древности, одетые в костюмы, которые даже в стилизованном виде сохраняют историческую окраску; сами эти персонажи малознакомы современной публике, поскольку древняя история не так хорошо известна; язык, на котором они говорят (абстрактный, усеянный архаизмами), трудно понять с первого раза.
Образованный зритель XVII века иначе воспринимал трагедии, ставшие классикой, чем зритель современный; «универсальный дворец», в рамках которого они разворачивались, был списан с Версаля или Сен-Клу, о существовании которых он, по крайней мере, знал, если не бывал там; костюмы героев были современными, в точности похожими на наряды расфуфыренных петиметров, занимавших сцену и служивших связующим звеном между актерами и зрителями; цари и государи из трагедий имели свое соответствие в обществе того времени; греческая и римская история, основа всякого образования, была лучше знакома публике; даже язык трагедии, хотя и не был тем, на котором разговаривала публика, пусть и образованная, был ей хотя бы понятен; наконец, в трагедиях содержались более или менее явные намеки на текущие события; Людовик XIV во многом был похож на Александра Великого или Цезаря, а Никомед напоминал принца Конде; на представлении «Цинны» в театре Марэ зритель проводил параллели с многочисленными заговорами, постоянно грозившими кардиналу Ришелье, а на представлении «Береники» в Бургундском отеле естественным образом примерял invitus invitam [13]13
Против ее и своей воли ( лат.)
[Закрыть]Тацита к болезненному разрыву Людовика XIV с Марией Манчини. {60} Все эти параллели, которых нынешний зритель уже не улавливает, но пытается вычленить историк литературы, сообщали дополнительный интерес к представлению трагедий и привкус актуальности, улетучившийся со временем. Короче, по всем этим причинам зритель XVII века, слушая трагедию Корнеля или Расина, чувствовал себя в своей эпохе, чего нельзя сказать о нынешнем посетителе «Комеди Франсез», для которого трагедия – музейный экспонат.








