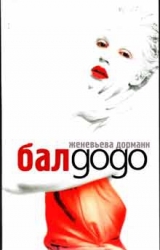
Текст книги "Бал Додо"
Автор книги: Женевьева Дорманн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Глава 7
Красивый дом «Гермиона» был построен в 1837 году на землях, купленных предком Эрве де Карноэ на деньги, полученные в качестве компенсации после отмены рабства. Впоследствии его земли на побережье составляли восемьсот гектаров равнин и гор – вместе с землями, вошедшими в имущество семьи в качестве приданого после брака 1828 года (брак по землям, говорил Лоик).
Эрве был представителем третьего поколения Карноэ, поселившихся на острове, но состояние семьи началось именно с него. Ум и доверие к прогрессу этого выдающегося члена ложи Тройной Надежды на долгие годы обеспечили процветание семьи. Он оставил о себе память как о мудром управляющем, одинаково хорошо разбирающемся как в сельском хозяйстве, так и в технике. Эрве де Карноэ одним из первых понял, что привозить за огромные деньги из Перу гуано для удобрения земли глупо, его можно было раздобыть за сущую безделицу на соседних островах. Из Европы он выписал земледельческую технику, которая значительно облегчала труд.
Он не жаловался, как другие, на потерю рабочих рук после отмены рабства, а привез из Азии и Африки разумно выбранных и добровольно нанятых в соответствии с законом рабочих. Недружелюбным креолам и малагасийцам он предпочел мозамбикцев, крепких и работящих, и индусов, умных и ловких. На его землях трудились более двухсот наемных рабочих и тридцать его бывших рабов, освобожденных, но не желающих покидать места, где они родились, и хорошего, доброго хозяина, с которым им всегда хорошо жилось.
Первым Карноэ, прибывшим из Бретани на Маврикий, был его дедушка Франсуа-Мари; он оставил после себя записи, в которых была отражена часть его жизни. Эрве де Карноэ тоже вел на протяжении трех десятков лет что-то вроде дневника. Не такой яркий и личный, как рассказы, содержащиеся в знаменитой черной тетради дедушки; в целом дневник Эрве де Карноэ был смесью финансовых документов, ботанических наблюдений по выращиванию ванили и гвоздики, которые он неудачно пытался акклиматизировать, и высказываний, которые скорее успокаивали его совесть, чем предназначались для потомков. Одно из них стало крылатым выражением в семье Карноэ: «Я всегда был честным человеком – я не продал ни одного больного негра».
Двое этих Карноэ, Франсуа-Мари и его внук Эрве, были, бесспорно, самыми заметными личностями в семье: первый основал семью на Маврикии, а второй обогатил ее два поколения спустя. И они были единственными в семье, кто оставил письменные свидетельства о своей жизни.
Меньше десятилетия понадобилось Эрве, чтобы возделать сухие земли, заросшие колючим кустарником и заваленные камнями, и расчистить непроходимый лес, где, по слухам, скрывались беглые рабы, после освобождения брошенные на произвол судьбы; нищие и голодные, они были очень опасны.
Вместо малорентабельных культур хлопка и индиго Эрве стал высаживать сахарный тростник и кукурузу и построил первые солеварни Ривьер-Нуара.
С особой серьезностью он отнесся к строительству жилища для своей семьи на западном побережье: здесь он вырос и не собирался расставаться с этими местами. В те времена это выглядело довольно странно – большинство буржуа строили свои резиденции подальше от засушливого и жаркого побережья Порт-Луи, они предпочитали Мока или прохладные и дождливые высоты Керпипа. На развалинах укреплений, возведенных французами в XVIII веке против попыток английского вторжения, и была построена «Гермиона». Три пушки, укрытые стеной, которая тянется вдоль пляжа, в течение двух столетий все еще смотрели своими жерлами в открытое море.
Основанием здания послужила надстройка в виде усеченной пирамиды, которая когда-то была фортом; она, возвышаясь над морем, отделялась от него лужайкой, окруженной рощей филао. Просторный, роскошный колониальный дом в один этаж; его окна выходят на море, лес, примыкающий к солеварне, и на гору Ривьер-Нуара. Высокая, изогнутая на китайский манер соломенная крыша венчает толстые стены из базальта, простирается над просторным круговым варангом и опирается на литые ажурные столбики. Три каменных лестницы спускаются к морю, центральная – самая широкая.
Верхняя часть стен сделана в виде решетки, на которую и уложена крыша, а поскольку в доме не было потолка, то воздух через отверстия решеток циркулировал в комнатах и это создавало прохладу даже во время сильной декабрьской жары. Через эти отверстия под крышей иногда влетали птицы, но зато дом не нуждался в кондиционерах, а во время ураганов давление ветра значительно уменьшалось. За исключением нескольких вырванных пучков соломы, дом уже более ста лет выдерживал все ураганы. Позже на террасе позади дома заложили то, что когда-то было капониром для пушек. Засадили ее кокосовыми пальмами и делониксами и сделали большую отдельную кухню с резервуаром для воды и печами для выпекания хлеба. Старинный пороховой склад на склоне, защищенный валом от снарядов, летящих с моря, был переделан в конюшню. В прилегающем лесу были построены жилые домики для слуг.
Последующие поколения добавляли к дому постройки, кто для удобства, а кто реализуя свои фантазии. Густая растительность скрывала сарай, прачечную, хранилище для мяса, когда еще не было ни холодильника, ни электричества. На краю лужайки, рядом с берегом, кто-то из Карноэ в 1900 году распорядился построить маленькую романтическую беседку – литье тонкой работы с забавной острой крышей – для чтения, занятий музыкой или для мечтаний. Это была, как говорили в семье, беседка-объяснений-в-любви-при-заходе-солнца. Был еще отдаленный лодочный ангар, любимое место Ива, со столярной мастерской и маленькой кузницей – когда-то здесь подковывали лошадей, но потом их заменили негры, носившие паланкины на новых английских дорогах. Теперь это гараж.
Проселочная дорога огибает солеварни и углубляется в растущий по краю берега лес. Здесь стоит дом, построенный для Ива, а рядом еще один, крошечный домик в две комнаты с маленьким варангом. Этот кукольный домик носит имя сестры Сен-Феликс, и у него есть своя история.
В двадцатые годы Карноэ переселились в новый жилой пригород Керпипа – Флореаль, а «Гермиону» на пять лет передали французской обители, у которой была миссия на Маврикии. Потом обитель перебралась во Францию, а Карноэ вернулись в свой фамильный дом.
Год спустя, как-то днем, в дверях столовой они вдруг увидели молодую женщину в черном, обессиленную, покрытую пылью. Это была одна из монахинь, сестра Сен-Феликс. Вернувшись во Францию со своей обителью, она не могла пережить разлуку с Маврикием и с «Гермионой», здесь она провела самое счастливое время в своей жизни, и она решила вернуться сюда. Она отреклась от монашества, покинула обитель и сумела достать денег на самый дешевый билет на пароход. После многодневного пути она сошла на берег в Порт-Луи и на двуколке добралась до Ривьер-Нуара. И там, на пороге столовой, она обратилась к изумленным Карноэ: «Это я. Я не могу больше жить там, я вернулась. Умоляю вас, не прогоняйте меня. Я буду служить вам. Буду заниматься с вашими детьми. Научу их читать. Буду делать с ними уроки. Я буду делать все, что вы потребуете, но не гоните меня.» Ее оставили. Она стала членом семьи. Она вырастила два или три поколения детей. Для нее построили этот маленький деревянный домик, здесь она дожила до преклонного возраста, а когда умерла, дом сохранили в память о ней. Она иногда возвращается туда, как утверждает Лоренсия, которая всегда встречает призраков на своем пути.
Среди старых портретов Карноэ, развешанных в большой гостиной «Гермионы», портрет Эрве наводил на мысль, что этот предприимчивый предок был очень доволен своей участью. Рука на бедре, массивная цепочка от часов на жилете, демонстративное самодовольство, выставленное напоказ, – все это неизбежное следствие недавно приобретенного богатства. Добровольно он задыхался в костюмах из толстого европейского сукна и носил тугие, высокие воротнички; должно быть, он считал, что это единственно достойная одежда для богатого землевладельца, хотя в этой одежде можно было заработать апоплексический удар; но если в Лондоне или Париже такой риск был уместен, то на Маврикии, с его климатом, это выглядело нелепо. Он был не один такой. Этих «новых буржуа» на острове прозвали «толстые пальто». Автор портрета уловил эту неловкость и, затемнив цвет лица до красно-кирпичного, сумел ее передать.
Показухи ради Эрве распорядился пристроить к той стороне дома, что выходила на море, две круглые башни с островерхими крышами, возвышавшимися над основной крышей дома. Эти неуместные башни не вписывались в строгий фасад, утяжеляли его, но зато строение стало выглядеть замком.
Стены одной из башен отделаны внутри голубой камчатной тканью – это музыкальный салон, с вечно расстроенным от морской сырости пианино. В другой башне разместилась гостиная, раньше ее называли курильней, – плод фантазий экстравагантного пекинского декоратора XIX века, реализация которых, судя по счетам старого Карноэ, обошлась в немалую кучу пиастров.
Насколько музыкальный салон в своих бледно-голубых тонах и светлом дереве представляется оазисом тишины и спокойствия, настолько китайская курильня является мистической комнатой, способной пробудить гнев и жестокость. Ярко-красная от потолка до пола, обставленная низкими столиками и вычурными креслами из черного дерева, она по всей окружности отделана пугающими детей лаковыми панно, на которых драконы дерутся с химерами: вытаращенные от ненависти глаза, острые когти, огненные языки, вываливающиеся из открытых пастей на фоне исступленно впивающихся в потолок безумных растений. Раньше там запирали детей, которые плохо вели себя. По мнению тех, кто там побывал, провести час «с драконами» было наказанием в тысячу раз страшнее, чем лишиться купания или десерта. Но больше, чем драконы, химеры и бешеные хризантемы, в этой комнате пугает пол, инкрустированный дорогим деревом. На первый взгляд это прекрасно выполненная паркетная работа, от которой не ожидаешь ничего из ряда вон выходящего; но стоит сделать шаг, как каждая половица начинает издавать протяжный музыкальный звук, в зависимости от быстрых или медленных шагов, и выводить настоящую птичью песню, соловьиную руладу, радостную или же меланхоличную. Странная песня всегда по-разному звучит и не повторяется, даже если специально постараться воспроизвести ее в точности. На памяти Карноэ никто никогда так и не смог понять, благодаря какому подбору дерева и какому невидимому механизму китайский мастер сумел составить этот мелодичный паркет, которым гости «Гермионы» восхищаются уже сто лет. В тридцатые годы какой-то Карноэ, научного склада ума и мастер на все руки, сделал попытку и в одном месте гостиной разобрал часть паркета, пытаясь разгадать секрет. Пустая затея. Когда деревянные пластинки аккуратно уложили на место, выяснилось, что потревоженное пространство перестало издавать звуки. Как будто птицы сочли надругательством такое дерзкое любопытство и в этом месте отказались петь. Больше никто и никогда не пытался разгадать тайну. Раз и навсегда уяснили, что паркет в этой гостиной поет. Вот он и пел себе.
Бени испытала настоящий ужас, когда Вивьян завлек ее сюда, и эта диковинка ни за что на свете не заставила бы ее во второй раз переступить этот порог. Однако комната завораживала, и, проходя мимо окон, девочка всегда останавливалась. Она поднималась на цыпочки и, защищенная стеклом, разглядывала адское порождение. К семилетнему возрасту этот паркет превратился в ее навязчивый кошмар. В окно башни она различала ту самую часть с потревоженным деревянным покрытием. Сотни маленьких серых птичек были спрессованы и лежали там неподвижно, с закрытыми глазами и крошечными коралловыми клювиками, они не были мертвы, они как будто спали, одинаково вытянув одну лапку и согнув другую, как для исполнения френч-канкана. На первый взгляд этот птичий ансамбль создавал впечатление большого, шелковистого, серого с оранжевыми точками ковра, на котором от ветра перышки колыхались, как ворс. Всмотревшись, можно было увидеть движение – птички дышали с закрытыми глазами. Это дыхание учащалось и начинало образовывать ритмичную мелодию, от еле слышных звуков до мощного крещендо, изданного самой Бени, когда в холодном поту она проснулась от собственного крика.
Отсюда и начался ее непреодолимый физический страх перед птицами. Не из-за их пения, а из-за угрожающей хрупкости, когда они бьются под варангом, из-за их цепких лапок и крошечных сердечек, постукивающих в теплом бархате таких невесомых тел. И в особенности перед их перьями. Перед всеми перьями. Самое маленькое из них, вылетевшее из подушки, вводило ее в транс, что быстро заметила коварная Лоренсия, которая натыкала перья в замки стенных шкафов, чтобы девочка не шарила в них. Безопасность была гарантирована.
Самым страшным кошмаром была влетевшая в дом птица, которая не может вылететь: она бьется в стекла до потери сознания, мечется, кидается как безумная от стены к стене, от потолка к полу, крича от тоски и ломая крылья. Кожа Бени от ужаса покрывалась мурашками, она в истерике убегала, заверяя, что не вернется в дом, пока не выпустят эту обезумевшую от потери свободы птицу. Потом в ее жизни будут моменты, когда она сама будет чувствовать себя такой сумасшедшей птицей, которая ранит себя, пытаясь вырваться из западни, потерянная и одинокая.
Глава 8
Морин Оуквуд вставала не раньше полудня, а нередко и того позже. Она, очевидно, перепутала день с ночью. На обеде или ужине присутствовала редко, но зато с появлением на небе луны начинала бродить по дому, бесшумно, босиком. Морин Оуквуд ходила босиком, как делали только служанки. Далеко за полночь она направлялась к холодильнику, чтобы поесть. Был слышен щелчок дверцы. Ела руками. И везде оставляла крошки.
Но это было еще ничего. ПО НОЧАМ ОНА КУПАЛАСЬ, АБСОЛЮТНО ГОЛАЯ. Линдси, муж Лоренсии, как-то вечером, когда поднялся сильный ветер, пошел на берег вытащить из воды пирогу, а когда возвращался, видел ее. Это была чистая случайность, что он в этот час прошел мимо дома. Он увидел, как по лестнице, ведущей на пляж, спускается эта мадамочка, совершенно голая и с полотенцем на плече. Она перепрыгивала со ступеньки на ступеньку. Нет, это был не сон. На этот раз он не ходил к китайцам на Труа-Бра за выпивкой, как делал обычно, ведь в полнолуние только пивом можно прогнать дурные мысли. Сначала он испугался, что это призрак Большой Мадам, свекрови мадам де Карноэ, которая умерла в год Большого Урагана.
Но у призраков нет маленьких грудей, которые раскачиваются под луной, и они не ходят на пляж с банным полотенцем. Линдси спрятался за толстый ствол дерева в центре лужайки. Ну и что, что в таком возрасте его взгляд задержался на подпрыгивающих грудях этой мадамочки, а потом, когда он оказался у нее за спиной, то и на симпатичной круглой попке; и что с того, что его член затвердел, как железное дерево, чего с ним давно не случалось, ведь это его просто позабавило, а если он и остался там, продолжая смотреть на нее, так это чтобы помочь ей в случае чего, ведь она плавала в море так, будто не знала, что по ночам в лагуне рыщут акулы. На этот раз он подумал, что у мадамочки и в самом деле с головой что-то не то. Она долго плавала, колотя по воде руками и ногами, зажигая блестки вокруг себя, потом поднялась по лестнице, завернувшись в полотенце, закручивая волосы и напевая, чего призрак никогда не делает. Линдси подождал, пока его член опадет, вернулся домой и рассказал Лоренсии про все (разумеется, кроме члена). Лоренсия, как и он, сочла, что у этой женщины не все дома и что это большое горе для ее мужа и маленькой Бени, потому что все это плохо кончится.
Даже среди бела дня Морин Оуквуд всегда ходила полуголая. Одежда как будто не держалась на ней. Когда она садилась, юбки задирались до бедер. Бретельки ее белых маечек спадали с плеч. Груди выпрыгивали из декольте, появлялись в профиль в вырезах под мышкой или выскальзывали из расстегнутых рубашек.
Хуже всего было, когда она не торопясь шагала под проливным дождем, как будто ее забавляло, что ее легкие платья становились прозрачными от дождя и прилипали к телу.
Морин Оуквуд, казалось, делала все, чтобы выглядеть странной и не нравиться.
Морин Оуквуд ненавидела семейные сборища и не скрывала этого.
Морин Оуквуд была протестанткой и не сопровождала семейство Карноэ по воскресеньям в храм Ривьер-Нуара. В церковь она тоже не ходила, и ее ни разу не видели с Библией в руках. Франсуаза де Карноэ настояла на том, чтобы Бени окрестили – «пять лет, самое время, потом вы мне будете признательны!»… Она очень беспокоилась о дурном примере, который подавало внучке религиозное равнодушие ее матери. Не то чтобы Большая Мадам была глубоко набожной, но, чтобы посетовать на Морин Оуквуд, годилось все. Она упрекала ее еще и за то, что та недостаточно занимается ребенком. Во всяком случае, не так, как надо бы. Морин Оуквуд по отношению к Бени вела себя не как мать. Слишком снисходительная. Слишком фамильярная. А эта манера умолять ее, когда девочка становилась невыносимой: «Пожалуйста, Бени, прекрати…» – вместо того чтобы взяться за волшебный ротанговый прут, который всем детям внушает уважение. А поскольку они с Лоренсией взялись за воспитание девочки, Морин Оуквуд свалила все заботы на них.
Она ограничивалась тем, что играла с дочерью в идиотские игры. Разве мать, достойная так называться, тратит время, чтобы устроить улиточный забег вместе с шестилетним ребенком? Разве уважающая себя мать лезет верхом на черепаху, царапая панцирь и подгоняя ее, и все это на глазах своей дочери, у которой и мысли бы не возникло о таком способе передвижения? Разве разумная мать, пытаясь развеять плохое настроение дочери, станет рассказывать ей такую глупую считалку:
Если ты ничем не связан
С кучкой этих дураков,
Ты по статусу обязан
Жрать навозных червяков.
Красным, черным, голубым,
Старым, жирным, молодым,
Даже белым, как глисты,
Всем откусывай хвосты,
А потом бери за спинку
И высасывай начинку.
Можно чавкать и глотать,
И страдать, страдать, страдать!
Неужель меня погубит
Поеданье червяков?
И за что меня не любит
Кучка этих дураков?
И так далее, пока Бени не закричит от злости или не расхохочется.
Честно говоря, разве педагогична эта история про отвратительных червей? Разве можно повторять девочке глупую фразу про то, как «двухголовый вредный дятел долго дуб долбил и спятил»?
Это что, и в самом деле необходимо для развития дикции?
И если необходимо развивать дикцию, то почему не «Еду к деду, буду к обеду» или же «Однажды шел дождик дважды»?
Зато на Морин Оуквуд можно было рассчитывать, чтобы обеспечить Бени разорвавшимися петардами, которые китайские дети на Рождество разбивают на улицах о землю. Но в важных и серьезных вещах – ничего. Морин Оуквуд никогда не вышивает оборки на платьях, никогда не организовывает никаких полдников для детей, как делают все молодые матери, достойные этого звания. Ни разу она не намазывала ребенку сэндвич арахисовым маслом.
Морин Оуквуд оставалась равнодушной даже к священно-святой радости Рождества, с приготовлением сюрпризов, лихорадочной предпраздничной беготней, подготовкой подарков. Филао в гирляндах вызывали у нее лишь вздох: «Какая жалость, это дерево умерло!» Ни малейших эмоций, когда в тяжелой декабрьской жаре через все открытые двери домов были слышны рождественские колокола ее страны и льющийся голос Фрэнка Синатры, который несколькими словами превращал в лужу ностальгии любого нормального британца, особенно если тот скитается вдали от родины. «Мне снится белое Рождество…»Нет, Морин Оуквуд не мечтала о белом Рождестве и открыто плевала на привезенных из Франции или Южной Африки перемороженных индеек, на рождественский пирог с каштанами, размягченный от сильной жары, и даже на лучшие пудинги из Соединенного Королевства. Зато она лакомилась первобытными и отвратительными блюдами, которые на медленном огне готовили для нее в местах, известных ей одной: гениталии обезьян и летучих мышей, жареные личинки ос, жаркое из ежа или рагу из морской черепахи.
Она пропадала целыми днями, и никто не знал, где она и с кем. Из Англии она получала кипы романов, и в те дни, которые проводила в «Гермионе», сидела, уткнувшись носом в один из них. Хуже того, она писала непонятные или откровенно шокирующие стихи. Морин Оуквуд зналась со старым Малколмом Шазалем, который забывал в ее обществе о своем ужасающем женоненавистничестве. На террасе отеля в Морн-Брабане, куда этот поэт-художник часто приходил в неизменной бабочке и панаме на голове и сидел со скрещенными на груди руками спиной к морю, люди видели, как они вместе смеялись. Над кем и над чем они оба насмехались?
Морин Оуквуд влюбилась в остров с той чрезмерностью, которую вносила во все. Сидя за рулем маленькой машины, она за несколько месяцев объездила места, которые большинство семей на острове или вообще не знали, или презирали в течение нескольких поколений: деревни, проселочные дороги, тропы, затерявшиеся между горами, пагоды, кирки, захоронения, заброшенные среди полей тростника. На острове она познакомилась с колдунами вуду с предсказателями судеб, с кладоискателями и узнала обо всех домах с привидениями. В Порт-Луи, в этом шумном и вонючем лабиринте китайских кварталов, она чувствовала себя как дома. Она знала, какой птичий двор надо пересечь, чтобы отыскать старого сына Поднебесной, у которого припрятаны самые изящные в мире чайники или самый чистый контрабандный шафран. Она бесстрашно вела вас в самую темную дощатую хижину Тру-Фанфарон, где перевозчик золота и драгоценных камней полировал изящные украшения в парах опиума подпольной курильни, расположенной в соседнем подвале. По вечерам она возвращалась домой, покрытая пылью и довольная. Раздражая всех, она утверждала, что индийский поселок Маэбур на юго-востоке в тысячу раз краше и интереснее, чем север острова, запроданный туризму, где большая часть цивилизованных островитян проводит выходные дни в своих элегантных бивуаках. Из Маэбура она возвращалась с охапками блестящих сари, с разноцветными пластмассовыми или стеклянными браслетами, с мисками, расписанными кричащими цветочками, с керосиновыми лампами и старинными тетрадями. О том, что она вернулась из Маэбура, можно было догадаться по запаху, который стелился позади нее. Мадам де Карноэ ездила в Маэбур только один раз за всю свою жизнь, да и то чтобы увидеть музей, который устроили в красивом доме семьи Робияр.
Бени всегда будет помнить об этом странном увлечении собирательством на маленьком пляже западного побережья, где в XVII веке голландские корабли Питера Бота, возвращаясь из Китая, потерпели крушение, снесенные на подводные скалы жестоким ураганом. Морин как будто при этом присутствовала, она в подробностях рассказывала о крушении кораблей, груженных фарфором, специями и шелками, об ужасном вое ветра, о треске кораблей, разбивающихся о скалы, о воплях моряков, выброшенных в открытое море, и особенно – о звоне бьющейся посуды, этих изящных фарфоровых изделий эпохи Мин. И Бени тоже почти видела и слышала все это в тишине маленького залитого солнцем пляжа, в тишине, которую едва нарушали крик птиц и шум прибоя.
Там, напротив, на месте кораблекрушения, ныряльщики нашли обломок «Банды» – корабля, на котором Питер Бот встретил свою смерть. Они поднимали со дна блюда, тарелки, фарфоровые вазы трехсотлетней давности, чудом оставшиеся целыми, защищенные от морских течений весом пушки, поглощенной мадрепоровыми кораллами. Но все, что было разбито штормом, время от времени поднимается со дна и выбрасывается на пляж ураганами, которые перепахивают море.
Внимание Морин, собиравшей раковины, как-то случайно привлекли осколки белого фарфора с голубым рисунком: некоторые обломки были размером с ладонь, а некоторые – с ноготь и разной толщины, в зависимости от того, были ли они от изящной чашки или же от массивной вазы. Они застряли на отмели у подножия скал после низкого прилива и были покрыты легкой пеной водорослей или наросшими кораллами; на некоторых кусочках, очищенных сухим песком, проступали рисунки цветка, арабески или рыбы, а их неровные края, отполированные за века морем, были гладкими на ощупь.
Часами Морин и Бени бродили по пляжу, вылавливая осколки эпохи Мин, радостно вскрикивая при каждой находке, пытаясь по крошечному кусочку пазла восстановить целый предмет. Увлеченно перебирая песок, они забывали о силе солнца, которое сжигало им плечи и спины. Свои сокровища они складывали в увесистые сумки и приносили в «Гермиону» под яростным взглядом Лоренсии, которая не понимала, зачем захламляют дом этим сором – разбитыми тарелками.
Однажды ночью Бени приснился молодой китаец с длинными усами эпохи Мин, он рисовал рыбу на тарелке, которую она нашла невредимой. Она видела, как под тонкими пальцами и гибкой кистью рождается рыба. Нежным и певучим голосом китаец сказал ей: «Ты ее найдешь, это мой подарок». Похоже, чтобы понять китайский язык, достаточно видеть сон.
Даже отдыхая, Морин Оуквуд никогда не сидела нормально на стуле или в кресле. Она или растекалась, или складывалась – ноги на сиденье, колени под подбородком. Но чаще всего она устраивалась на полу по-турецки.
Морин Оуквуд курила. Она делала для себя и для Ива любопытные сигареты в виде конуса и набивала их странным табаком, который доставала на побережье Генриэтты, закручивала их в большие листы рисовой бумаги, привезенной из Лондона, а вместо фильтра вставляла маленький кусочек свернутого картона. Мадам де Карноэ удивлялась: что это, еще одно проявление оригинальности или же глупая скупость – ведь на острове продавались все сорта сигарет в любом табачном магазине у обочины, не говоря об изготовленных у китаянки из О-ба-при. Морин Оуквуд со сладострастием вдыхала дым из зажатого кулака, и это делало ее мечтательной или смешливой, сентиментальной или даже музыкальной, когда как.
Морин Оуквуд играла на ситаре. Поздно. Ночной ветер иногда приносил музыкальные фразы речитатива, рождающегося под ее пальцами, из маленькой беседки на берегу моря.
Три следующих года Морин Оуквуд наотрез отказывалась присутствовать на приеме в честь 14 июля, который давал французский посол именитым франкомаврикийцам.
Также Морин Оуквуд не видели на балу Додо, хотя ее новая семья имела бронируемый из года в год прекрасно расположенный столик.
Вместо этого Морин Оуквуд заводила очень странные знакомства, не считая старого Малколма. Ее замечали на пляже Тамарена, она купалась среди молодых индусов, с которыми была на «ты».
Видели также, как Морин Оуквуд разговаривает по-английски с дядей Гаэтаном Шейладом. Они сидели рядом на бетонном основании фонарного столба, прямо перед китайской лавкой О-ба-при. Пьяница фамильярно клал руку на плечо своей новой внучатой племяннице, а та запросто говорила с ним и не воротила нос. В этом месте поворот дороги был особенно опасен, и многие родственники и друзья семейства Карноэ, чье внимание отвлекалось на зрелище этого неуместного единства, подвергались угрозе столкновения.
Как-то вечером – об этом будут еще долго вспоминать – во время ужина, на который было приглашено не меньше десятка человек, Морин Оуквуд спросила, почему дядюшку Га-этана никогда не принимают в «Гермионе». Ответом ей было неловкое молчание и пожимание плечами и еще сумасшедший жестокий смех Ива де Карноэ – он едва отправил в рот ложку овощного супа-пюре, который от смеха брызнул у него из ноздрей и заляпал красивую льняную скатерть ручной вышивки, которую мадам де Карноэ велела постелить, чтобы оказать честь гостям.
Но самое невероятное – Ива де Карноэ, несмотря на внушения матери и невестки Терезы, которая возненавидела Морин с первого взгляда, – Ива совсем не беспокоило недопустимое поведение жены, а скорее, наоборот, забавляло. Лоик де Карноэ молча и без осуждения наблюдал за этой Морин, которая меньше чем за год единодушно восстановила против себя всех, от его матери до жены, включая почти всех родственников. Она смутно напоминала ему другую молодую женщину – Лору, которая когда-то, много-много лет назад, приезжала из Европы.
В Гран-Бэ и в Роуз-Хилле, в Мока, в Катр-Борне или в Керпипе, когда в беседе произносилось имя Морин Оуквуд, наступало оживление, и даже самые доброжелательно настроенные люди говорили, что она ОСОБЕННАЯ. И она сколько угодно могла зваться Морин де Карноэ, но всегда оставалась Морин Оуквуд для свекрови и мадамочкой для слуг.
Ив редко звал Морин по имени. Он любил называть ее именами кораблей, с которыми прошло его детство: это были военные или торговые суда, большинство из которых уже покоилось на дне между мысом Доброй Надежды и Короманделем; фрегаты и корветы, «флейты», бугры и бригантины, галеоны и гоэлетты, начиненные ядрами, разбитые ураганными ветрами, пропоротые рифами, их покрытые мхом пушки уже давно служат ориентирами для ныряльщиков в прозрачных водах Индийского океана. Морин была для Ива целой призрачной эскадрой. В зависимости от ветра или от настроения, он называл ее: моя Любознательная, моя Фаворитка, моя Беллона, моя Бродяга или моя Цикада, моя Атланта или моя Раковина, моя Ворчунья или мой Турмалин, моя Арендаторша, моя Нереида, моя Прекрасная. Бретонцы так выражаются, когда влюблены, странные люди.








