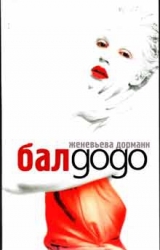
Текст книги "Бал Додо"
Автор книги: Женевьева Дорманн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Глава 31
Невозможно приблизиться к хижине Лоренсии, чтобы за двести метров о твоем приходе не возвестил гам зверинца: три голодные шавки захлебываются от злости, попугай в клетке начинает гнусавить: «Внимание! Ты сломаешь ее!» – и особенно Бернар, противная мелкая рыжая обезьяна, которую Лоренсия выкармливала из соски, но потом была вынуждена посадить в клетку, так как осталась единственной, кого обезьяна не покусала. Когда у Линдси она чуть не оторвала палец, ее судьба была решена: «Или я, или она». Но Лоренсия так горько плакала, что Линдси отложил ружье и в конце концов пошел на уступку, разрешив запереть ее в клетку. С тех пор Бернар обезумел от ненависти и, как только видит Линдси, начинает мастурбировать с омерзительной ухмылкой, как будто понимает, что именно ему он обязан потерей свободы. А стоит появиться гостю, он яростно трясет прутья клетки и издает душераздирающие вопли.
Оповещенная зверинцем, Лоренсия появляется на пороге хижины, раздвинув разноцветные пластиковые ленты, которые преграждают мухам путь в дом.
Она всматривается в темноту и замечает идущую по дорожке Бени.
– Я тебе нужна?
– Нет, – отвечает Бени. – Не сейчас.
– Я собираюсь идти на мессу, – объявила Лоренсия. – Линдси с детьми уже ушел.
– Понятно, – продолжила Бени. – Ты красивая сегодня.
Красивая – не совсем точно сказано. В маленькой зеленой соломенной шляпе с искусственной маргариткой, нахлобученной на голову, в розовом платье с рукавами фонариком, откуда торчат ее высохшие черные руки, в белых перчатках и огромных башмаках, Лоренсия в этот вечер больше похожа на Мини, жену Микки, а не на Оливию, жену Помпея. Но комплимент Бени ей приятен. Она поворачивается и дает возможность полюбоваться своим туалетом.
– Это для Господа Бога, – хвастается она. – Ты идешь на полуночную мессу?
– Нет, – отнекивается Бени. – Не хочется.
– Если бы Большая Мадам…
– Оставь в покое Большую Мадам, пожалуйста! Я пораньше лягу. Я устала. Я пришла к тебе с просьбой.
– Заходи, дочка.
Хижина Лоренсии, которую по распоряжению мадам де Карноэ построили после того, как ураган «Клодетта» обрушил ее старый домик, – эта хижина представляла собой музей ужасов, которым Лоренсия невообразимо гордится. В главной комнате, которая служит гостиной и супружеской спальней, на высоких ножках стоит сосновая кровать, покрытая темно-красным атласным покрывалом, простеганным волнистыми стежками, которые по виду напоминают вывалившиеся кишки. Три рыночные куклы с платиновыми волосами и застывшими глазами сидят на подушках в балетных пачках, разложенных, как купол парашюта. Над изголовьем кровати на стене распятие соседствует с литографией английской королевской семьи в полном составе; правее, в рамке из желтых помпонов, леди Диана и принц Чарльз держатся за руки и глупо улыбаются. На правой стене висит большой цветной ковер с Элвисом Пресли, здесь он выше, чем в жизни. Сакре-Кер, отец Лаваль и Непорочное зачатие – воспоминания об улице Бак, собранные на деревянном лакированном комоде между двумя цветочными вазами с пластмассовыми гладиолусами.
Напротив кровати над телевизором в рамке висит свадебная фотография улыбающейся Лоренсии и усатого Линдси. Неузнаваемая, почти миловидная Лоренсия, со всеми зубами и изящными лодыжками из-под белого платья.
В центре – люстра из оленьих рогов, утыканных лампочками в виде свечей, она сочетается с ночником, сделанным тоже из оленьих рогов. Рядом с дверью часы с кукушкой, которые Лоренсия упросила Бени привезти из Европы, с двумя черными, как помет, сосновыми шишками, подвешенными на разные цепочки. Это гордость Лоренсии; она не устает любоваться на то, как выскакивает горластая кукушка и сообщает время.
Обеденный стол упирается в стену и покрыт нейлоновой клеенкой с рисунком под английскую вышивку. Над ним на тряпке дикого цвета, прикрепленной кнопками к стене, напечатан рецепт бургундского фондю. Для южной жары это блюдо настолько тошнотворно, что Бени вспоминает причину своего визита.
– Я кое-кого пригласила на ужин в четверг вечером, – объявила она. – Друга… (она не произносит имя Гаэтана Шейлада) одного друга, который хотел бы отведать рагу из летучих мышей, но я не знаю, где их купить.
– Их не покупают, – заявляет Лоренсия. – Их находят.
– Ты можешь их найти?
– Я приготовлю камаронов, – продолжала Лоренсия, – или потушу оленину, или приготовлю вендей с рыбой, с пальмовой сердцевиной со сливками, это для ужина больше подойдет.
У Лоренсии забегали глазки, так всегда бывает, когда ей что-то не по душе, но она не решается высказаться. Бени догадывается, что ей не нравится это креольское кушанье, подавать рагу из летучих мышей к ужину в большом доме недостойно белых людей. На памяти Лоренсии в «Гермионе» никто и никогда не ел летучих мышей. Бени сошла с ума. А может, ей еще обезьяньего карри захочется?
– Нет, – возразила Бени. – Я хочу рагу из летучих мышей! Я никогда его не ела. Кажется, ты умеешь его хорошо готовить?
– Кто тебе такое сказал?
Бени сделала неопределенный жест.
– …наверно, меня обманули. Ты не умеешь его делать. Или забыла рецепт.
Лоренсия мгновенно попадает в ловушку, даже маргаритка на ее шляпе задрожала:
– Это я-то не умею делать рагу из летучих мышей? И даже если я и не умею читать, рецепты я никогда не забываю. Рагу из летучих мышей вот здесь (она указывает на лоб) и навсегда! Хотя я его давным-давно не делала. Забыть рецепт! Так ты разозлишь меня перед мессой! Нужны крыланы, они лучше всего подходят, они питаются фруктами. Их надо ловить днем, когда они спят, они на лавках висят. Линдси сходит. Одна-две на человека, это зависит от размера. Сдираешь шкуру, потрошишь, отрезаешь крылья, голову, хорошенько промываешь, нарезаешь и шесть часов замачиваешь в маринаде. Потом берешь сковороду и на открытом огне…
– Я вижу, что ты помнишь, – перебила Бени. – Тогда приготовь это в четверг, пожалуйста. С картофелем и салатом. Привлеки Фифину. А я позабочусь о десерте.
Резкий свет луны усиливает тень от крыши в углах варанга до черноты, и Бени замечает подвижную точку света, похожую на горящую сигарету, которая качается в темноте. Потом замечает более светлое пятно. В темном углу варанга кто-то есть. На последней ступеньке лестницы Бени замирает с пересохшим горлом, гулом в ушах и бешено колотящимся сердцем. Хорошо знакомый запах набальзамированного тела бьет в ноздри. Там кто-то есть. Кто-то сидит, покачиваясь в кресле-качалке, и слышится поскрипывание дерева, трущегося о камень. Кто-то курит, качаясь в темноте. Кто-то, на ком белая рубашка.
Бени страшно, но она храбрится. Повелительным тоном, который выдает неуверенность, она спрашивает:
– Кто здесь?
В тени раздается легкий смешок.
– А кого бы тебе хотелось здесь видеть? Разумеется, Дед Мороз!
Она узнает голос из «Присуника», и сердцебиение утихает.
– Я испугалась, – оправдывается она.
– Я здесь гулял, – отвечает Бриек. – В доме не горел свет. Я подумал, что ты приглашена куда-нибудь на ужин, и мне захотелось посидеть здесь немного. Ты не сердишься?
– Нет, – заверила Бени. – Мне приятно. Просто сегодня вечером я никого не хотела видеть.
– И на том спасибо!
– Я не это хотела сказать. Я не хотела видеть никого из знакомых. А тебя я совсем не знаю.
– Тебе не слишком весело.
– Весело – не то слово. Я ненавижу Рождество.
Она опустилась на один из постоянно лежащих под варангом матрасов, а Бриек сел рядом с ней.
– Это мы исправим, – пообещал он и протянул ей ароматную сигарету, которая очень быстро сделала ее спокойной, легкой, смешливой и словоохотливой.
Она принесла свечи и расплавленным воском приклеила их прямо на каменный пол, а Бриек, сидя по-турецки, скручивал сигареты, разминая траву и отделяя семена. Пальцами часовщика он вертел тонкую бумагу, вставлял туда скрученный картон для фильтра, слюнявил палец, увлажняя сигарету, чтобы замедлить сгорание, и протягивал ее Бени. Они лежали рядом, луна висела у их ног, они передавали друг другу сигарету, и между ними текла беседа из странных и удивительных слов, которые принимали неизвестное доселе значение, они растягивались, увеличивались, распухали. Слова светились в их головах, как неоновые рекламы ночных городов. Слово из пяти букв БРИЕК показалось вдруг Бени чрезвычайно редким набором.
– А почему БРИЕК? – интересуется она.
– Так решил мой отец, – признался Бриек. – Кто не знает моего отца, тот не поймет, почему я ношу это труднопроизносимое имя (оно обозначает лежать снаружи)… Замечу, кстати, что мы лежим снаружи, и это прекрасное подтверждение тому, что меня зовут Бриек…
Дикий смех.
– …Доктор Жак Керруэ, пятьдесят семь лет, сын крестьянина из Аббареца, вблизи Нанта. Эти огородники приложили столько сил, чтобы выучить его медицине, что это было равносильно кровопусканию. Он был самый умный. Остальные идиоты, тупые, как грабли. Результат – благовоспитанный гастроэнтеролог, мой папа. Лучший специалист в Нанте. Вдобавок проктолог…
– Кто?..
– Прок-то-лог. Доктор для дырки в заднице, если угодно. Во всем департаменте Луар-Атлантик нет ни одного геморроя, который сбежал бы от него. Приезжают даже из Кот-дю-Нор и из Финистера, чтобы папаша Керруэ привел в порядок их живот. Победитель! За ужином он каждый вечер рассказывал нам о своих рабочих трофеях. От азарта у него руки чесались перед трещинами, свищами, тромбозами, петушиными гребешками и вспучиваниями, от которых едва не разрывается анус! Но больше всего его забавляли предметы, которые он доставал из заднего прохода у психов, которые их туда запихивали. Когда видишь таких приличных жителей Нанта на мессе в половине двенадцатого, трудно себе представить, что они настолько изобретательны, что могут проглотить или запихнуть в себя такие штуковины, как бутылки, электрические лампочки, приборы для салата или батарейки. Однажды к нему привели сконфуженного мужчину, который обеими руками держался за живот. Мой отец ставит его на четвереньки, это необходимая поза, засовывает в него ректоскоп – и что же он видит в глубине его задницы? Гора Мон-Сен-Мишель во время снегопада! Мой старикан решил, что это галлюцинации от перегрузки или усталости. Снова посмотрел: сомнений нет, в глубине задницы на горе Мон-Сен-Мишель шел снег. Вся больница приходила любоваться. Этот тип запихнул себе туда сувенирный пластиковый снежок. Представь себе такое кино, гора Мон-Сен-Мишель в глубокой заднице?
– Остановись, – умоляет Бени, корчась от хохота. – Остановись!
– Клянусь тебе, это правда, – заверяет Бриек, – хоть в это и трудно поверить. Заметь, между прочим, что ни в романах, ни в фильмах никогда не говорят об этой неблагодарной, но такой необходимой работе проктолога. Герои всех историй – журналисты, певцы, ковбои или субпрефекты, без которых мы вполне могли бы обойтись, но разве мы можем обойтись без дырки в заднице? Кто может отрицать, что судьба человечества зависит от хорошей работы дырок в задницах? Один хорошо воспаленный геморрой, и самый спокойный, самый острожный глава государства может занервничать и развязать атомную войну, а Папа – переделать все буллы, поезда могут сойти с рельсов, и самолеты могут упасть. Так что очень несправедливо презирать проктолога, который держит человечество на кончике своего ректоскопа, хотя такое занятие не прибавляет радости состоянию его души. О скромной и славной миссии человека, который жизнь посвятил установлению мира в мире, как-то не принято говорить, к нему ходят тайком и из-под полы передают друг другу его адрес. Тебе известен хоть один памятник проктологу? Моя мать презирала профессию мужа, она брезгливо относилась к его историям, особенно рассказанным за столом… Армель, моя мать, совсем другой породы. Насколько мой отец напоминает квадрат, настолько моя мать заостренная. Равнобедренный треугольник, понимаешь, что я имею в виду… Ха! Ха! Я родился от квадрата и равнобедренного треугольника!..
Он катается от смеха и сворачивается клубочком на матрасе, икая, плача, прерывисто дыша, под действием ганжи и этой геометрии, от которой он произошел.
– …Моя мать, – говорит он, – дама добропорядочная. Урожденная Жибо-Мустье, из старинного дворянского рода нантских коммерсантов, которые еще до революции начали делать состояние на специях, цитрусовых и на неграх. «Черное дерево» – так они их называли. Потом они поменяли профиль и стали заниматься ликером и вафлями. Семья моей матери имела солидный капитал! Крупные дела! Склады на улице Кервеган. Жибо-Мустье не крестьяне и не такие голодранцы, как родственники со стороны отца. И хоть мой отец деревенский выскочка, а не буржуа, он придерживается традиций и всегда следует установленному порядку, он сто раз прав, а вот мама, та не права. Да, она верит в прогресс, в просвещение, в суверенность наций, в справедливость, в равенство, верит в то, что нужно делиться с ближним, верит в женскую эмансипацию, во всякую психоерунду, в творение рук человеческих… Ах! Ах! В творение рук человеческих и в кюре в рабочей робе. Она, как в наркотическом опьянении, борется за все модные течения. Менопаузу она заглушает дикой активностью. Она и на нас обрушивается. Десять лет тому назад она всех нас привлекла к работе в отделе планирования нашей семейной фирмы. А сама бегает на демонстрации, заседания, подписывает манифесты за аборты и против смертной казни. Оказывает поддержку малолетним матерям и битым женам… Но все это для показухи! «Товарищ» с тремя норковыми манто, виллой в Ла-Боле и с драгоценностями от «Булгари». Отца все это просто бесит. Во время Алжирской войны дома была полная конфронтация. Семья Жибо-Мустье была на стороне де Голля, они считали, что Франция должна уйти из Алжира с наибольшей выгодой для себя; а Керруэ настаивали, что Алжир должен остаться французским. Результат: Квадрат и Равнобедренный Треугольник козыряли своими уважаемыми семьями и, оскорбляя друг друга, углублялись на несколько поколений в прошлое. «Если родился в семье, которая торговала негритянской кожей, надо помалкивать, – кричал Квадрат, – а не читать другим мораль!» – «А ты фашист! Франкмасон! Петенист!» – вопил Равнобедренный Треугольник, путая от злости все на свете. Они сходились только на нас, на детях. Тут они были единодушны, что мы должны получить хорошее образование, непременно католическое, что было довольно странно, как со стороны матери, так и со стороны отца, они никогда не посещали мессу, разве только во время семейных церемоний… Подожди, я поймаю нить, я что-то хотел сказать тебе… Если меня зовут Бриек, то это только из-за Квадрата. Бретонец, говорящий по-бретонски, всем своим пятерым детям, а я старший из них, он дал бретонские имена. Мало, Серван, Геноле и Жуан. Мы всегда гадали, хватит ли у него решимости продолжить эту серию именами Броладр, Люнэр или Жакю.
– А ты живешь в Нанте?
– Жил, – ответил Бриек очень мрачно. – Теперь я путешествую… А в Нанте я жил… Камбронн… на солнечной стороне… солнце во второй половине дня…
Его голос вдруг изменился, он взял руку Бени и медленно, один за другим, начал поглаживать ее пальцы. Он лежит на спине с закрытыми глазами, как памятник, очень бледный, очень красивый. Танцующее пламя свечи освещает его профиль.
– Мы учились в «Экстернате для нантских детей» (больничная практика для студентов-медиков), – продолжал он. – Квадрат хотел, чтобы я стал врачом, он хотел передать мне своих пациентов. Я начал изучать медицину, но потом бросил. Мне не хотелось закончить свою жизнь в задних проходах. Ты хорошо знаешь Нант?
– Нет.
– Это самый красивый на земле город. В Нанте я был очень счастлив… Но еще больше Нанта я любил речку возле дома моего дедушки Керруэ, меня отправляли к нему на каникулы, а еще по четвергам, потому что моя мать уставала от меня и теряла терпение. Река, Бени, река…
Они больше не смеются. Состояние томительной истомы и волнующей радости обволакивает их, проникая внутрь. Бесконечная нежность рождается в соединении рук, правая рука Бриека, левая рука Бени, удивительная гибкость пальцев. Странный трепет перетекает от одного к другому через руки, смешивает их, рождает общность. То, о чем рассказывает Бриек, Бени испытывает во всей полноте ощущений. Слово РЕКА, произнесенное шепотом, превращает ее в реку. И она течет среди тополей, ивы, затеняющие берега, заставляют ее вздрагивать от своей растительной ласки. Она – тень, в которой укрываются рыбы, она – зеленые водоросли, и ее волнующуюся шевелюру приглаживает течение. Бени – неподвижный карп между кувшинок, уклейка у поверхности, голавль, хватающий на лету насекомое, упавшее с дерева. Она становится Бриеком. Ей семь лет, и дедушка, чтобы научить ее плавать, сбрасывает ее с мостика. Вода поглощает ее. Она отбивается, поднимается на поверхность, и сильная рука подхватывает ее. Она – семилетний Бриек, она тот, кто держит сейчас ее руку и уводит в свой сон наяву. Она ныряет и, задержав дыхание, долго плывет под водой. Она до мелочей знает дно. Она проникает в пещеру, наполненную лежащими бок о бок огромными усачами. Одного из них она поглаживает, а потом не может устоять от искушения, хотя и знает, что это запрещено, и хватает его за хвост и за жабры, отталкивается и поднимается с ним на поверхность. Она горда своим поступком. Теперь она браконьер. Она знает, как перехитрить сторожей. В новолуние, когда дует южный или западный ветер, она скользит по реке или по прудам Вьоро. Ночью она становится демонической, пробегает по берегам реки в холщовых туфлях, едва дыша, неслышная, как индеец сиу, она тень в тени, невесомая, не ломая ни одной веточки, не приминая травы, не потревожив ни единой рыбки. Она проверяет расставленные ловушки, донные удочки и верши, размещенные в протоках, где проходят щуки, она в свете фонарика раскидывает сеть, которая расправляется со свистом. С восходом солнца она снова становится невинной. Течение уносит барку, а она, лежа на животе, наблюдает за пузырями, за движением водорослей и анофелесов, которых у поверхности воды поджидают карпы, за тем, как окуни гоняются за уклейками, а ужи в желтых ошейниках, извиваясь, рассекают воду. Запахи, звуки и речные пейзажи накладываются один на другой; легкий трепет, шелест, плеск воды, голубая молния зимородка, летящего с криками, горячая примятая трава, трели дрозда, благоухающий цветок рогульника среди колючек и кудахтанье водяной курочки, невидимой в зарослях тростника.
С терпением кружевницы она расставляет приманки, нанизывает червяков и луговую саранчу, скрепляет леску, откусывая кончики зубами. Она рассыпает жареную пшеницу. Так же как и выдра, ее соперница и сестра по хитрости и смелости, Бени, загнанная в ловушку, способна отгрызть себе лапу, чтобы вырваться на свободу.
Ею движет не ненависть, а жажда удовольствия. Она убийственно нежна; она спаивает угрей и усыпляет лягушек водкой, она любит ожидание, игру преследования и случайности, загадочную связь между ловушкой и жертвой, резкий рывок пойманной щуки, и сражение с ней, и завоевание.
– Да, – шепчет Бриек, возникший то ли из сна, то ли из яви, – да, так оно и есть. Но откуда ты это знаешь? Ты полностью проникла в мою голову. Ты только что поимела меня!
Приглушенный смех сотрясает его до кончиков пальцев, которые еще сжимают руку Бени.
– Раз уж ты все знаешь, ты не прочь узнать, что такое бретонец, у которого стоит, как у осла? Взгляни…
Он поднимает руку Бени, эта рука кружевницы в руке зверолова не сопротивляется, он кладет ее на свой член, который и вправду…
Глава 32
Чайки ссорились под варангом из-за хлебных крошек, они и разбудили Бени поздно утром. Она открыла глаза, и первое, что она увидела, – это банка скумбрии в белом винном соусе, туча мух уже допивала остатки жижи. Матрас рядом с ней пуст.
Бени вытягивается, переворачивается на живот и морщится. У нее болит голова, а также плечи, спина и вообще все. Солнце уже высоко, оно светит прямо на пол террасы и припекает задницу; заметив, что она совершенно голая, она заворачивается в скомканную простыню, чтобы не шокировать Лоренсию, Фифину или Линдси, которые могут с минуты на минуту появиться здесь.
Под варангом опустошение. В кресле-качалке пусто. Рядом переполненная окурками и жжеными спичками пепельница, банка из-под варенья закатилась под стул, на полу растекся и застыл воск истаявших свечей. Дверь в гостиную открыта; там горит забытый свет. Везде тишина. Бриек ушел, пока она спала.
Усаживаясь по-турецки на матрасе, Бени ерошит волосы, пытаясь восстановить события этой бурной ночи, от которой у нее впечатление, как от беспорядочных кадров фильма, в котором все перемешалось, а диалоги не соответствуют кадрам. Так бывает, когда, оправляясь от тяжелого сна, мы пытаемся найти путеводную нить. Бени извлекает из памяти фрагменты, способные восстановить то, что произошло с того момента, как она начала курить, и до пробуждения на залитой солнцем террасе. Они с Бриеком долго занимались любовью, в этом она уверена. Они продолжали заниматься любовью, даже когда едва касались друг друга только кончиками пальцев. Даже когда они вообще не касались друг друга. Они занимались любовью вблизи и вдали в течение коротких часов и бесконечных минут. Они не переставая занимались любовью даже во сне, почти не замечая этого, разговаривая и смеясь. И плача? Да, даже плача. Она помнит, как по щеке Бриека скатилась слеза, а она ее выпила. Он плакал из-за старой армейской истории, когда в двадцать лет его зачислили в Иностранный легион в Кальви. Высадившись в Марселе, он получил увольнительную и решил автостопом добраться до Нанта. Желание увидеть семью, немного покрасоваться перед братьями, ощутить нежность Камбронна. Он думал, что у него достаточно времени, чтобы съездить и вернуться на отплывающий корабль. Но он опоздал и собирался на следующий день отплыть другим кораблем, не особо беспокоясь из-за двадцатичетырехчасового опоздания и недели гауптвахты, которая ему за это грозила. Он был на хорошем счету, все обойдется. На следующий день он услышал по радио, что его полк направлен в Катангу и только что осадил Кольвеси. Без него! Позор! Он не должен был пропустить этот бой! Никогда он не сможет смотреть в глаза своим товарищам. Через восемь лет он все еще оплакивал это. Он больше никогда не возвращался в Кальви. Он сбежал, и тут начались настоящие безумства. Даже если он пропустил Кольвеси, он всем покажет, что это не от страха, он не был трусливым дезертиром. То, что он устроит, будет похлеще Кольвеси. За ним по пятам шли легавые. Он хотел затаиться и подождать, но это оказалось нелегко; побег дорого обходится и не способствует поискам работы. Вначале он с игрушечным пистолетом грабил провинциальные супермаркеты и набил на этом руку. Получалось совсем неплохо. К несчастью, легавые, которые разыскивали его из-за Кальви, однажды настигли его в доме у девушки, с которой он жил, и обнаружили его снаряжение. Из первой тюрьмы он сбежал, перемахнув через стену. Он был ловкий и сильный. Он продолжил налеты, но вел себя уже осторожнее. Он быстро совершенствовался. Приключения, вызов, подвиг, хитрость интересовали его больше, чем деньги. Чем сложнее и опаснее, тем больше это волновало его. Каждый раз он устраивал свой Кольвеси, понемногу восполняя пропущенный. На хвосте у него висела целая свора собак, становилось все труднее и труднее, но он был осторожен. Он не входил ни в одну банду. Действовал в одиночку или с одним и тем же напарником. Бывший ученик медицинского экстерната не был убийцей. Напротив, он опасался жестокости. На свои вылазки он отправлялся с двумя холостыми патронами в револьвере. В случае неприятности можно было напугать, никого не убивая при этом.
Неприятности были, но всякий раз, когда его брали, ему удавалось бежать. Однажды в поезде, во время перевозки, от двух жандармов. В другой раз, взяв в заложники окружного инспектора; одной рукой он управлял машиной, а в другой держал гранату с выдернутой чекой. Полицейский был молод и испуган. Бриек позволил себе роскошь утешить его, говорил с ним приветливо, советуя дышать глубже и расслабиться: «Не волнуйтесь, милейший, это всего лишь неприятный эпизод в вашей жизни!» В какой-то деревне он его отпустил, и тот, удаляясь, сердечно его благодарил.
Играть с огнем – вот что ему нравилось. Узнать, как далеко можно зайти в провокации. Когда он был в бегах, ему даже доводилось работать. Какое-то время он был сторожем на фабрике. Под чужим именем он сумел получить в военной школе диплом пилота вертолета. У него были документы на три или четыре имени. Время от времени он вновь превращался в светского человека и даже появлялся в модных ночных клубах Парижа. Прекрасное образование, жизнерадостность притягивали к нему влиятельных людей, чье положение он мог бы использовать, но это его не интересовало. Он очаровывал и быстро исчезал, улетучивался.
Ему случалось читать рассказы о своих подвигах в газетах. Он обнаруживал там ошибки и пропуски, и его это забавляло. Но он не переносил, когда ему приписывали злодеяния, которых он не совершал. Однажды, когда пресса обвиняла его в убийстве управляющего большим отелем, он из телефонной будки позвонил жене убитого, назвавшись своим настоящим именем, которым пестрели газетные заголовки, и сказал ей, что не убивал ее мужа. Изредка он звонил в Нант своей матери, потому что любил ее и хотел успокоить. Но при первом же всхлипывании Армель он вешал трубку.
Через два года после Кольвеси Бриек решил заниматься только крупными ограблениями и специализироваться только на самых роскошных драгоценностях. Ему нравилась мягкая обивка футляров для шикарных украшений. С детства его завораживала атмосфера дорогих ювелирных магазинов на улице Крейбийон, куда пускали клиентов, имеющих благонадежный вид. Толстые ковры, дорогая обивка на стенах, большие деревянные столы, мягкое освещение бархатных витрин и эти дарохранительницы, где покоятся драгоценности, эти божественные, хрупкие создания, о которых говорят приглушенным голосом, и, конечно же, утонченные ароматы, плавающие в воздухе, – все это напоминало гостиную его матери в Камбронне.
Бриек любил драгоценности не за их коммерческую стоимость, а за магическую силу, любил их названия и все, что имело к ним отношение: блеск, чистоту, огранку, пробу, характеристики камней. Любил сапфир, дающий силу; рубин, усмиряющий гнев; любил пьянящий изумруд и чувственный жемчуг и, конечно, бриллиант – эту горделивую слезу вулкана, способную разрезать все на свете, и только огонь способен разрезать его самого, бриллиант чистой воды, который своим блеском создает неповторимую игру. Всякий раз, когда он, торопясь, перекладывал футляры с витрины в свою сумку, от этого блеска камней и запаха золота кровь стремительно бежала по его венам и приливала к лицу, скрытому маской с прорезями для глаз. Разве можно сравнить это с пачками вонючих банкнот, которые он крал из сейфов или из касс на автозаправках!
Бриек был очень осторожен и разрабатывал планы налетов только сам, определяя входы, выходы, камеры наблюдений, которые надо убрать, рассчитывал время пробега, расстояния и все необходимое для операции.
Он имел респектабельный вид, и это помогало ему. Он требовательно относился к своей одежде и к одежде своего сообщника. Серая фланель, хороший твид, безупречные рубашки с галстуком, начищенная до блеска обувь и качественные кейсы. При их виде самые осторожные и недоверчивые продавцы медом растекались – и оказывались на полу со связанными руками и ногами, так и не успев понять, что с ними произошло. Открытый взгляд и приветливые улыбки этих респектабельных молодых людей никак не вязались с представлением о преступниках.
Его последний налет на Лазурном Берегу был шедевром: тридцать миллионов среди бела дня за четыре минуты взяли эти двое, одетые, как обычные отдыхающие, в рубашки от «Лакоста», с теннисными ракетками в сумках и наброшенными на плечи свитерами.
С четырьмя миллиардами и почти всеми легавыми Франции и Наварры на хвосте, Бриек решил на некоторое время покинуть родину и немного передохнуть.
В Монпелье двумя годами раньше его сокамерник, молодой маврикиец, дал ему адреса в Порт-Луи, где можно сплавить драгоценности через китайцев, которые имели связи с Южной Африкой и Австралией. Самолет был быстрее, но опаснее. Бриек решил добраться до Маврикия морем. По фальшивым документам он нанялся грузчиком на грузовое судно компании морских перевозок, которое следовало через Джибути, Дурбан и Реюньон, прежде чем пристать к Маврикию. В октябре он сошел на землю, и никому и в голову не пришло, что молодой человек, который растворился в портовой толпе, нес хорошенькое состояние в сумке цвета хаки, висящей у него на плече.
Бени навела под варангом порядок. Она сложила матрасы стопкой, выбросила в мусорное ведро окурки, банки из-под варенья и консервов. Потом пошла в ванную и там в зеркале увидела свое лицо. Это я? Заплывшие глаза, пересохшие распухшие губы и огромный красно-желто-голубой след от засоса у основания шеи, который не скоро сойдет; если она не хочет выслушивать насмешки, то ей придется носить шейный платок по этой жаре. Как назло! Она, видимо, долго терлась головой о матрас, волосы спутались и свалялись так, что даже пятерню в них просунуть невозможно, а уж расческу и подавно.
Стоя перед зеркалом, Бени замечает синяки и царапины на руках и на спине. Она разбитая, измочаленная, уставшая. Открыв краны до упора, она присела на низкий стульчик и стала смотреть, как струи наполняют ванну. От горячего пара усиливается запах на голой коже, между сведенными руками она снова вдыхает запах безрассудства, спермы, кисловатые остатки запаха удовольствия. Она проводит руками между ног и вдыхает аромат, оставленный на ней Бриеком, затем раздумывает, стоит ли очистить свое тело, погрузив его в мыльную воду, или сохранить эти запахи, чтобы насладиться ароматом любви, который заставляет ее вздрагивать.
Она резко обернулась: на нее давит тяжелый и лукавый взгляд с портрета деда Жан-Луи, он глядит на бесстыдную задницу своей внучки и на полосатый узор, оставленный базальтом варанга. Хохотнув, Бени подмигнула портрету и погрузилась в животворящую влагу, которая укрывает ее до подбородка.
Но почему Бриек так внезапно ушел?
Бриек воспользовался тем, что она заснула, и ушел. Никакого послания, никакой, даже самой маленькой нацарапанной записочки; этот уход похож на бегство, и это отвратительно. Он что, не понял, что ему нечего бояться, что ее гордость слишком велика, чтобы позволить себе предаваться неуместным умилениям и предъявлять требования, что сентиментальные утренние женские попрошайничества не для нее? Как он не понял, что Бени скорее умрет от любопытства, чем будет приставать к нему с вопросами – один ли он живет на Маврикии или когда они снова увидятся?








