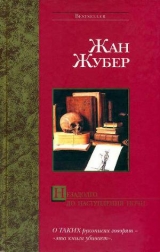
Текст книги "Незадолго до наступления ночи"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Да, я прочла несколько стихотворений. Признаюсь, они производят очень сильное впечатление, но на меня подействовали угнетающе, более того, ввергли почти в отчаяние. Нет, мне это не по вкусу, я жду от поэзии чего-то другого…
– Понимаю вас, понимаю… Я думаю так же, как и вы… Мне кажется, что поэзия, даже если она выражает отчаяние и тоску автора, все же должна нас волновать, приводить в восторг и в конце концов быть источником надежд, должна указывать путь к спасению. Поэзия Бенжамена Брюде есть нечто иное… Это грозное оружие, предназначенное для очищения мира путем предания его огню. Вы помните, как называется второй сборник стихов Брюде? «Динамит»! Он считал, что в его стихах сами собой взрываются и подрывают все вокруг слова и образы… Да, его стихи и поэмы в свое время наделали много шуму, они покорили некоторые незрелые умы и произвели некие разрушения в этих юных умах и сердцах, но мир от этого не содрогнулся и не перевернулся. Брюде заблуждался, он строил себе иллюзии относительно взрывной силы своих слов, но заряд взрывчатки оказался слишком мал, а взрыв – слаб. Динамит! Для того чтобы взорвать мир, ему надо было бы создать словесную водородную бомбу! А знаете, я ведь был знаком с Брюде… С ним было очень трудно общаться, очень… В конце концов он свел счеты с жизнью, и я упрекаю себя в том, что не смог уберечь Бенжамена от него самого, от его собственных черных мыслей и разрушительных идей. Да, угрызения совести по сей день мучают меня… Но в то же время себе в утешение я говорю, что никто не мог прийти ему на помощь и что с самого начала можно было предвидеть его печальный конец, он был словно обречен на самоубийство, приговорен именно к такой смерти. И его дневник служит тому подтверждением! Он ненавидел не только современное общество, весь окружающий мир, нет, он ненавидел жизнь вообще и свою собственную жизнь, ненавидел себя самого.
– Именно это и пугает меня в его стихах, – сказала Марина.
– Да, кстати, раз мы уже заговорили о Брюде, я давно хотел задать вам один вопрос, но в библиотеке у нас как-то не было случая по-настоящему поговорить. Вы почти всегда чем-то заняты, а я с утра ухожу с головой в чтение… Итак, я надеюсь, вы не сочтете мое любопытство неуместным… Так вот, я хотел у вас спросить, что представляет собой тот сектор библиотеки, где хранятся рукописи Брюде?
– Вы хотите сказать, закрытый фонд?
– Да, закрытый фонд. Вы не находите, что это название звучит по-французски весьма занятно?
– Вы намекаете на то, что для закрытого фонда не нашлось иного слова, кроме слова «ад»? Я как-то никогда не задумывалась. Что он собой представляет? Да ничего особенного… Отдел как отдел… Хранилище как хранилище… Единственное его отличие от других отделов заключается в том, что там хранятся книги, имеющие печальную славу произведений, опасных для общества, я имею в виду книги авторов, которых обвиняли в богохульстве, в приверженности культу Сатаны, в подрывной деятельности, направленной на разрушение устоев общества и государства, а также книги эротические, вернее, порнографического содержания и… и… ну, я не знаю, что еще там может быть… Мы с Верой заходим туда только для того, чтобы взять книги, на которые поступили запросы от редких читателей, подобно вам, имеющих разрешение на доступ к такой литературе. Но нам самим запрещено читать эти книги. Признаюсь, у меня нет ни малейшего желания задерживаться в том отделе… и никогда не возникало желания ознакомиться с тем, что стоит там на полках… Прошу вас не расспрашивать меня больше о закрытом фонде, мне не следовало даже говорить с вами о нем.
– Но у меня есть к вам еще один вопрос… ответьте, будьте так добры.
Марина нахмурила брови, и на ее лице появилось выражение недовольства и раздражения, словно она имела дело со слишком любопытным и ужасно надоедливым ребенком.
– Ну ответьте же хотя бы на вполне невинный вопрос, – взмолился Александр, – мне очень хочется знать, большой ли этот закрытый фонд, или нет?
– Большой? Да, наверное, довольно большой… Впрочем, откуда мне знать? Не думаете же вы, что я его обследовала? Делать мне нечего! Разумеется, мне знакома только какая-то небольшая часть… Но я прошу вас, не расспрашивайте меня о нем больше! Мне пора идти! Сейчас уже почти десять, а мне еще надо зайти в магазин, кое-что купить…
Девушка встала из-за столика, выглядела она очень взволнованной и обеспокоенной. Внезапно ее лицо словно «погасло», как будто щелкнули выключателем; оно вновь обрело обычное бесстрастное выражение; она явно замкнулась в себе.
– Да, да, конечно, – смущенно забормотал Александр. – Извините, мне тоже пора идти.
В ту минуту, когда на улице они уже должны были распрощаться и разойтись в разные стороны, он неожиданно спросил:
– Не знаете ли, господин директор уже вернулся? Он вышел на работу? Мне пока еще не удалось его увидеть. Я хотел зайти поблагодарить его за любезность, но его никогда нет на месте… Что происходит? Он в отпуске? Или болен?
– Не знаю, поверьте, я действительно ничего не знаю. Я всего лишь рядовая служащая среди сотен и сотен таких же. Я не в курсе того, что происходит в администрации. Должна вам признаться, я никогда не видела господина директора.
– Как? Вы никогда не видели господина директора?
– Нет, представьте себе, не видела. А что тут такого? Я работаю в библиотеке сравнительно недавно, всего два года… Ах, до чего же вы любопытны! Ну, до свидания! Я побежала… И спасибо за кофе!
В последующие дни студенческие волнения, казалось, пошли на убыль или, скорее, переместились в другие районы, ближе к центру города, так как издалека доносились ослабленные расстоянием невнятные крики, но звучали они все реже и реже. Какую бы симпатию ни питал Александр к студентам, он испытывал облегчение от того, что теперь мог без помех добираться до библиотеки, и в глубине души он должен был признать, что весь этот шум и гам, все эти беспорядки мешали ему работать. В один из дней он спросил Марину о положении дел в университете, и она сказала, что администрация пошла на некоторые уступки, надавала кое-каких обещаний и что само студенческое движение явно выдыхается. Она добавила, что в этом нет ничего удивительного, потому что приближается Рождество.
– Рождество? Неужели? Уже? – изумился Александр.
– Ну конечно! Осталось всего четыре дня! – улыбнулась девушка, кладя перед ним на стол новую папку.
Еще раз (уже в который раз!) Александр был вынужден констатировать тот факт, что совершенно утратил представление о времени… утратил до такой степени, что забыл, что декабрь близится к концу, а соответственно, приближаются и праздники. Чтобы вернуть его к реальной жизни, потребовалось немногое: чтобы девушка ненароком упомянула о Рождестве.
– Да, кстати, обращаю ваше внимание на то, что два дня библиотека будет закрыта: мы не работаем в четверг и в пятницу.
– Два дня!
– Да, а в среду мы закрываемся в семь часов вечера, а не в десять.
Вот об этом Александр как-то не подумал… и внезапно он пришел в ужас от осознания того очевидного факта, что впереди перед ним открывалась перспектива провести целых два «пустых», то есть потраченных понапрасну дня.
– У вас удивленный и немного испуганный вид, профессор, – отметила девушка.
– Да, я немного удивлен… неприятно удивлен. Я так привык проводить все дни напролет в библиотеке, что известие о том, что она будет закрыта в течение двух дней, застало меня врасплох.
– Но ведь не думали же вы в самом деле, что мы будем работать и в праздники?! Мы тоже нуждаемся в отдыхе, нам всем надо немного развеяться, сменить обстановку. Да и кто, кроме вас, захочет прийти сюда и работать в такие дни! Какой же вы странный! Вы что же, не хотите провести Рождество с семьей?
– По правде сказать, у меня больше нет семьи… Жена моя умерла пять лет назад, а два сына… ну, они оба женаты, у них свои семьи, да и живут они на другом краю света: один – в Токио, а другой – в Калифорнии. Я едва знаком с их женами и с моими внуками… так, видел их мельком… Короче говоря, у каждого своя жизнь… а я… я – одинокий старик…
Девушка смотрела на Александра с неким подобием сочувствия, даже сострадания.
– Мне очень жаль, что ваша жена умерла, – сказала она после короткой паузы. – Примите мои соболезнования… И такая жалость, что ваши внуки сейчас так далеко от вас…
– Да, очень жаль! Но вообще-то дети меня всегда утомляли, и я думаю, что из меня не вышло бы хорошего деда. Но хватит говорить обо мне… А вы сами куда отправитесь на Рождество?
– К родителям, в горы. Они живут в чудесном шале… дом стоит среди высоких стройных елей. Туда приедут мои брат с сестрой, их дети. Представьте себе, как нам будет хорошо, как весело! Там, высоко в горах, просто восхитительно! Воздух такой чистый, прозрачный! Надеюсь, там выпадет снег!
Когда Марина заговорила о родных горах, лицо ее, обычно остававшееся невозмутимо-равнодушным, вдруг оживилось и словно осветилось изнутри каким-то ясным светом. Теперь Александр в чертах лица взрослой девушки смог распознать черты маленькой девочки, какой она была давным-давно… да, теперь, наверное, на ее лице было то самое выражение счастья, которое она испытывала в те далекие праздничные дни, когда играла в снежки под елками. Видя ее сейчас такой, он пытался представить себе гостиную в доме ее родителей, заставленную старинной мебелью, камин и все семейство, собравшееся у огня. И он со стеснением в груди вспоминал о рождественских праздниках своего детства, с чувством невыразимой тоски размышляя о том, что от этих праздников не осталось ничего, кроме образов, запечатлевшихся в его памяти, так как из всех, кто принимал в них участие, в живых остался лишь он один. Безвозвратно канули в прошлое, а вернее, в небытие и те праздники, что он проводил с Элен и их маленькими сынишками. Кстати, Рождество и все, что с ним связано, уже в те далекие времена детства пробуждало в его душе некую грусть, некую светлую печаль, которую он старался скрыть ото всех, но хорошо ли ему это удавалось, он не знал.
– Я вас покину, – сказала Марина. – Меня ждет работа…
Девушка, ненадолго похорошевшая от волнения при мысли о скорой встрече с родными, вдруг опять замкнулась в себе, и на лице ее вновь появилось обычное равнодушно-отстраненное выражение, быть может, даже подчеркнуто-равнодушное, словно она уже сожалела о том, что позволила себе разоткровенничаться с малознакомым человеком. Она повернулась и пошла прочь, постукивая каблучками.
Александр смотрел ей вслед, как всегда ощущая легкое волнение при виде того, как мягко покачивались при ходьбе ее бедра.
«Красивая девушка! Действительно красивая! – подумал он. – В старые добрые времена я бы набрался храбрости и сказал бы ей, что она очень хороша собой, но теперь…»
Александр опустил глаза и со вздохом раскрыл очередную папку.
Последующие три дня были для Александра тяжелы, даже мучительны. Чтобы не поддаваться тоске и тревоге, наваливавшимся на него в минуты пробуждения, он отправлялся в библиотеку очень рано, к самому открытию, а вечером Марине или Вере приходилось заходить к нему в кабинет, чтобы напомнить о том, что библиотека закрывается.
– Господин профессор, поторопитесь, пожалуйста! Уж не хотите ли вы тут заночевать?
Александр думал, что девушки и не подозревают, насколько они близки к истине, ибо он и в самом деле очень хотел бы остаться в библиотеке на ночь, а еще лучше – и на праздничные дни! Эти столь нежеланные для него выходные! Их приближение тревожило его все больше и больше… Он мог сколь угодно глубоко погружаться в чтение дневника Брюде, он мог время от времени «выныривать» на поверхность и, чтобы немного отвлечься, мог отправиться «в паломничество» по фонду и пролистать несколько заинтересовавших его изданий, однако все было напрасно: чувство тревоги не исчезало, а только усиливалось.
Накануне Рождества библиотека, как и было предусмотрено, закрылась в семь часов вечера. Александр с сожалением покинул ставшие ему уже привычными стены и в расположенном неподалеку от отеля бакалейном магазинчике сделал кое-какие покупки, то есть закупил провизию, чтобы иметь возможность «продержаться» два праздничных дня. Он решил на эти два дня стать затворником, сидеть безвылазно в своем номере и не высовывать носа на улицу. К счастью для Александра, в этом районе парков и широких авеню, где было сравнительно немного универмагов и модных лавок, приближение Рождества, в сущности, особенно и не ощущалось. В отеле «Дункан», видимо, тоже решили не выбрасывать денег на ветер, а потому одна только небольшая искусственная елочка, установленная на конторке, за которой сидел портье и читал газету, и свидетельствовала о приближении праздника.
Когда Александр толкнул створку двери и вошел в холл, портье оторвался от газеты и взглянул на него.
– Добрый вечер, господин профессор. Сегодня вы что-то рано… да ведь сегодня Рождество… Быть может, вы пойдете на праздничный ужин?
– Праздничный ужин? Куда я пойду и с кем я буду вкушать этот ужин? Сказать по правде, больше всего я сейчас нуждаюсь в отдыхе и покое. Не тревожьтесь, если не увидите меня на протяжении этих двух дней, я купил кое-что про запас, так что с голоду не умру. А вы? Вы и сегодня дежурите ночью?
– Да, конечно. Но, знаете ли, для меня Рождество не имеет особого смысла… день как день… ночь как ночь… вот птицы составят мне компанию…
– Ну тогда доброй вам ночи.
– И вам доброй ночи, профессор.
Ни тот, ни другой не осмелились пожелать друг другу счастливого Рождества, как это принято делать в сей знаменательный день.
Александр поужинал сандвичем и йогуртом. Поглощая более чем скромный «праздничный ужин», он одновременно просматривал сделанные им заметки и выписки. Да, на основе этого материала он сможет написать научную работу, посвященную творчеству Брюде, в которой он проследит, в какие пласты литературы уходит корнями поэзия юного нигилиста. Он подумал о том, что можно даже будет опубликовать дневник Брюде целиком или хотя бы частично. Брюде был одним из тех «окаянных, проклятых» поэтов, что вновь и вновь появлялись, словно воскресали, восставали из гроба в конце этого бурного, тревожного века, когда часть молодежи с завидным постоянством настойчиво искала учителей и предводителей, способных питать и поддерживать ее возмущение и протест, ее ярость, ее бунтарский дух, ее стремление к разрушению, ее жажду ниспровержения всяческих властей и авторитетов, ее тягу к саморазрушению, к самоуничтожению и небытию. Но ведь именно этого так желал Брюде? Для Александра написание такой работы будет неким способом отчасти загладить свою вину перед Брюде, ведь втайне он чувствовал себя виноватым перед ним, потому что в какой-то момент бросил его на произвол судьбы. Но, с другой стороны, зачем ему, почтенному профессору, на склоне лет становиться в каком-то смысле соучастником деяний человека явно порочного, испорченного, склонного к извращениям, зачем ему способствовать распространению столь вредоносных и ядовитых идей?
Дойдя в своих размышлениях до этого вопроса и предчувствуя, что дальнейшее его рассмотрение может, несомненно, привести к бессоннице, Александр принял большую дозу снотворного; поворочавшись недолго в постели, он забылся тяжелым сном.
На следующий день, рассчитав приблизительную разницу во времени, Александр позвонил сыновьям, сначала в Токио, потом – в Сан-Франциско. Связи с Токио удалось добиться не сразу, линия была занята, так что пришлось ждать, несколько раз набирать номер, слушать в трубке гудки и потрескивание. С Сан-Франциско все оказалось проще. «Как вы там поживаете? – Хорошо, все в порядке, ты-то как? Как всегда копаешься в своих книгах? Успехов тебе! – Счастливого Рождества! Да, спасибо, и вам того же! Обнимаю вас! Целую крепко! Мне вас так не хватает…» Последнее заявление было и правдой, и неправдой одновременно, даже если учесть то обстоятельство, что именно в эти дни чувство одиночества обострялось и начинало причинять тянущую, тупую боль.
Александр с явным неудовольствием отметил про себя, что один из его внуков, которого он, правда, видел очень давно, когда тот еще лежал в детской коляске, обращался к нему на «вы». Он ощутил болезненный укол в сердце. Что же, он им совсем чужой? Такая отчужденность… Но ничего удивительного в этом нет, ведь их разделяет такое расстояние!..
На протяжении всего дня Александр даже не удосужился раздвинуть занавески на окнах. Ему все время хотелось спать, он пребывал в какой-то полудреме, и вдруг сквозь эту полудрему он вспомнил, что Брюде в конце жизни сделался затворником и жил в комнате с наглухо зашторенными окнами, причем занавеси на окнах были черного цвета, очень плотными, они совсем не пропускали в помещение дневного света. Так вот, не было ли нежелание самого Александра раздвигать занавески первым признаком того, что двадцать лет назад он заразился от Брюде опасной болезнью? Не случилось ли с ним то, чего так опасалась Элен?
В субботу в восемь часов утра Александр первым вошел в здание библиотеки. Едва он переступил порог, как ощутил прилив сил и приободрился. Он несколько раз глубоко вздохнул. В воздухе ощущался легкий запах дезинфекции, не вызывавший раздражения. Александр издали поклонился служащей, ответственной за прием посетителей, и она ответила ему легким наклоном головы. Александр вошел в клетку лифта и вознесся на седьмой этаж. Он питал тайную надежду встретить там сегодня Марину, с которой он мог бы обменяться парой слов, но нет, за столом дежурной сидела Вера. Выглядела она неважно: веки набрякли и припухли, а черты лица заострились… вообще лицо ее как-то осунулось, будто она плохо или мало спала и не выспалась.
– Здравствуйте, – сказал Александр. – Ну как, хорошо провели праздники?
– Да, да… здравствуйте, – отозвалась она как-то уныло, с какой-то не то досадой, не то тоской в голосе. – Вы можете идти в ваш кабинет. Я сейчас принесу вам папку. Четвертую, не так ли? Извините, но вам придется подождать, так как мне сначала кое-что нужно привести в порядок… – под конец буркнула она угрюмо и уже безо всяких церемоний повернулась к нему спиной, прикрыв рот рукой, чтобы скрыть зевок.
В кабинете было немного прохладно, так как в те дни, когда библиотека была закрыта, помещение, вероятно, отапливалось хуже, чем обычно, а быть может, отопление и вовсе на какое-то время отключали; так что Александр, усевшись за стол, был вынужден даже поднять ворот пиджака и скрестить руки на груди, чтобы было теплее. Ему не терпелось вновь приняться за чтение, и как только Вера положила перед ним на стол папку, он тотчас же ушел в работу с головой, вновь ощутив в тишине то блаженное состояние легкости, почти невесомости, которое он мог обрести лишь здесь.
Все утро Александр провел за чтением страниц, на которых Брюде объяснял, каковы были его «отношения с поэзией» в тот период его жизни, когда он, будучи еще лицеистом, писал первые стихотворения, впоследствии вошедшие в сборник «Сильная рука». Неужто Брюде в ту пору действительно верил в возможность создания языка, наделенного волшебной силой, языка, способного подорвать устои общества, столь ему ненавистного? Неужто он и впрямь верил в то, что можно создать язык, при помощи которого это общество будет разрушено? Брюде полагал, что поэт будет действовать так, как действует опытный подрывник: он заложит слова, похожие на толовые шашки, в самые уязвимые и самые «чувствительные» места общественного здания. Затем прогремит мощный взрыв, и все заряды взрывчатки сдетонируют! «И если мне суждено оказаться погребенным под этими обломками, да будет так! Мне нечего восстанавливать, нечего заново созидать в этом мире, где все – прах и тлен! Быть может, где-то в ином мире, который еще только предстоит открыть, и можно будет приступить к созиданию, а здесь все подлежит уничтожению. Сейчас же главное – обрести великую разрушительную силу! И в конце будет Слово!» – писал Брюде. Вот так-то! Полная аналогия бессмертной фразы: «В начале было Слово…» Интересно, как представлял себе этот Брюде слова, которые должны «взрывать», которые «воют, ревут, горланят, кромсают на куски, уничтожают»?
Около полудня Александр оторвался от рукописи, поднял голову, взглянул в окно и увидел, что мимо окна медленно, как-то лениво скользят какие-то белые хлопья, которые он вначале было принял за маленькие перышки; он тотчас же подумал, что голуби, куда-то исчезнувшие несколько дней назад, вернулись и теперь принялись предаваться любовным утехам на крыше. Но когда он присмотрелся повнимательнее, то увидел, что это были никакие не перья, а настоящие крупные снежные хлопья. Они падали с небес медленно-медленно, легкие, пушистые; но, без сомнения, это были всего лишь предвестники настоящего снегопада, это была, так сказать, прелюдия Зимы. Вскоре снег повалит густо-густо, и когда вечером Александр выйдет из библиотеки, город уже будет облачен в белый наряд.
Александр сидел за столом, положив руки ладонями вниз по обе стороны от папки, и смотрел, как снежинки прилипают к стеклу; его охватывало какое-то меланхоличное оцепенение.
Несколько лет назад в прекрасный осенний день он отправился с Элен в горы на прогулку. На равнине было тепло, воздух, прозрачный и чистый, был словно весь пронизан солнечными лучами, и можно было даже подумать, что осень еще не вступила в свои права, что еще стоит лето. Машина легко преодолевала склоны залитых солнцем холмов, но как только они добрались до первого горного перевала, небо неожиданно потемнело и вскоре пошел снег. В тот день, Александр это помнил очень отчетливо, с неба падали точно такие же невесомые, неосязаемые, ирреальные хлопья, налипавшие на ветровое стекло. Постепенно их становилось все больше и больше, окрестные отроги и ущелья словно затянуло белой пеленой, времена года вступили в ожесточенную борьбу, они толкались, теснили друг друга… и внезапно во всей красе перед ними предстала Зима. Было в этом ее неожиданном явлении нечто необычное и печальное, даже жестокое, словно время вдруг ускорило ход, чтобы безвозвратно унести, а вернее, похитить несколько счастливых недель.
Александр остановил машину на опушке леса, под елями, и Элен сочла для себя необходимым выйти из машины и сделать несколько шагов по усыпанной еловыми иголками земле. Она прохаживалась, закинув голову, обратив лицо к снежным хлопьям, падавшим ей на лоб и волосы. Она всегда любила предаваться ласкам ветра, дождя или снега, и в такие мгновения лицо ее светилось от радости, но на сей раз лицо ее оставалось серьезным, почти печальным, по крайней мере так показалось с тревогой наблюдавшему за ней Александру. Неяркий свет этого серого дня почему-то подчеркивал обозначившиеся на лице Элен морщины, пока еще едва заметные. В этих морщинах притаилась старость, как таится в зарослях мелкий ночной хищный зверек, и теперь она чуть заметно выглядывала из засады под покровом продолжавшего сыпаться с небес снега. Александра вдруг начал бить легкий озноб, он задрожал, а затем на смену ознобу и дрожи пришла грусть, и тягучая тоска навалилась на него всей своей тяжестью.
Три месяца спустя, в середине зимы, Элен узнала, что у нее рак. Состояние ее быстро ухудшалось, начался настоящий кошмар, не прерывавшийся ни на миг и только усугублявшийся до последней минуты, до момента ее смерти в начале лета.
Но сегодня при виде снежинок Александр всячески противился воздействию своей памяти, извлекавшей из своих глубин мрачные картины и образы, он не хотел вспоминать о мертвой Элен, нет, он хотел помнить ее живой, например, такой, какой она была в дни юности, когда выходила из моря на залитый солнцем пляж, вся в ореоле соленых брызг и хлопьев морской пены, или такой, какой она была, когда в минуты телесной близости лежала, запрокинув голову и закрыв глаза.
Еле слышные звуки шагов в коридоре отвлекли Александра от воспоминаний, это была Вера, державшая на согнутых в локтях руках стопку книг; она прижимала их к груди, а верхнюю еще и придерживала подбородком. Она была так сосредоточена на своей ноше, что прошла мимо кабинета, даже не взглянув в сторону стеклянной двери.
Александр подумал: «А мне бы так хотелось, чтобы она остановилась на минутку, задержалась около двери, сказала бы мне несколько ничего не значащих слов, что-нибудь вроде: „Нет, вы только посмотрите! Зима пришла!“ или „Вы хорошо поработали?“ Да, для нее я не существую как личность, я всего лишь один из множества читателей в этой библиотеке, которую снег, быть может, еще больше теперь изолирует от остального мира. А мне надо жить в этом мире книг и слов, ибо отныне и впредь для меня возможно существование только в этом мире».
Почерк Брюде изменился: он стал еще более узким, угловатым, неровным, как говорится, «непричесанным», порой неразборчивым, теперь буквы напоминали… массу насекомых, гонимых лесным пожаром. Александр читал уже на протяжении нескольких часов не отрываясь, и в конце концов у него от мельтешения букв и слов зарябило в глазах, и его даже начало слегка подташнивать. Он поднял голову, взглянул в окно: там по-прежнему медленно падали снежные хлопья, иногда, когда поднимался ветер, некая сила бросала пригоршню снежинок на стекло, и некоторые к нему прилипали, а другие улетали прочь. Быть может, стоит встать из-за стола, походить немного среди стеллажей, взять с полки наугад какую-нибудь книгу и погрузиться в нее с головой, чтобы отвлечься? Нет. Возможно, именно снегопад способствует тому, что он более, чем обычно, склонен впасть в оцепенение, что его как никогда клонит ко сну? Вероятно, этому способствует и тишина, и то, что в кабинете сегодня довольно тепло… Александру не хотелось двигаться. Он сидел, опершись локтями на стол, сжимая руками голову у висков, закрыв глаза, позволив себе погрузиться в полудрему… Образы прошлого выплыли из глубин памяти и обступили его…
Идет снег, он засыпает небольшой крестьянский дом, стоящий на опушке леса. Уже спустились сумерки, и ночь постепенно «завоевывает» сад, где на ветвях еще играют последние отблески заката. Александру семь или восемь лет, он сидит в доме у окна, держа на коленях раскрытый альбом, а напротив него сидит его бабушка со сползшими на кончик носа очками и читает газету. Из стоящей на плите кастрюли вырываются облачка пара – суп, видимо, кипит уже давно, так как оконные стекла слегка заволокло пеленой тумана. Кончиком пальца мальчик рисует на запотевшем стекле глаз, цветок, лицо, затем, проведя ладонью по стеклу, он расчищает для себя «окошко», через которое он осматривает сад и огород, где видит кочаны капусты и высокие стебли лука-порея, словно укрытые капюшонами из снега; как странно они выглядят в сумерках: такие знакомые, они словно выстроились в ряд и теперь похожи на процессию маленьких призраков. Чуть дальше во тьме угадываются смутные очертания курятника, где стоят и клетки с кроликами.
Спустя шестьдесят лет Александр вновь видел эти картины поразительно отчетливо и точно: он видел не только лицо старушки, ее гладко причесанные спереди и забранные в большой пучок на затылке волосы, ее маленькие кругленькие очки, нет, он видел также и прочие незначительные детали, такие, как трещины и сучки в древесине оконных переплетов и двери, кухонную плиту с подведенной к ней согнутой «коленом» металлической трубой, с концентрическими кругами горелок, куда ставили кастрюли и сковородки, он отчетливо видел и медный кран над раковиной, начищенный до блеска, так что тот сиял, как драгоценное украшение. Точно так же, в таких же подробностях он мог бы представить себе и весь дом, комнату за комнатой, в том числе чердак и подвал. Наверное, ему потребовались бы долгие часы, а может быть, и дни, чтобы вот так осмотреть дом.
Он говорил себе: «Мне кажется, у нас у каждого не одна память, а несколько, потому что иногда у меня из памяти как бы выпадают имена и фамилии, тогда как в противовес моя другая память – зрительная или, скорее, чувственная – постоянно расширяет свою „область“, потому что я очень отчетливо и явственно вспоминаю запахи моего детства, вкус еды, шероховатость одеяла или наволочки под щекой. Быть может, это и означает „впадать в детство“? Быть может, эта милость и благодать даруется нам в старости для того, чтобы заполнить пустоту обыденной, повседневной жизни и хоть немного приглушить ее горечь?» В тот период, окрашенный в тона войны, Александру, без сомнения, довелось познать и тревоги, и лишения, и страхи, передававшиеся от взрослых, но, как ни странно, в его памяти в основном сохранились картины счастливых минут и дней, словно любовь близких ограждала его от темных сторон жизни. Да, видимо, сама сельская местность, где они жили, сам тот тихий спокойный мирок, в котором каждый миг приносил известия о сотворенных чудесах, вроде бы незначительных для большого мира, но великих для этого мирка, – все это как бы удерживало мрачные тени на значительном расстоянии от ребенка, и потому он их и не замечал. «Да, – говорил себе Александр, – у меня было счастливое детство!» И воспоминания об этом счастливом детстве сопровождали его всю жизнь, сохраняясь в тайниках памяти, вызывая в нем чувства нежности и ностальгии, и несколько лет назад, а в особенности явно – несколько недель назад – они всплыли из памяти в тиши и одиночестве библиотеки, и теперь он сидел, упираясь локтями в крышку стола, сжимая руками виски, и разглядывал с великой любовью рождавшиеся в его мозгу картины и образы былого.
«Вот чего не хватало Брюде! – внезапно осенило Александра. – Ему не хватало этого запаха, этого аромата потерянного рая, который, что бы ни случилось, все равно существует втайне ото всех и нисходит на нас как благодать. Ах как же мне жаль тех, кто не хранит в своей памяти воспоминаний о таком детстве! Этот свет, который мы бережно храним внутри нас, свет, озаряющий нам путь в самые мрачные периоды нашей жизни, свет, придающий нам силы, спасающий нас и хранящий от бед, этот свет им недоступен, им навеки отказано в праве получить эту благодать. И когда внезапно с ними приключается несчастье, когда их постигает горе, они оказываются обречены на пытки, а порой и на гибель, они стоят, прижавшись спиной к стене, и нет им нигде убежища, и неоткуда им ждать помощи, и не в чем им искать опоры… и иногда таких людей поглощает тьма… Как мне представляется, именно такова была судьба Бенжамена Брюде, несшего в себе отраву несчастливого детства, когда он в своем дневнике по какому-либо поводу делает неясные намеки на тот период жизни, то он видит там лишь заброшенность, обиды, обман, наказания, ущемление своих прав, слезы и ярость. Как он тогда выглядел? Худой, всегда одетый в темное; осунувшееся лицо, впалые щеки, зубы всегда стиснуты, губы сжаты в тонкую полоску, мрачный, озлобленный взгляд исподлобья… Отец подавлял его, мать была к нему равнодушна и холодна; он знал, что был нежеланным ребенком и что мать не любила его, а только терпела, так сказать, „несла свой крест“, а вернее, тащила, как тяжкую ношу, исключительно из чувства долга. О любви и нежности там не было и речи! Очень быстро мальчика отправили в самый гнусный, самый мрачный пансион, где его окружали необразованные, темные священники, ревностно пекшиеся о спасении его души; этих „наставников“ он возненавидел, и они возненавидели его за непокорность, за бунтарский дух. Когда он вырвался из-под власти святош и членов семьи, он как раз достиг того возраста, когда юноша становится мужчиной, и был он тогда как разъяренный дикий зверь. Раны его по-прежнему кровоточили и толкали его на бесчинства, на разрушение и уничтожение всего и вся вокруг. В этом мире, по его мнению, отвратительном, мерзком, гадком, ничто из того, что могло привести в восторг другого юношу, не заслуживало в его глазах ни восхищения, ни даже простого интереса: ни женщины, которых он боялся и которым он не доверял, ни искусство, казавшееся ему смешным и ничтожным. Он досконально изучил религию и исследовал все идеологии, после чего пришел к выводу, что все идеологии лживы. Он счел, что ему остается лишь одно: разоблачать обман и призывать кару на головы лжецов».








