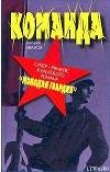Текст книги "Дети Ноя"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Повторять ему не понадобилось, я тут же с удовольствием бросил свою зернотерку и побежал в хлев.
Увидев меня, коза перестала блеять, но забилась в угол возле кормушки, и я еле-еле выволок ее оттуда. Она упиралась всеми четырьмя ногами, дрожала и бодалась. Наконец она немного успокоилась, и мне удалось ее подоить; рядом тихонько мычала смирно стоявшая корова. Я поговорил с ними обеими, погладил и ту и другую, но сегодня они меня как будто не слышали. В низком хлеву было тепло, зато запах стоял гуще обычного, так как мы уже несколько дней не выносили навоз.
Кончив дойку, я поднялся на чердак, сбросил оттуда в ясли несколько охапок сена и на минутку приоткрыл оконный ставень. Глотнув холодного свежего воздуха, я прислушался, но, кроме голосов, доносящихся из столовой, ничего не услышал.
Я вернулся назад, к животным. Они жевали сено и больше не обращали на меня внимания. Деревянные стенки яслей поблескивали, как металл, в тех местах, где корова и коза терлись об них боками. Несколькими месяцами раньше мы побелили стены хлева известкой, и хотя местами она уже успела облупиться, но все же сохраняла свою молочную белизну.
Поднявшись на цыпочки, я почти доставал до потолочных балок, грубо обтесанных топором, – обычно ласточки устраивали на них свои глиняные гнезда. Теперь гнезда, конечно, пустовали, но я с удовольствием вспоминал, как по весне следил за стремительными виражами взрослых птиц, то влетавших, то вылетавших в окошко, и за горланящими птенцами с их жадно разинутыми клювиками. Где они теперь? В каком африканском крае нашли себе пристанище? Их долгий перелет вдруг показался мне фантастическим, нереальным, и я испугался: вдруг я больше никогда их не увижу!
Потом я стал размышлять о наших таинственных ночных посетителях, чье появление еще сильнее усугубило нашу тревогу. Откуда они явились, и какие тайные силы побудили их решиться на такой опасный переход? Нет, от их близкого присутствия я не ждал ничего хорошего.
Притулившись к стенке, я начинал задремывать. Мне было хорошо в этом теплом, спокойном месте, просторном и темном, как грот, – здесь стены защищали меня от внешнего мира, а мерное жевание рядом убаюкивало. Машинально я приподнял лампу, освещая потолок, затянутый густой паутиной, тяжелой от пыли. В центре одной из них, между яслями и угловой балкой, сидел и сторожил паук. Застигнутый врасплох светом лампы, он испуганно подпрыгнул и медленно уполз в щель балки, где и замер, боясь шелохнуться. Опасался он напрасно: отец приучил меня щадить животных, каковы бы они ни были, поскольку считал их жизнь проявлением мирового порядка, и единственное, что я позволял себе, это прихлопнуть комара, да и то если он уж очень досаждал.
Вот почему я смотрел на паука вполне благожелательно, и он, успокоенный моей неподвижностью, постепенно осмелел, зашевелился и вернулся на прежнее место, в центр своей паутины.
Я не очень-то любил пауков, но хорошо помню, что в тот момент испытал к нему почти нежное чувство. В этом застывшем мире паук упрямо продолжал жить, делать привычные движения, и я подумал, что, в сущности, у нас с ним одинаковая судьба.
Так я сидел, погрузившись в сонное оцепенение, не в силах встать.
Шло время, приближалась пора ужина. Скоро я услышу шаги отца, потом его голос в коридоре:
– Что ты там возишься, Симон? Иди скорей, ужин на столе!
Только тогда я стряхну с себя дремоту, встану и пойду.
В тот вечер, после ужина, отец прочел нам несколько страниц из «Легенды о святом Юлиане-Странноприимце» [37]37
Одна из глав «Златой легенды» Иакова Ворагинского (XIII в.), сборника преданий о католических святых.
[Закрыть]. Скорее всего, это была та самая книга, которую он читал на сеновале, и я думаю, что, дойдя до данного отрывка, он вспомнил о нас и решил поделиться удовольствием от чтения.
Мне помнится, то был самый конец легенды, где речь шла о преображении прокаженного [38]38
Под видом прокаженного к Юлиану пришел Иисус Христос.
[Закрыть], которого Юлиан принял в своей бедной хижине после того, как перенес его на плечах через реку.
«И тогда прокаженный обнял Юлиана, и глаза его вдруг засияли, как звезды, а волосы сделались, как солнечные лучи; дыхание от ноздрей его было благоуханнее аромата роз, и ладан воскурился с ложа его, а воды реки пели сладостную песнь…»
Впоследствии я перечитывал эту легенду сотни раз и всегда с наслаждением, но никогда не забуду восторга, испытанного в то, первое чтение, когда голос моего отца звенел в нашем затихшем доме, таком же одиноком и затерянном в пустыне, как хижина Юлиана.
Книга, из которой он списал сюда эти строки о прокаженном и которую я столько раз перелистывал за свою жизнь, – это тот самый том, что держал тогда в руках мой отец.
На следующее утро мы проснулись почти уверенные в том, что тревога наша была напрасной и что бродячие собаки больше не вернутся, но это оказалось не так. Мы ходили по террасе, совершая обычный моцион и гимнастику, как вдруг я заметил на гребне ближайшего холма темную движущуюся точку. Я вскрикнул, все обернулись ко мне, и мы замерли на месте, глядя во все глаза на это потрясающее явление; первое живое существо, которое нам довелось увидеть с начала катастрофы. Но я сразу смутно почувствовал, что ничего хорошего это нам не сулит, и оказался прав.
Па навел бинокль на точку, спускавшуюся теперь по склону, но никак не мог отрегулировать резкость. Он лихорадочно крутил колесико, нервничал и ругался. Наконец Па сказал:
– Вот так лучше, ага, совсем хорошо, ясно вижу зверя, скорее всего, крупного пса; похоже, он с трудом продвигается по снегу. Сейчас он метрах в шестистах – семистах от нас. Мне кажется, он направляется прямо сюда. Никак не разгляжу, какого он цвета…
Отец приподнял бинокль повыше и оглядел горизонт.
– А вот и другие! – вдруг воскликнул он. – Трое. Четверо. И там, повыше, еще пятеро!
Мы и сами ясно видели их невооруженным глазом, так как небо слегка посветлело, и звери отчетливо выделялись на белом снегу.
Чуть дальше, справа, показались еще два зверя, и все они приближались к нашему дому, идя по следу, который, наверное, проложили во время своего ночного прихода.
Подойдя к нам метров на триста, все они, включая отставших, присоединились к самому крупному, видно, вожаку, и стало ясно, что, несмотря на трудность продвижения по сугробам, вся эта сбившаяся вместе стая скоро подойдет вплотную. Мы пока не могли разглядеть их как следует, но если это и были собаки, то очень большие и все одинаковой породы. Па, глядя в бинокль, описывал их нам: темно-серый мех, острая морда, стоящие торчком уши… И вдруг он вскрикнул:
– Черт возьми, ты была права, Ноэми! Это и вправду волки. Ну и дела!
Хотя и я, и Ноэми были убеждены в этом еще со вчерашнего дня, все же папины слова поразили нас в самое сердце. На сей раз нам действительно грозило приключение, и приключение близкое к кошмару. Волки мчались прямо на нас; на мертвенной белизне снега, под свинцово-черным небом вид у них был жуткий, устрашающий. Их мускулы ходуном ходили под темной шкурой, а свирепый оскал обнажал сверкающие клыки.

Они были так близко, что Ма с криком толкнула нас к лестнице и велела спускаться побыстрее в хлев. Коза в стойле истерически заблеяла, и волки, конечно, услышали ее, так как один из них тотчас же подал голос, другие стали ему вторить, и раздался жуткий волчий хор. Обернувшись последний раз перед тем, как ступить на лестницу, я увидел, что они стоят в двадцати метрах от помоста и воют, задрав к небу остроконечные морды, а Па благоразумно отступает следом за нами.
Он поспешил догнать нас и закрыть ставень, который укрепил деревянным брусом. Несколько секунд спустя доски террасы заскрипели под тяжелыми когтистыми лапами, а над головой у нас, совсем близко, послышались завывания, прерывистое дыхание и жалобный визг волков. Па засветил лампу, и мы молча стояли на чердаке, прислушиваясь к возне хищников там, наверху. А вдруг кто-нибудь из них, терзаемый голодом, бросится в снежный колодец и попытается выломать люк? Па утверждал, что ставень очень крепкий и нам бояться нечего, но у меня не было в этом полной уверенности; я, в страхах своих, наделял волков сверхъестественной силой и спрашивал себя, не смогут ли они, пустив в ход зубы и когти, разнести в щепки деревянный ставень и ворваться в наше убежище.

Шум на крыше длился больше часа, и время это показалось нам нескончаемым; потом он слегка поутих: незваные гости, верно, набросились на кучу навоза, от которой пахло нашими животными. Теперь до нас доносились лишь приглушенное ворчание да временами пронзительный, словно от боли, визг. Наконец мы спустились в столовую, где мирно горящий в камине огонь чуть успокоил нас. Кот, которого, казалось, ничего на свете не могло вывести из равновесия, преспокойно подремывал рядышком с очагом, над которым томился суп в котелке.
И вот теперь мы в осаде, и одиночество наше усугубилось еще и угрозой нападения волков, которые, судя по шуму на крыше, отнюдь не собираются оставить нас в покое. Я хорошо вижу, что Ма готова поддаться отчаянию: глаза ее померкли, лицо осунулось, похоже, она теряет последние силы. Но и на этот раз отец находит для нас ободряющие слова. «Не беспокойтесь, – говорит он, – рано или поздно они все равно уберутся. Потерпите немножко, мы с вами и не такое еще видали!» Подумав, он добавляет: «Самое досадное, что нам нужен свежий воздух, а он теперь поступает только через каминную трубу. Этого мало. Давайте-ка попробуем что-нибудь придумать!» Как всегда. Па решительно не намерен сдаваться, он ищет решение, он подстегивает и себя и других. «Хорошо бы найти какую-нибудь решетку или что-нибудь в этом роде и заменить ею ставень. Да, именно так!»
С этими словами он вскакивает с места и бежит на чердак. Мы слышим, как он бродит там взад-вперед, передвигает мебель и ящики. Потом кричит: «Пойди-ка сюда, Симон, ты мне нужен!»
Наш чердак!.. Я просто обязан воздать ему должное, рассказав, какой поддержкой и подмогой оказался он для нас в то трагическое время: благословенное место, сокровищница, смесь супермаркета [39]39
Супермаркет – магазин самообслуживания.
[Закрыть]и барахолки, где мы всегда отыскивали все, в чем нуждались теперь, когда наши электрические машины пришли в бездействие. Именно там мы обнаружили лампы, котел, кофейную мельницу, доски и балки, из которых соорудили помост, и столько других полезнейших вещей, которые, пролежав чуть ли не целый век в пыли и паутине, вновь пошли в дело.
Чердак был огромен, он располагался надо всем домом и делился на две половины – заднюю, с сеновалом и кладовой для фруктов, сухих трав и зерна, и переднюю, гораздо более обширную, служившую свалкой вещей в течение нескольких поколений, начиная с крестьян, поселившихся в этой местности еще во времена конных экипажей и масляных коптилок, и кончая нами, не говоря уж о тетушке Агате, чью бережливость мы неустанно восхваляли с великой благодарностью. Каждый из обитателей шале считал своим долгом стащить на чердак – а не на помойку! – и навалить поверх старых вещей свои собственные, показавшиеся ему на данный момент ненужными. Что это было: смутная признательность, которую чувствовали к предмету, много и честно послужившему людям и как бы хранившему на себе отпечаток своих хозяев? Или, быть может, тайное желание устроить что-то вроде скрытого от глаз музея старинных вещей, скромно уступивших свое место новым, головокружительно непонятным предметам? Или же тут крылась причина более прозаическая, особенно естественная для крестьян, ведущих в горах скудное, уединенное существование и хорошо знающих, что почем. «Мало ли как оно обернется, – быть может, думали они, – со временем все может сгодиться!» Если так, то это были мудрые слова, и мудрость эту мы теперь оценили вполне. Чего тут только не было: конский хомут и ножная швейная машина «Зингер», цинковое корыто и ламповый радиоприемник, коса и велосипедное колесо; я уж не говорю о сваленной в кучу колченогой мебели, сундуках, связках бумаг и всевозможном железном ломе. Внимательный исследователь, вскрывая эти пласты и наслоения, как археолог, без труда мог бы датировать их и соответственно описать занятия, нравы, вкусы и даже, может быть, увлечения бывших владельцев дома.
До нашей катастрофы отец и мать не часто бывали здесь, особенно Ма, которая терпеть не могла всю эту «свалку» и даже поговаривала о том, не позвать ли старьевщика, чтобы он очистил чердак. Но отец упрямо качал головой, и я чувствовал, что сам размах этого замысла слегка пугает его. Мы с Ноэми тут же начинали умолять родителей: «Не надо, жалко, не трогайте ничего!» Тогда Па уклончиво говорил, что это, в общем-то, не срочно, что надо бы еще подумать, и некоторое время вопрос не обсуждался. Подобная сцена повторялась множество раз без всяких последствий, и скоро Ма, к нашей радости, махнула на чердак рукой.
Сколько же счастливых часов провели мы с Ноэми на этом чердаке!
В хорошую погоду мы, конечно, гуляли по лесу или помогали отцу в саду, но в дождливые дни, покончив с уроками, тут же бросались в наши владения. Стоит мне закрыть глаза, и мне явственно вспоминается крутая лестница с узкими ступеньками, ведущая наверх из конца коридора; я ощущаю под пальцами отполированные бессчетными касаниями перила, Подъем всегда казался немного опасным, как будто нам следовало заслужить это восхождение в рай. Сестра, тогда еще совсем маленькая, взбиралась по лестнице на четвереньках с криком: «Симон, подожди меня!» Я брал ее за руку, и мы осторожно пробирались в полутьме по узкому извилистому проходу между кучами вещей. Я устраивался на ящике возле слухового окошка, где было чуть посветлей, а Ноэми шныряла где-то там, в глубине, приручая своих мышей. Вытащив из пачки старый журнал, я разглядывал фотографии и читал статьи о войнах, о великих открытиях, о первых полетах ракет на Луну. И я думаю, что изучил историю именно здесь, а не в школе; некоторые страницы я перечитывал по стольку раз, что мне начинало казаться, будто я и сам жил в те стародавние времена.
Словом, мы облазили весь чердак и изучили его досконально, Ноэми даже лучше меня. Вот почему, когда снег отрезал нас от внешнего мира, мы стали проводниками отцу и могли без всякого труда разыскать в этом лабиринте ту или иную понадобившуюся вещь.
Поднявшись на чердак, я увидел, что Па сражается там с паутиной и досками. Он наполовину вытащил из-под них старую железную решетку, вероятно служившую некогда садовой калиткой, и прислонил ее к стене. Теперь он пытался, кряхтя и отдуваясь, высвободить ее целиком. «Ну-ка, – скомандовал он мне, – влезь туда, вглубь, и подтолкни ее на меня!» Кое-как мы извлекли решетку на свет божий, она оказалась гораздо больше окна, но Па объяснил мне, что вделает в стены крючья, на которые и подвесит решетку, и тогда можно будет совсем снять ставень. Сейчас об этом, конечно, и думать нечего, поскольку волки сторожат снаружи и поднимают адский шум на крыше всякий раз, как услышат блеянье козы. Но это не страшно, сказал Па, так как первым делом следует подготовить стену; и он посылает меня за инструментами, творильным ящиком [40]40
Ящик, в котором замешивают цемент.
[Закрыть]и цементом. Я замешиваю раствор, на сеновале грохочет молоток, и волки замолкают, видимо удивленные этим непривычным шумом. Представляю, как они сидят там, на террасе, и отделяет их от нас всего ничего: ставень, лестница да колодец в снегу. Небось насторожились и смотрят во все глаза, не появится ли коза, от которой они в один миг оставят рожки да ножки. Вот о чем я думаю, размешивая мастерком раствор, и мне чудится кровавая лужа на снегу.
Па тем временем выбил в стене четыре глубоких аккуратных отверстия и заложил в них железные крючья. К вечеру работа была окончена, жидкий цемент затвердел, как камень. Наверху стояла тишина. Па долго вслушивался. «Я думаю, они ушли, – оказал он, – давай-ка попробуем».
Он осторожно приоткрыл ставень, прислушался опять и наконец снял его с петель. Мы быстро приладили решетку, ее края надежно держались на крюках. Для пущей уверенности мы закрепили их веревками. Все это очень напоминало дверь тюремной камеры. Снаружи было темно, зато по чердаку гулял теперь свежий воздух.
Начиная с этого вечера мы стали пленниками вдвойне: теперь мы живем за решеткой и лишь время от времени, пользуясь отсутствием волков, рискуем выбраться на террасу. И то нерегулярно, ибо волки исчезают и возникают в самые неожиданные часы, словно подчиняясь какому-то своему загадочному распорядку. С каждым днем они все больше тощают, все злее оскаливают зубы, воют все заунывнее. Мало-помалу мы свыкаемся с их соседством и повадками. Как только воцаряется тишина, Па снимает решетку и осторожно, озираясь, взбирается по лесенке. Убедившись, что вокруг пусто, он делает нам знак подниматься, но сперва обходит террасу, проверяя, не спрятался ли за ней зверь.
Небо по-прежнему сумрачное, низко нависшее. Па оглядывает окрестности в бинокль. Теперь-то я знаю, как он жалеет об отсутствии ружья. Он выбрал себе в качестве оружия большой, остро наточенный кухонный нож, крепко-накрепко привязанный к длинной палке. Получилось что-то вроде копья, которое он, выходя на помост, всегда держит при себе, на случай внезапной опасности. Когда Па стоит с этим оружием в руке, он очень похож на гарпунера, и мы, конечно, посмеялись бы над ним, если бы у нас давно уже не пропала охота веселиться. Какой там смех, мы и улыбаться-то совсем перестали, особенно Ма, которая стала странно молчаливой; иногда у нее начинают дрожать руки.
Один только Па старается выглядеть жизнерадостным, поскольку он твердо намерен, невзирая на все свои страхи, поддерживать бодрость духа в семье. Он приказывает нам маршировать по помосту вдоль и поперек, глубоко дышать, делать гимнастические упражнения и сам первый показывает нам пример. Мы подчиняемся, мы дуем на озябшие пальцы, Ноэми хнычет. Па кричит ей: «Ну-ну-ну, бодрись, мы все должны быть в добром здравии!» Это верно, но вот Ма с трудом соглашается выйти наружу подышать воздухом, а выйдя, отказывается двигаться, лишь присядет на минутку, прислонясь спиной к перилам, и с отвращением глядит на истоптанный волками снег. И под любым предлогом старается спуститься обратно в дом. Па не удерживает ее. Однажды вечером, в хлеву во время дойки, он поделился со мной: «Наша мама беспокоит меня, Симон. Нет-нет, не думай, она не больна, но я чувствую, что она устала, бесконечно устала, а ведь была всегда такая стойкая. Да, я понимаю, тяжело все это, особенно для нее. И потом, она начинает фантазировать, выдумывать какие-то истории, ну да ты ее знаешь. Надо отвлекать ее от мрачных мыслей, поддерживать, ободрять. В конце концов это пройдет». Я увидел, что, едва высказав все, что тяжким грузом лежало у него на сердце, он уже пожалел об этом. На секунду он положил руку мне на плечо, потом отвернулся и, схватив вилы, принялся яростно накидывать сено в кормушки.
11

Мы с Ноэми, как можем, помогаем Ма на кухне и по хозяйству. Мы пытаемся разговорить ее, но она, похоже, едва нас слышит. Только иногда стряхивает с себя оцепенение, лицо ее проясняется, и она говорит: «Какие вы оба молодцы, какие храбрые. Умницы вы мои!» И верно, к этому времени я почти перестал ссориться с Ноэми. Конечно, мне иногда противно слушать ее рассуждения, которыми так восхищается Па, но я уже не реагирую так бурно, как раньше; теперь я держу себя в руках и молчу… Во мне мгновенно вскипает раздражение, которое так же быстро и улетучивается. Честно говоря, та история, когда Ноэми опознала волков, здорово поразила меня.
Время от времени, оставшись одни, мы начинаем откровенничать. Ноэми говорит:
– Мне иногда кажется, что это никогда не кончится, что вся земля покрыта снегом и нигде никого, кроме нас, не осталось… А тебе, Симон, тоже страшно?
– Конечно, страшно, но только не надо говорить об этом вслух. Весна все равно когда-нибудь наступит – настоящая весна. И мы опять увидим деревья, луга, цветы…
– И птичек.
– Ну да, и птичек, а еще Себастьена на тракторе, и мадам Жоль, и их Марка – вон там, на повороте дороги. Представляешь, как будет здорово! Вот все обрадуются!
– Может быть, может быть… А иногда я думаю: вдруг к нам прилетят с Луны, на ракете. Подадут сигнал, спустят лестницу, и мы возьмем да улетим туда, наверх, вместе с Гектором, Зоей и курами. А как ты думаешь, смогут они взять нашу Ио?
– Конечно, если ракета будет большая.
– О, у них знаешь какие огромные ракеты!
А однажды вечером, когда мы с Ноэми были в хлеву, она вдруг сказала:
– Наверное, мы все здесь погибнем.
И оба мы дружно разрыдались.
Иногда она вела себя совсем как взрослая женщина, наша Ноэми; серьезный вид, солидная манера говорить, умные книги; а иногда выглядела прямо маленькой девочкой со своими страхами и громким ревом. Вот такой я ее любил и плакал, по правде говоря, именно потому, что видел ее в слезах.
И вот на протяжении нескольких дней маленькая девочка прочно заняла место взрослой особы. Она опять решила заплетать волосы в косички, опять начала сосать палец. Она садилась перед камином, у ног Ма, и протягивала ей книжку:
– Почитай мне что-нибудь, мамочка, ну пожалуйста!
В первый раз Ма удивленно посмотрела на нее:
– Ты что, разучилась читать, Ноэми?
– Нет, я просто хочу, чтобы ты мне почитала.
– Ну, раз так, хорошо…
И, притянув Ноэми к себе, Ма поцеловала ее.
Перелистав несколько страниц, она принялась читать. На сей раз наш вундеркинд выбрал не Флобера или Мопассана, свое последнее увлечение, а старые добрые сказки братьев Гримм и Шарля Перро, давным-давно преданные забвению. Ноэми слушала молча, с блестящими от волнения глазами, и очень походила теперь на девчушку, какой была года четыре-пять назад, еще когда мы жили в Париже.
– Тебе нравятся эти старые сказки? – спрашивала ее Ма, и Ноэми энергично кивала.
– Ах ты моя маленькая! – нежно говорила Ма, и я наконец вновь увидел улыбку на ее лице.
А рожь в ларе все убывала. Приходя за очередной порцией, я каждый раз отмечал уровень зерна карандашной черточкой. На стенке образовалась уже целая шкала. Когда она достигнет дна, хлеба больше не будет и нам придется перейти на овес, а уж какая из него еда! Оставалось только надеяться, что до этого дело не дойдет.
Картофельная куча тоже таяла на глазах. Время от времени я спускался в подпол, чтобы оборвать ростки с картофелин и отобрать порченые. Оставалось у нас еще два-три кило моркови и несколько репок, хорошо сохранившихся в соломе.
Мы уже съели почти все наши консервы; к счастью, молоко у нас было в достаточном количестве, хотя удои начали понемногу уменьшаться.
Зато куры стали нестись более регулярно, и мы могли рассчитывать на пять-шесть яиц в день. Тем самым птичий двор спас себе жизнь или, по крайней мере, получил отсрочку от гибели, так как запасы свинины подходили к концу, и отец объявил, что, если мы хотим мяса, придется пожертвовать курами. Но, услышав наши протесты и защитительную речь Ма, утверждавшей, что яйца гораздо питательнее мяса, он отказался от своего намерения. Я сильно подозреваю, что он втайне страшился той минуты, когда ему придется свернуть шею одной из несчастных кур, ставших для нас такими же близкими, как кот.
И вдруг главным предметом беспокойства сделалась наша коза. С момента появления волков она была явно не в себе; целыми часами блеяла, забившись в угол стойла. Потом отказалась есть. Напрасно он совал ей в рот пучки самого лучшего сена или очистки овощей, которые она прежде обожала; она упрямо смотрела в стену, не обращая на меня никакого внимания. Я разговаривал с ней, гладил, но все ей, казалось, безразлично. И наконец, она перестала давать молоко.

Па осмотрел ее, прощупал, чтобы проверить, нет ли у нее где-нибудь опухоли, но ничего не обнаружил. Нам он сказал, что коза сильно отощала – кожа да кости. Он приготовил для нее напиток, некогда рекомендованный Себастьеном: смесь нагретого вина, тимьяна и корицы. Еще туда полагалось добавить сахара, но у нас его больше не было. Впрочем, коза только понюхала миску и даже не притронулась к напитку, несмотря на наши мольбы и уговоры. Три дня прошли без видимых изменений. Зоя соглашалась лишь выпить чуточку воды, и все; временами она жалобно блеяла – еле слышно, как новорожденный козленок.
А волки, то ли отчаявшись заполучить добычу, то ли терзаемые голодом, тоже начали слабеть. Как бы там ни было, они наведывались все реже и реже; однажды мы не видали их целых двое суток. Это вселило в нас некоторую надежду. Если нашу бедную Зою, как мы предполагали, мучил страх перед ними, то сейчас она должна испытать облегчение.
Когда однажды вечером волки все же вернулись, отец закрыл люк, ведущий из хлева на сеновал, и завалил его толстым слоем сена, чтобы приглушить их вой. На этот раз они, видно, совсем обезумели, я даже испугался, что они вот-вот спрыгнут в снежный колодец и начнут грызть решетку. Но внезапно они куда-то исчезли.
На следующее утро я обнаружил Зою лежащей на боку, с закрытыми глазами. Заслышав мои шаги, она слабо шевельнула ушами и попыталась встать на ноги, но тут же упала обратно на солому. Дышала она с трудом, и шерсть ее была вся измазана в навозе. Я опустился ни колени рядом с ней и погладил по лбу. Зоя на какой-то миг приподняла веки, и мне показалось, что глаза ее полны беспредельного удивления.
До сих пор он все надеялся на какое-то неведомое чудо: вот приду я к ней в одно прекрасное утро, а она – как и прежде, веселая, капризная, – опять соберется в шутку поддеть меня рогами. А потом стает снег, и я поведу ее на лужок: представляю, как она будет скакать по нему, бородка по ветру, и щипать свежую траву. Все это я нашептывал Зое на ухо, когда приходил проведывать ее в темном закутке. Но теперь, увидев ее такой обессиленной и отрешенной от жизни, я вдруг понял: не видать ей больше ни весны, ни гор, ни ручья, наверняка она не переживет эту ночь. Помню чувства, охватившие меня в тот миг: жалость, нежность, смятение; мрачные предчувствия, уже несколько дней не дававшие мне покоя, все разом нахлынули на меня.
Я позвал отца, чьи шаги услышал на сеновале:
– Иди скорей сюда! Зое очень плохо. Она почти не двигается.
– Да что ты! Сейчас спущусь.
Он присел рядом со мной на корточки, и по одному только выражению его лица я понял, что надежды нет. Положив руку на бок козы, он молча смотрел на нее.
Я спросил:
– Можно что-нибудь сделать?
– Вряд ли, – ответил он. – Дай ей попить.
Я подвинул к Зое поилку, но она даже не взглянула на нее. Отец окунул пальцы в воду и прикоснулся к ее губам; коза только слабо вздрогнула.
– Тебе лучше уйти отсюда, – сказал Па. – Я сам ею займусь. Иди в дом и, главное, ничего не говори Ноэми.
Я прикрыл дверь хлева, но еще немного постоял в коридоре с лампой в руке. Из-под двери на плиточный пол легла полоска света, из хлева доносилось лишь невнятное бормотание. Я сжимал зубы, до того мне хотелось плакать, и вдруг меня обожгла уверенность, что все мы скоро погибнем.
Зоя умерла в тот же день, незадолго до полудня.
Странно, меня все время преследуют воспоминания о смерти животных: первого нашего кота, еще в Париже, потом старой собаки, подобранной сразу по нашем прибытии сюда, в горы, а теперь вот Зои. Главным образом Зои.
Даже и сейчас, особенно ближе к вечеру, когда меркнет дневной свет и сумерки сползают на город с крыш, мне чудятся застывшие зрачки этих агонизирующих существ, а рука ощущает холод, постепенно сковывающий их тела. А ведь в те времена в смертях не было недостатка, но все они казались мне далекими, почти абстрактными, как те кровавые образы, которые доносило до нас телевидение, правда, доносило так, что мы в конце концов переставали понимать, реальность это или фикция. А вот агония наших зверей проходила у меня на глазах; так она и запечатлелась в моем сознании, во всем моем существе – навсегда. Уверяю вас, это существенная разница. Думаю, именно это заставило меня ясно понять, что есть смерть.
Когда в тот день Па вошел в столовую и сказал сдавленным голосом: «Кончено!» – мы с Ноэми разразились рыданиями. Мать тотчас крепко обняла нас и попыталась утешить, говоря то, что обычно говорится в таких случаях: Зоя была уже совсем старенькая, и она почти не мучилась, а мы потом заведем другую козу, обязательно заведем, я вам обещаю.
Ноэми кричала в ответ: «Не хочу другую, не надо мне другой, хочу Зою!» Грустное это было, наверное, зрелище, когда мы все трое вот так горевали в тусклом свете камина, на этот раз даже Па при виде наших слез совсем сник.
Наконец мы немного успокоились и сели ужинать. Кусок не шел нам в горло, глаза покраснели от плача. Ноэми опустила голову и временами судорожно всхлипывала. Потом к ней на колени вспрыгнул Гектор, и его присутствие, казалось, слегка утешило ее.
– А где мы ее похороним, Зою? – спросила она.
– Прямо ума не приложу, – ответил отец, – В доме такого места нет.
– А что же тогда делать?
– Если закопать козу в снег возле помоста, оголодавшие волки, конечно, учуют ее, вытащат и сожрут.
Такое решение показалось нам кощунственным, и Па тотчас отказался от него.
Поразмыслив, он сказал, что мы могли бы выкопать в проходе, ведущем к поленнице, что-то вроде колодца и устроить там могилу для Зои. Под шестиметровым слоем снега она будет в безопасности, тем более что можно принять все необходимые меры для того, чтобы никакой хищник не добрался до нее, даже если ему удастся залезть так глубоко. И опять чердак сослужил нам добрую службу: мы разыскали там веревку, кусок брезента и длинный, крепкий, похожий на гроб, ящик. Завернув мертвую Зою в брезент и крепко стянув сверток веревкой, отец уложил его в ящик. Ноэми со слезами на глазах подошла и сунула в гроб какую-то таинственную бумажку, свернутую в трубочку и перетянутую резинкой. И наконец Па заколотил крышку.
Чуть ли не полдня он выкапывал колодец двухметровой глубины, снег из которого, набитый в тазы, должен был снабдить нас водой на целую неделю. Закончив, он спустил в него ящик. Мы все присутствовали кто при начале, кто при завершении церемонии, удачное осуществление которой хоть как-то облегчило нашу печаль.
Под конец Па широкими взмахами лопаты забросал отверстие снегом, плотно утрамбовав его, и пообещал нам, что, как только все оттает, мы похороним Зою на лугу, под березой.
Корова в хлеву, лежа на соломенной подстилке, задумчиво жевала жвачку, и когда мы уходили, оставляя ее одну в темноте, повернула к нам голову и тихонько, протяжно замычала.