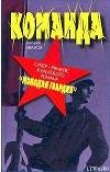Текст книги "Дети Ноя"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Жан Жубер
Дети Ноя

1

Все началось в феврале. Точнее, 27 февраля 2006 года. Это число я, уж будьте уверены, запомнил навсегда. Да и вы, я думаю, тоже, если только вы вообще способны что-то помнить. От всей души желаю вам этого, потому что некоторые из нас так и не оправились после той ужасной зимы. Вам такие наверняка встречались. Да их полно кругом, таких «лунатиков»: бессмысленно глядя в никуда, они нескончаемо бормочут что-то бессвязное. Грустное зрелище! Ей-богу, лучше бы им лежать на кладбище. Но… кто знает, кто знает? А потом, на кладбищах еще недавно и без того не успевали хоронить погибших.
Итак, значит, было это в феврале, в субботу, где-то в середине дня: Па как раз колол дрова перед шале [1]1
Шал е – швейцарский домик. (Здесь и далее прим. переводчика.)
[Закрыть]. Он аккуратно устанавливал полено на колоде и, взмахнув топором, – тр-р-рах! – раскалывал его точно посередине. Красота, а не работа! Кто-кто, а уж он-то знал в этом толк, мой Па. Настоящий артист! Я собирал расколотые чурки и складывал их под навесом. Здесь, во дворе, было не так холодно; в воздухе витал приятный аромат смолы. Я старался укладывать полешки как можно ровнее, ведь Па частенько говорил, что поленница – это лицо дома, его гордость, его украшение, и я знал: он сейчас искоса наблюдает за мной. Время от времени он останавливался, чтобы вытереть мокрый лоб или бороду, и я пользовался передышкой, чтобы согреть дыханием озябшие руки. Па говорил: «Подровняй-ка вон то полено сверху, ты его криво положил, оно и торчит. Вот… так-то лучше».
Из кухни доносилась музыка, это была пластинка с арией Мелисанды [2]2
Имеется в виду ария из оперы К. Дебюсси «Пелеас и Мелисанда»
[Закрыть]. «Родилась я в воскресенье, в воскресенье к полудню. Святой Даниэль и Святой Рафаэль, Святой Рафаэль и Святой Даниэль…» Я знал эту арию наизусть. Ма прямо без ума была от всех этих старинных опер Дебюсси, Моцарта, Гуно, Бизе; иногда, забыв обо всем на свете, она запускала проигрыватель на полную мощность и сама начинала подпевать своим низким сопрано, чуть-чуть фальшивя. Но все равно выходило у нее прелестно.
Мне особенно нравилась сцена, когда Пелеас поет под балконом: «Твои длинные косы спустились к подножию башни…» Он протягивает руку, касается волос Мелисанды и прижимает их к губам. Такой, по моим понятиям, и была настоящая любовь; вот о чем я думал, укладывая дрова, в то время как Па вновь принимался за колку: тр-р-рах! – и щепки с сухим стуком падали наземь.
И вдруг мне на ум пришла Катрин – она ведь тоже белокурая, хотя волосы у нее совсем короткие. Да и вся она в другом роде: менее романтичная, более современная. Я вспоминал ее в классе: вот она пишет, склонившись над партой и опершись на локоть, вот она покусывает колпачок ручки или от усердия высовывает кончик языка. А какие же у нее глаза – серые или зеленые? Странно, я никак не мог вспомнить. Но ничего: я ведь обещал Катрин проводить ее в понедельник до угла ее улицы – вот тогда-то я и смогу разглядеть все как следует.
Еще и пяти часов не было, а на улице уже сильно стемнело; с севера, на горизонте, небо окрасилось в пепельно-серый цвет, и я еще подумал, что это не предвещает ничего хорошего. Па вдруг прервал работу и, опершись на длинную ручку своего топора, тоже вгляделся в небо.
– Ладно, хватит на сегодня, – сказал он. – Ты не очень озяб? Не устал? Нет, правда? Видал, какое небо? Наверняка снег пойдет.
Все вокруг словно замерло: ни шороха, ни дуновения ветра, и музыка тоже умолкла.
– Да, я тоже думаю, наверняка будет снегопад. Ну что, пойдем домой?
– Да, пора. Сходи-ка прикрой окошко в хлеву.
– А корму задать?
– Если хочешь. А потом беги греться.
В хлеву было тепло. Ио, наша корова, с мычанием повернула ко мне голову, а коза Зоя, обрадовавшись моему приходу, стала шутливо бодать перегородку. Я ласково похлопал их обеих по бокам, потом вытащил с чердака охапку сена, разложил его по яслям и вышел, в то время как они обе жадно набросились на еду.

На улице быстро сгущалась тьма, свинцовое небо низко нависло над елями, ни одна веточка не шевельнется. Я услышал тарахтение мотора наверху, на дороге, и в ту же минуту за оградой показался трактор папаши Жоля; он тащил за собой прицеп, набитый дровами. Жоль остановил трактор у заснеженного пригорка перед воротами и выключил сцепление. Па в это время убирал пилу и топор; он поднял голову и замахал Жолю, приглашая во двор.
– Ну держитесь, сейчас начнется! – крикнул Жоль. – Сейчас такое начнется, это уж вы мне поверьте! Готовьте лопаты для снега! Опять все сначала, прямо как в ноябре! Этому конца не видать, зима с летом перепутались!
Его шерстяной шлем был нахлобучен до самых бровей, пышные усы торчали над поднятым воротом куртки; он восседал на твоем тракторе с воздетой к небесам рукой, словно пророчил конец света.
– Зайдите, выпейте стаканчик, – сказал Па.
– Спасибо вам, но надо спешить, пока светопреставление не началось.
– Да ничего страшного, на минутку-то задержаться можно.
Тут и Ма открыла окно, улыбаясь так, как только она одна умела.
– Я как раз сварила кофе, месье Жоль! Неужели вы откажетесь от чашечки?
Тут он, конечно, капитулировал:
– Ну, раз так, ладно. Но только на одну минутку!
Себастьен Жоль был нашим соседом. Единственным соседом, вместе со своей женой и сыном Марком. Впрочем, сосед – слишком сильно сказано: их ферма стояла в трех километрах от нас, ниже по склону, перед самым спуском в долину. А над нами – ни живой души, только еловый да пихтовый лес, пастбища, несколько амбаров, и дальше альпийские луга до самых вершин. С тем же успехом можно было жить на Луне, хотя и ее в то время уже начинали заселять. Но все это – природа, уединение, мечты – было придумано моими родителями, и когда они обсуждали эту тему, то становились прямо настоящими лириками. Особенно Па. Ну, а Ноэми, та ничего не говорила, зеленоглазая дикарка Ноэми и с буйными волосами, падающими на лоб, и сильная, как мальчишка. Она бегала по лесам и приносила оттуда ящериц, жаб, змей, а иногда и раненых птиц, которых выхаживала у себя в комнате, а потом отпускала на волю, в горы. В остальное время она читала книги: в основном о животных, но также разные истории, легенды и даже стихи. Да, совсем забыл сказать: Ноэми – это моя сестра.
Итак, Себастьен все-таки вошел в дом и расположился в столовой, у камина. Он все твердил, что зашел на одну только минуточку, и что зима с летом перепутались, и все нынче не так, как раньше, он уже ничего не понимает, а вот во времена его отца и деда…
Каждый раз, как он заговаривал о своих предках, наш Себастьен, он необыкновенно воодушевлялся и заводил нескончаемые истории о шале, на целые недели погребенных под снегом, об ужасных холодах, о деревьях, треснувших от мороза, о волках, которые выходили из лесов и бродили вокруг хлева. Он делился, конечно, своими воспоминаниями, но притом и давал волю воображению; даже нам ясно было, что он приукрашивал свои истории, – стоило ему сесть на любимого конька, ничто не могло его остановить.
Ноэми, слушая его, не упускала ни слова:
– Как, волки? Настоящие живые волки?
– Ну ясное дело, настоящие волки с красными глазами и с огромными острыми, как кинжалы, зубами. По ночам мы слышали их вой, а утром находили следы лап, вот такие большущие!
И он показывал свою руку с черными ногтями и огрубевшей, морщинистой кожей. Ноэми была на седьмом небе от счастья.
– А почему их теперь не видать, этих волков?
– Ну, как почему… Небось прячутся где-нибудь в чаще.
– Вы думаете, они еще сюда вернутся?
– Кто знает!
Как-то я спросил у Па: «Сколько лет Себастьену Жолю?», и он ответил: «Сорок пять». По мне, так Себастьену, с его усами, морщинами и старыми сказками, вполне могло быть и восемьдесят. Ни дать ни взять, старый дед! В тринадцать лет что сорок, что восемьдесят – никакой разницы.
Итак, Себастьен сидел здесь, протянув ноги к огню, с чашкой кофе в руке, и разглагольствовал о том, какое в старину бывало лето: мол, настоящее пекло, небо раскалялось добела, в полях можно было работать лишь с приходом сумерек.
– Теперь все, кончено дело. Зима с летом перепутались из-за их мудреных опытов на Аляске, в Сибири, на Северном полюсе. Видали, что творится? Чего только люди не напридумывали! Хотелось бы знать, чем все это кончится.
– Верно, верно! – поддакивал Па.
А я исподтишка поглядывал на них, стараясь угадать, чем кончится их беседа. Раньше они, бывало, спорили между собой до посинения обо всем на свете: о политике, о религии, о сельском хозяйстве, да мало ли еще о чем. Тогда они орали во все горло и становились красные как раки. Ма, конечно, тут же вмешивалась: «Зачем так горячиться, вы оба правы, и тот, и другой. Стоит только подумать…» – и она пыталась изменить тему. Но ей далеко не всегда удавалось их утихомирить.
– Вы же меня не слушаете, месье Жоль! – возмущался Па.
– Да нет, я-то вас слушаю. Это вы…
– Ну полно вам!
Под конец они всегда мирились, если вообще сердились друг на друга всерьез. «Я его люблю, – говорил Па. – У него полно завиральных идей, но это в своем роде поэт».
Сегодня Па больше помалкивал, он только кивал головой да время от времени поддакивал собеседнику, а сам, казалось, думал совсем о другом. А может, он просто устал: все-таки целый день работал топором.
– Ну вот и снег пошел, – сказала Ма, стоявшая у окна.
И в самом деле: во дворе замелькали крупные белые хлопья.
– Ну, теперь мне в самом деле пора, – сказал Себастьен. – Надо еще до ночи дрова разгрузить, сами понимаете. Спасибо вам за все. Пойдете и деревню, заходите по дороге к нам.
Он вскарабкался на сиденье своего трактора, опустил на глаза козырёк шлема и исчез в белой круговерти.
Я постоял еще несколько минут на крыльце. В глубокой тишине слышался только шорох падающего снега, теперь такого густого, что за ним едва различались ели по ту сторону дороги. Ноэми, стоявшая рядом, запрокинула назад голову и, раскрыв рот, ловила своим ярко-розовым языком белые хлопья.
Теперь, по прошествии времени, этот вечер помнится мне таким же, как все другие, разве что мы зажгли свет уже в пять вечера из-за этого снега, падающего все гуще и гуще. Большие хлопья, хорошо видные в свете лампы, медленно опускались наземь за окном. Белый покров уже окутал весь двор, который мы расчистили несколько недель назад, и поднялся выше куч старого снега.
Па сидел у камина, поставив ноги на каминную приступку; он курил трубку и задумчиво глядел на огонь. Время от времени он, морщась от боли, потирал поясницу.
Ноэми, опершись локтями о стол, принялась что-то рисовать. Я на цыпочках подкрался сзади и заглянул к ней через плечо. На листе красовались два человечка, один с бородой, другой с усами, – ясно, это были Па и Себастьен. Я так и не успел разглядеть их получше, потому что она тут же закрыла рисунок руками и так сердито закричала: «Уйди, не смотри!» – что я оставил ее в покое.
И отправился к Ма, которая готовила ужин на кухне. Я спросил ее, что там тушится в кастрюле, и она ответила: «Рагу. На-ка, понюхай!» – и приподняла крышку. Рагу пахло ужасно аппетитно, в печи потрескивало пламя, часы вдруг пробили семь. Я снова подумал о Катрин. Интересно, чем она сейчас занимается? И думает ли она обо мне?
– Симон, – сказала Ма, – будь добр, накрой на стол.
– Почему я, а не Ноэми?
– А Ноэми будет убирать со стола.
– Давай лучше я уберу.
– Но спорь!
Я велел Ноэми складывать свои манатки, но она возмутилась:
– Подожди минутку, я сейчас кончу.
– Ждать? И не подумаю.
Вообще-то я любил Ноэми, но одновременно она почему-то здорово действовала мне на нервы. Иногда я даже думал: хорошо бы, я жил один с Па и Ма, как раньше. Я бы тогда все делал охотно: и накрывал бы на стол, и убирал потом посуду. Но вот родилась Ноэми – что ж тут теперь поделаешь!
Наконец она все-таки соизволила встать и, ясное дело, пошла хвастаться своим рисунком перед Па, который, как всегда, начал охать, и ахать, и восклицать, что у нее, мол, огромный талант, и что это гениально, и прочие глупости в том же роде. Надо признать, она действительно рисует неплохо, эта малышка, но «гениально» – это уж слишком!
После ужина мы посмотрели фильм по телевизору, и наш «юный гений», как всегда, заснул, посасывая уголок своего одеяла. Па попыхивал трубкой и, видимо, совсем не думал о фильме. Ма время от времени восклицала: «Господи, как глупо!» – и, похоже, гораздо охотнее послушала бы «Кармен». Наш кот Гектор разлегся у меня на груди и мурлыкал как заведенный; временами он вытягивал лапу и тихонько запускал когти мне в плечо.
Да, повторяю, этот вечер ничем не отличался от других. Идеальная картина; отец, мать, дети, кошка, горящие в камине поленья и мерное тиканье стенных часов.
Перед сном Па открыл окно, чтобы затворить ставни. Снегопад все усиливался.
– Сугробы во дворе уже в полметра, – сказал Па. – Просто невероятно, в жизни не видал таких огромных хлопьев!
Он протянул руку, и в мгновение ока на ней вырос плотный белый сугробик.
Я еще долго возился у себя в комнате, раздумывая о снеге, о Катрин, о будущем понедельнике. Вдруг я решил, что непременно поцелую Катрин в губы, как только что видел в фильме. Только бы не задохнуться и чтобы носы при этом не столкнулись…
В конце концов я улегся к постель. Долго лежал я с открытыми глазами, слушая шуршание снега за окном, такое вкрадчивое, словно какие-то изворотливые насекомые пытались тайком пробраться ко мне в спальню; потом я заснул.

2

Это мой отец придумал переселиться в Верхние Альпы. К сорока годам он вдруг почувствовал, что устал. Устал от всего на свете: от Парижа, от грохота, от звона часов, от своей работы, от деловых встреч, от почты и дискуссий, от телефона, а главное, от мелькания лиц. Так, по крайней мере, он утверждал.
Отец был адвокатом – прекрасная профессия, не правда ли? Но всю жизнь он мечтал работать скульптором или садовником. В общем, кем угодно, только не адвокатом! Мы не были богачами, но жили вполне безбедно: прекрасная квартира в шестнадцатом округе [3]3
Один из наиболее фешенебельных округов Парижа.
[Закрыть], две машины, путешествия во все страны света, самые дорогие отели. Но Па уже начинал поговаривать о том, что деньги, которые он зарабатывает, обходятся ему слишком дорого.
Он становился раздражительным и все более странным. По утрам он обязательно забывал что-нибудь дома: то бумажник, то ключи от машины, то портфель. Бранясь, он вновь поднимался в квартиру, перерывал весь свой кабинет, натыкался на мебель и убегал, чтобы через две минуты вернуться опять: на этот раз он забыл часы или нужные бумаги. Ма обеспокоенно смотрела на него, не говоря ни слова. Па опаздывал на деловые свидания, и его нетерпеливые клиенты начинали названивать нам домой. Ма отвечала им: «Не волнуйтесь, он уже в дороге!» – и ставила на проигрыватель «Травиату», но чувствовалось, что мыслями она далека от музыки, и в то время она даже перестала петь. По вечерам Па возвращался с потерянным видом, с перекрученным галстуком; он молча ужинал и принимал какие-то разноцветные таблетки. Затем запирался у себя в кабинете, и Ма говорила: «Тише, дети, не мешайте папе думать».
Оживлялся отец только с наступлением выходных. Он запихивал нас всех в машину и ехал куда глаза глядят. Он терпеть не мог больших автотрасс и выбирал узкие деревенские дороги, вьющиеся между перелесками и частенько заводившие в какой-нибудь овраг. И вот мы оказывались в Луарэ [4]4
Луар э – департамент в центре Франции.
[Закрыть], а то и в Нормандии, где-нибудь на берегу пруда. И листве весело щебетали птицы, в кустах гудели пчелы. Ма собирала цветы. Ноэми гонялась за бабочкам, а я шнырял но лесным тропинкам. Па, раскинув руки, лежал на траве и глядел в небо. Часто он засыпал, прикрыв шляпой лицо. Но на обратном пути, подъезжая к предместьям Парижа, Па опять мрачнел и начинал курить без передышки.
Именно в ту пору, как мне помнится, Па опять страстно увлекся скульптурой. «Страстно» – так говорила моя мать. Я-то сам сперва думал, что он просто-напросто сошел с ума. Он переоборудовал одну из комнат нашей квартиры в мастерскую, установил там верстак и маленькие электрические токарные станочки, поскольку обрабатывал дерево. Я знал, что в молодости Па учился в школе Изобразительного искусства, но что его отец почти сразу же строго осудил это призвание, которое посчитал несолидным, и пригрозил лишить сына денежной помощи. Сперва Па вроде бы сопротивлялся, но кончилось тем, что он капитулировал и поступил на юридический факультет, к великой радости всего семейства. И все-таки это подавленное призвание не умерло в его душе, и теперь, через двадцать лет службы, то есть того, что он величал своими «законными занятиями», он горел желанием взять наконец реванш у судьбы.
По вечерам, торопливо поужинав, он бежал в свою «берлогу», и вскоре оттуда доносилось мерное жужжание мотора. Для начала Па, словно желая выразить смутные идеи, таившиеся у него в голове, создал целое семейство разных чудищ: здесь были фантастические насекомые с человеческими лицами, с клешнями и жалами, карлики с когтистыми руками, застывшие в причудливых позах, потом спруты, вампиры, мумии. Все эти миниатюрные статуэтки он расставлял на полках, и я разглядывал их со смешанным чувством восхищения и страха. Иногда Па разрешал мне подойти к верстаку, и я изумлялся точности его движений, глядя, как ловко он управляется с напильниками и стамесками, окончательно отделывая вещь. Бывало, он поворачивал статуэтку в разные стороны под ярким светом лампы и спрашивал меня:
– Ну как, нравится тебе?
– Красиво, но только страшно.
– Правильно! Так и надо, чтоб было страшно.
– А что это такое?
Он отвечал; «Кошмарный сон», или «Царица ночи», или «Задумчивый скарабей». Мне это ровно ни о чем не говорило, но я кивал, вспоминая при этом сказки, которые он придумывал для меня на сон грядущий, когда я был совсем маленький.
В конце концов Па даже устроил выставки в нескольких художественных салонах, но главной работой, обеспечившей ему успех, оказались шахматы с фантастическими фигурами, над которыми он трудился долгие месяцы; вскоре на них нашелся покупатель.
Теперь Па выглядел уже не таким хмурым, но все-таки он по-прежнему ходил с отсутствующим видом, не слышал того, что ему говорили, или же отвечал невпопад. И если бы не Ма, он бы, наверное, попросту забывал ходить на работу каждый день.
Временами он жаловался: «Я задыхаюсь!» Конечно, это говорилось не буквально, но иногда у него и в самом деле перехватывало дыхание, и тут начиналось: рука, судорожно прижатая к сердцу, хрип, лекарства. Ма просто с ног сбивалась, приводя его в чувство, а мы с Ноэми испуганно смотрели на них обоих. В конце концов Па приходил в себя, лицо его розовело. «Ничего, ничего, пройдет… Ах, эта собачья жизнь!» Мне тогда было лет десять, не больше, и это выражение «собачья жизнь», такое странное в устах отца, принимало для меня какой-то зловещий смысл.
Обрывки разговоров взрослых, случайно услышанные мной, давали мне понять, что наши семенные сбережения быстро таяли, а Па совершенно не заботился о том, чтобы поправить дело. Моя мать выглядела все более озабоченной, и я читал на ее лице предвестие катастрофы.
Тетушка Агата… Я, конечно, очень любил ее, но в каком-то смысле она хорошо сделала, что умерла. Ее унес внезапный сердечный приступ. Женщина, помогавшая тетушке по хозяйству, нашла ее сидящей в кресле, с кошкой на коленях. Голова тетушки чуть свесилась набок, глаза были открыты: она держалась молодцом до самого конца.
Муж тетушки, нотариус, давным-давно умер, оставив ее одинокой и бездетной, и мой отец был ее любимым племянником. Он часто навещал тетушку, как правило, один, так как Ма заявляла – признаться, не без оснований, – что та терпит нас всех только из вежливости и что мы своим присутствием лишь омрачаем трогательную картину их любви. Когда по каким-либо торжественным случаям нам приходилось сопровождать отца к тетушке Агате, Ма все время чопорно сидела на стуле, я зевал и разглядывал потолок, а Ноэми, неисправимая озорница, тут же принималась перебирать тетушкины безделушки.
Кисло улыбаясь, тетушка Агата отводила нас в библиотеку, где оставляла в обществе мадам де Севиньё [5]5
Севинь ё Мари де (1626–1696) – автор «Писем», воссоздающих нравы и обычаи XVII века.
[Закрыть]и Стивенсона [6]6
Ст и венсон Роберт Льюис (1850–1894) – шотландский писатель, прозаик и поэт, автор книги «Остров сокровищ».
[Закрыть]. «Будьте умницами, детки, сидите и читайте эти интересные книжки!» Но стоило ей выйти, как Ноэми вихрем срывалась со стула, а я гнался за ней.
В старости тетушка страдала ревматизмом, и стук ее палки по паркету приводил меня в такой же ужас, как стук деревянной ноги Сильвера в «Острове сокровищ». Но в моем отце она прямо души не чаяла: называла его «мой миленький Никола» или даже «Нико», как будто разговаривала с маленьким мальчиком. Она не спускала с него любящих глаз, и я отлично видел, что моему отцу это весьма приятно. Па – он у нас такой: погладь его по шерстке, и он на седьмом небе от счастья, только что не мурлычет. И тогда из него можно веревки вить. Ноэми давно это просекла.
Однажды, когда отец вернулся от тетушки Агаты очень поздно, Ма довольно кислым тоном спросила его:
– И о чем только вы там беседуете целыми часами?
– О метафизике! – суховато ответил Па.
Тут вмешался я:
– А что это такое – метафизика?
– Ну… это наука о жизни, смерти, вечности…
– И все это метафизика?
– Да, все это.
Я безуспешно пытался представить себе, как Па, сидя в просторной гостиной с чашкой кофе в руке, обсуждает с тетушкой Агатой проблему вечности.
Результатом этих самых бесед о вечности явилось завещание «миленькому Никола» всего тетушкиного имущества: дома в Нейи [7]7
Ней и – фешенебельный пригород Парижа, примыкающий к Булонскому лесу.
[Закрыть], виллы в Кабуре [8]8
Каб у р – курортный город на северо-западе Франции.
[Закрыть], акций, драгоценностей и – шале в Вальмани [9]9
Вальм а нь – район французских Верхних Альп.
[Закрыть]. Как раз в это время Па был в полной депрессии и вдруг сквозь мрак тоски ему блеснул огонек надежды. Решение было принято мгновенно: все продать, все бросить – и Париж, и работу. Мы переселяемся в шале, где жизнь нам почти ничего не будет стоить. Па вспоминал, как он в детстве проводил в этом шале каникулы, – места там потрясающие! Ма не протестовала, ну а меня одна только мысль о переменах в нашей жизни приводила в восторг.
Неделю спустя мы отправились на разведку. Было начало мая, на лугах распускались цветы, ручьи журчали среди кустов и шумными каскадами падали с пригорков; горные вершины, еще покрытые снегом, сверкали на солнце. Па опустил стекла; он скинул туфли и вел машину босиком – это у него был признак прекрасного настроения. Он даже опять начал улыбаться…
Проехав через Гап [10]10
Гап – город в Верхних Альпах.
[Закрыть]и поднявшись в гору по бесконечно длинной дороге, окаймленной пихтами и елями, мы наконец-то прибыли к нашему шале. Оно совсем затерялось среди лесов и лугов: вот уж поистине безумная затея тетушки Агаты, которая и живала-то здесь от силы пару месяцев летом, и еще более безумная затея моего отца, решившего поселить нас тут навсегда. Но в тот день мы видели одну только изумительную природу и совсем не думали о подстерегавших нас трудностях.
Это было большое шале, сложенное из массивных бревен, – так строили в начале девятнадцатого века; под его высокой двускатной крышей, выложенной сланцевыми плитками, помещались и дом, и амбар, и хлев, и множество других пристроек. Сооружение это выглядело в высшей степени основательным, устойчивым, соразмерным. И маленькие окошки в ряд по фасаду, и грубовато сработанные перила крыльца, и аккуратная поленница под навесом – все это давно мне знакомо по рассказам отца. И я уже мысленно видел себя здешним сельским жителем, вольным хоть всю жизнь бегать по горам.

Пышная сирень наполняла благоуханием сад, густо заросший сорняками. При нашем появлении стая черных птиц шумно снялась с огорода и расселась на ближайших елях. Па торопливо прошел через двор, открыл двери и распахнул ставни. Внутри пахло сыростью. В почерневшем от копоти камине еще лежала горка пепла. Похоже, до нас здесь побывали бродяги, так как кухонное окно было разбито, а на столе красовались пустая бутылка, стаканы и крошки. Но кажется, украдено ничего не было.
Па ходил из комнаты в комнату. Он узнавал обстановку, он то и дело восклицал: «Вот здесь, в этой кровати, я спал. По вечерам дядя трубил в рог. Агата счастливо вздыхала. Она тогда была молодая, красивая, темноволосая, она рассказывала мне о звездах!..» Он был прямо переполнен воспоминаниями. Ма смеялась, видя его таким повеселевшим, и повторяла: «Да, вот где нужно жить!»
Мы поднялись на чердак. Там еще оставались запасы сена, соломы, целое скопище старой мебели, какие-то ящики. Агата никогда ничего не выбрасывала. Она суеверно полагала, что нужно почитать и сохранять «дух дома». Это была одна из ее великих теорий: «дух дома» да еще вера в незримое присутствие мертвых вокруг нас.
Сова, восседавшая на потолочной балке, вяло захлопала крыльями, склонила набок голову, с минутку посмотрела на нас – и закрыла глаза.
В сентябре Па ликвидировал свои дела, и мы переехали в Вальмань. Па тут же принялся расчищать сад, поправлять изгородь, пилить на зиму дрова. Он носил теперь грубый комбинезон и сапоги, ветер и осеннее солнце покрыли его лицо красноватым загаром. Он купил трактор, корову, козу, кур. Себастьен Жоль, мастер на все руки, помогал ему советами, а время от времени и делом.
Когда Па не занимался хозяйством, он ваял у себя в мастерской, которую оборудовал в одном из сараев. Он вырезал еще один комплект шахмат, но теперь работал не торопясь и, как он говорил, исключительно для собственного удовольствия. Иногда он даже весело мурлыкал что-то себе под нос, склонясь над верстаком.
Он расширил единственное окно своей мастерской, чтобы оно хорошенько освещало это помещение, где он проводил большую часть дня. Самшитовые чурки сперва начерно обтачивались на большом электрическом станке. Когда заготовка принимала нужные размеры, отец зажимал ее в тиски и вытачивал фигурку вручную всевозможными резцами, долотами и напильниками, которые были разложены перед ним в ящике.
Он овладел всеми приемами, какими до него владели ремесленники старых времен, и, не будь у него за спиной маленьких электрических станочков, выкрашенных в яркие цвета, вполне можно было бы представить себе, что мы живем где-нибудь в средневековье.
Отец изготавливал тогда первые фигуры для шахматного комплекта-гиганта, предназначенного одному коллекционеру, швейцарскому банкиру Тармейеру. Этот последний, открыв для себя произведения отца на одной из выставок, пришел в такой восторг, что тотчас решил сделать ему заказ. В своих все более и более настойчивых письмах банкир выражал такое восхищение, уважение и тонкое понимание искусства, что мой отец сдался и принялся за работу. Сперва он сделал эскизы: больше всего он любил, сидя с карандашом в руках, давать волю воображению. За ними последовали рисунки. Па держал их перед глазами, когда вытачивал фигуры, но не для того, чтобы точно следовать им, а, скорее, для того, чтобы вдохновение не покинуло его; однажды отвечая на мой вопрос, он объяснил, что всегда волен уклониться от первоначального замысла, следуя скорее прожилке на древесине, какой-нибудь тени или просто минутной фантазии.
То был долгий и терпеливый труд, словно бы наперекор правилам, парящим в том мире, где только и говорили что о рентабельности и скоростях. Самое пикантное заключалось в том, что заказчиком отца был именно банкир, тем более что Тармейер имел в своем кругу репутацию человека весьма практичного. Но даже он, живущий среди цифр и мысливший, по первому впечатлению, весьма хладнокровно и расчетливо, имел тайные слабости, глубоко скрытую страсть к искусству. В чем были истоки его любви к шахматам, громадную коллекцию которых он собрал у себя, – в воспоминаниях ли детства, в образе кого-то близкого – отца, дяди или деда, которые посвятили его в тайны игры? Вполне возможно, что и так, однако Па поостерегся расспрашивать его об этом. Тармейер предложил ему хорошую цену, при том даже, что медлительность моего отца обращала эту сумму в весьма скромный месячный доход.
Па и вправду не подстегивал себя, и стоило ему заскучать за работой, как он уходил в сад покопаться в земле, полить грядки или же усаживался перед печкой с книгой на коленях.
Я с восхищением относился к работам отца, но однажды задал ему весьма прозаический вопрос: сколько могут стоить такие вот шахматы? Он назвал цифру, показавшуюся мне огромной, но я подумал: «Раз уж банкир настолько обожает шахматы, что платит такую сумму, он вполне мог бы, в случае необходимости, выложить и побольше». Я высказал эту мысль отцу, который ошарашенно взглянул на меня.
– Он ведь такой богатый! – добавил я.
– Верно, но я запросил с него цену, которая показалась мне справедливой; мне этого вполне достаточно. И потом, что бы мы стали делать с этими деньгами? У нас и так есть все необходимое.
– Ну, можно было бы накупить кучу вещей: телевизор последней марки, другую машину.
– Те, что у нас есть, работают вполне хорошо. И вообще в жизни есть вещи, гораздо более важные.
Я скорчил гримасу и ответил:
– Ну и что, одно другому не мешает!
Мои школьные товарищи частенько обсуждали в классе, сколько зарабатывают их родители, сколько стоят машины, дома, вещи, купленные для них, и, разумеется, говорили они то, что слышали у себя дома. У нас же в шале я практически никогда не слышал разговоров о деньгах; если требовалось разрешить конкретный финансовый вопрос, мать с отцом быстро и без проволочек принимали решение. Надо сказать, я слегка удивлялся их поведению и в компании школьных товарищей иногда страдал оттого, что мы живем не бедно, конечно, но вполне скромно. Все мы такие в этом возрасте: временами очень хочется «жить, как все». И, конечно, любил своих родителей, но вместе с тем считал их большими чудаками.
Па тем временем, отложив стамеску и подняв очки на лоб, смотрел на меня с чуть грустной улыбкой.
– А я, когда вырасту, буду зарабатывать много-много денег! – объявил я – не слишком, впрочем, уверенно.
Он устало махнул рукой.
– Может быть, – сказал он, – очень может быть, почему бы и нет? Надеюсь только, что деньги эти не обойдутся тебе слишком дорого.
Вот такой уж он был, мой отец, – «динозавр», как назвали бы его на школьном жаргоне мои товарищи. Представляю, как наши мальчишки кривлялись бы и пожимали плечами, услышав его рассуждения.
В тот день – помнится мне, было начало осени – выпал уже первый снег. В печке жарким пламенем горели стружки. В густом плюще суетились дрозды. Па взял вырезанную статуэтку и, поднеся к глазам, стал медленно поворачивать ее в отсветах огня.
Что касается Ма, то она занималась домом, варила варенье и попутно слушала свои оперы. Никогда раньше я не видел ее такой счастливой. Она утверждала, что всю жизнь мечтала жить в лесах. Ну а мы с Ноэми ходили в деревенскую школу. Каждое утро нас забирал автобус, проезжавший мимо дома, и возвращались мы только к вечеру. И в свободные дни мы водили корову и козу на пастбище или исследовали окрестности.