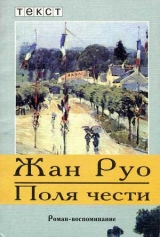
Текст книги "Поля чести"
Автор книги: Жан Руо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Лечебница Пон-де-Пьете состоит из старинного монастыря и позднейших пристроек, сделанных в пору открытия здесь центра дезинтоксикации для всех, обуянных неумеренной жаждой. Главные ворота с романским фронтоном достаточно широки, чтобы туда можно было въезжать на автомобиле, но во дворе, затемненном высокими строениями с набухшими от дождя фасадами и решетками на окнах, сердце сжимается от тоски. Пирамидальные тополя вытянулись выше крыш. Колокол часовни задумчиво вызванивает ноты, искажаемые ветром. Монашки быстрыми шажками снуют по двору, лавируя между лужами. Обеими руками они удерживают подолы черных платьев, которые вихрь норовит задрать, и, когда белая вуалька чепца, взлетев, опускается на глаза, у них уже не хватает рук, чтоб ее откинуть, а потому они разворачиваются, делают несколько шагов задом и, пятясь, исчезают в коридорах с широкими окнами, впускающими шлейфы света. Тусклые стены, запах стариковского недержания, не заглушаемый гектолитрами дезинфицирующих средств, тошнотворное дыхание кухни (тот же тронутый вечностью суп, что по вечерам подают в коллеже), скользящие по линолеуму озабоченные фигуры сестер, больные в пижамах, бродящие в поисках незнамо чего, – в этом, собственно, главная их беда, блуждающие взгляды, полные безумной муки, неизбывной тревоги, которую не изгонишь никакой химией, скрюченные руки, пальцы, сцепленные, будто два звена цепи, неуверенная опасливая походка, бессвязная речь, резкие неконтролируемые движения, а дальше, в монастырских покоях, самые тяжелые: клонированные Наполеоны и Людовики XIV, Анастасии и прочие непризнанные принцессы – баснословные династии царства слабоумных. Огромная семья самозванцев, родство с которыми нашей Деве Марии не пришлось сносить слишком долго.
Мы теснились в малюсенькой келье с белыми стенами и белой мебелью, держась как можно дальше от кровати, установленной напротив окна, за которым ветер трепал тополя, и не решались из страха толкнуть капельницу или запутаться в трубочках, приблизиться к бледной фигурке с тонюсенькими прозрачными руками, при виде которых становилось ясно, что смерти тетушка предпочла тихое растворение. Лицо без очков сливалось с белой подушкой, тело под одеялом почти не имело объема – так, махонькая складочка жизни, связанная с миром стеклянными трубочками, но и ее скоро разгладит дыханием свыше.
Черное мамино одеяние резко выделялось на белом фоне. Мы стояли на краю бездны, где кончается мир явлений. Мы даже старались не дышать, боясь заглушить иссякающий источник. Монашки, как правило энергично управляющиеся с больными, сюда заходили на цыпочках, дабы не потревожить блаженный сон. Воспользовавшись приходом одной из сестер, мама, уже и раньше проявлявшая признаки беспокойства, велела нам уходить. Мы покинули белую-белую тетушку без прощального поцелуя.
По возвращении домой дед укрылся на чердаке. Когда, выполняя миссию гуманитарной помощи, он поселился у нас, то возложил на себя две обязанности: магазины, занимавшие у него утро («Месье Бюрго» очень быстро завоевал расположение коммерсантов, восхищавшихся его отеческим самопожертвованием), и разборка чердака – ей он посвящал вторую половину дня; ни с какими другими просьбами не следовало к нему и соваться. Поясним: магазины – это чтоб прогуляться, чердак – чтоб его не беспокоили. Взялся он и еще за одно дело, чем в конечном итоге отравил и сократил свое пребывание у нас: он вознамерился заменить отца в воспитании Зизу и совершенно ее затерроризировал. Не клади локти на стол, не жуй с открытым ртом, не стучи ложкой о тарелку, не перебивай, жди, когда тебя спросят и т. д. Замкнувшись в своем горе, мама ничего не замечала. Глядя на мучения сестры, четырнадцатилетняя Нина взяла бразды правления в свои руки: в день смерти тети Марии она позвала деда с бабушкой и объявила им, что после похорон они уезжают. Мама, если только она вообще заметила присутствие родителей, вероятно, до сих пор недоумевает, почему они уехали.
Отправляясь за покупками, дед, помимо всего прочего, получал возможность тайком запастись сладостями, которые ему запретили есть с тех пор, как у него обнаружился избыток сахара в крови, не такой уж большой, чтоб прописывать ему ежедневные уколы инсулина – поэтому мы не очень-то верили в пресловутый диабет, – но все же достаточный для того, чтоб он согласился – под строгим надзором бабушки – заменить восемь кусков сахара в утреннем кофе таблетками сахарина, а это, сами понимаете, совсем не тот вкус. Так вот и приходится всю жизнь довольствоваться малым. Прежде он покупал себе развесные конфеты, по сто грамм, и выбор их не доверил бы никому. У него имелся адресок в Нанте, куда он ездил за поставками: бакалея на улице Верден, возле собора, древняя, темная, пережиток колониальной эпохи, сохранившаяся в городе со времен его сомнительной славы, тесная, точно склад заморских товаров, пахнущая кофе, чаем, пряностями, продававшимися там на вес. Стеклянные сосуды с конфетами занимали три полки при входе. Как тут выбрать среди фантастического разнообразия подушечек, медовых и ментоловых леденцов, карамелек, зеленых драже от кашля, шариков с шоколадом, фисташек, мармелада с алтеей и солодкой, пастилками Виши и прочими. Дед мечтал о самообслуживании, чтоб самому зарыться в эти сокровища лопаточкой в форме желоба, но куда там – хозяева с мучнистыми лицами и словно засахаренные в серых блузах обязанностей своих не передоверяли никому. Они на этом деле собаку съели, отмеряли на глазок с точностью до нескольких грамм, оставалось добавить одну или две конфетки, чтобы чаши огромных весов «Роберваль» пришли в совершенное равновесие. В этой точности заключалось их профессиональное достоинство. Несправедливо было бы оставить невостребованным талант, оплаченный целым веком работы в бакалейном деле.
Деду выдавались аккуратно заклеенные скотчем белые кулечки, содержимое которых по возвращении в Риансе он высыпал в свой тайник – круглую коробку с узорами в стиле рококо, спрятанную в недосягаемом для внуков месте наверху буфета. Хранилище это ни для кого не составляло секрета, но ритуал тайноедения соблюдался. Он дожидался, чтобы мы вышли из кухни, и запасал себе полную пригоршню на день, отчего карманы у него пропитывались сахаром, а бабушка приходила в ярость. Мы слышали, как он с грохотом пододвигает стул. Казалось, проще бы сменить тайник, но он предпочитал выполнять гимнастическое упражнение, более подобающее детям, – что ж, тоже способ остановить время.
Курить в портняжной мастерской среди обилия тканей он не мог, тем более что руки у него были заняты работой, а губами во время примерок он держал булавки, поэтому отсутствие сигарет компенсировал леденцами. Он сосал их с неподвижным лицом, сосредоточенно следя за иголкой, и слышно было только, как он сглатывает слюну. При этом он утрачивал тот вызывающе надменный вид, который придавала ему зажатая в зубах сигарета, и в его раскосых глазах проступало даже что-то отдаленно напоминающее смирение.
Здесь, у нас, после обеда он отправлялся на чердак. Время от времени оттуда доносились звуки, по которым мы угадывали, что он передвинул стол или стул, что произошел обвал, разбился стакан, – и слегка тревожились, но чаще всего мы прислушивались напрасно: может, он просто спал. Бабушка волновалась: да что же он там делает? Она опасалась, как бы в нашей немыслимой свалке он снова не отыскал какой-нибудь остров Леванта. Мы умирали от любопытства, но заходить на чердак воспрещалось. Нет, ничего такого он не говорил в открытую, но кому же в голову придет беспокоить деда, когда он занят. Его молчание, его манера смотреть, не видя, полуприкрытые окутанные сигаретным дымом глаза – все это создавало вокруг него некую защитную зону, нарушаемую только с его позволения. Он спускался за час до ужина с паутиной в волосах и в пропыленном пиджаке, тщательно чистился, разглаживал ногтями складку на брюках (бабушка напрасно уговаривала его надевать на чердак что-нибудь более подходящее) и заставлял нас вместе с ним идти мыть руки.
Однажды за ужином бабушка собралась с духом и поинтересовалась, что он делает наверху. Прямо он на вопрос не ответил, но спросил у мамы, известно ли ей что-нибудь о Коммерси. Мама только подняла голову, изумившись, что кто-то пытается разговаривать с заживо умершими. Дед настаивать не стал. Но как-то в воскресенье через разделявшую участки лавровую изгородь обратился с тем же вопросом к Матильде. Та замахала рукой, будто стирая в пространстве нечто, о чем не хотела и слышать.
Тут как раз умерла тетушка. Она ушла от нас девятнадцатого марта, на святого Иосифа (или Жозефа), словно бы в своем бессознательном путешествии тщательно пролистывала календарь, выбирая число, подходящее для воссоединения с недавно скончавшимся племянником и давным-давно почившим братом.
В день похорон дул адский ветер. Он задирал стихари с не меньшей яростью, чем женские юбки. Несколько служек с трудом удерживали длинное древко хоругви с серебряной бахромой; истерзанная шквальными порывами, она закручивалась, надувалась и норовила оторваться. Тот, что шел впереди процессии, держал бронзовый крест перед собой, точно воин алебарду. Кюре Бидо шарфом повязал вокруг шеи вырывавшуюся из рук епитрахиль. Она развевалась у него за спиной, посверкивая золотыми блестками. Ветер листал страницы молитвенника быстрее, чем он их читал. Испугавшись, что тонкая бумага не выдержит, он закрыл требник и стал импровизировать. Он надсаживал глотку, но ледяные оплеухи уносили слова песнопений вдоль по дороге на Париж раньше, чем мы успевали их подхватить хором. Мальчишка, державший святую воду, расплескал по пути добрую половину драгоценной жидкости себе на платье. Когда дошло дело до окропления, пришлось довольствоваться остатками и макать кропило в пустой сосуд. Вой ветра заглушал звук шагов, мы продвигались, опустив голову, задыхаясь, ориентируясь на спину впереди идущего, беспокоясь более всего о том, как бы не улететь. Бабушка и мама сняли вуалетки, дед крепко держал шляпу рукой, кто-то догонял свой берет или косынку. Катафалк, который тянули лошади месье Билоша, раскачивался с боку на бок, черные драпировки хлопали и вздымались, как стая воронья над телом. На крутом повороте к кладбищу катафалк чуть не опрокинулся (это было его последнее путешествие – его сменил автомобиль). Билош-младший счел, что дальнейшее продвижение небезопасно для покойника. Он выбрал трех мужчин покрепче, вместе они подхватили гроб, вытащили его из-под балдахина, переглянулись и дружно, могучим движением взвалили на плечи, с изумлением обнаружив, что ноша совсем не тяжела. Сила рывка оказалась несоразмерной весу гроба: они чуть было не подкинули его в воздух, как подкидывают друг друга на простынях пожарные во время праздника. В ее последнюю обитель нашу Марию, как царицу, мужчины внесли на руках; плотно прижатая к щекам носильщиков, она, возможно, перекатывалась в слишком просторном для нее сундуке и душой краснела оттого, что такие прекрасные мужи склонили головы перед ее неприметной женственностью.
Вернувшись с кладбища, дед в последний раз заглянул на чердак, принес оттуда коробку из-под обуви и с какими-то объяснениями вручил ее маме. Мама выслушала его равнодушно, не зная, куда деть коробку, поставила ее на письменный стол, где она вскоре оказалась погребенной под грудой бумаг. Старики погрузили чемоданы в малолитражку, в торопливом прощании на тротуаре перед магазином (колючее прикосновение дедовых усов и более нежное – бабушкиных) ощущалось, что обе стороны расстаются с облегчением. Не успели они скрыться за поворотом, как мы устремились на чердак смотреть, что же там, собственно, произошло.
Чердак и вправду был неузнаваем. Если считать, что порядок есть субъективная алгоритмическая вариация беспорядка, то чердак, обустроенный дедом, был тем же, что и прежде, только в беспорядке, поскольку царивший там хаос сменился новым, нам непривычным. На чердачных полках десятилетиями откладывались бесценные обломки цивилизации, образуя своего рода стратиграфический срез череды поколений и того, что они оставляли после себя, – дедушка же, нарушив последовательность, спутал время и смешал карты в этом семейном мемориале. В новом раскладе прежние ориентиры утратили смысл. Из тех же самых элементов он составил совсем иную картину и иную историю. Нам предстояло привыкать к перелопаченной памяти, к голубой керамической фигурке в клетке для канарейки, черным четкам на шее у медвежонка без лапы – видимо, папе не хватило тут швейного таланта, – бронзовым канделябрам, подпирающим кипу пластинок на семьдесят восемь оборотов (некто Бах рассказывает на них грубые солдатские анекдоты), журналам, сваленным в огромную плетеную корзину, какими веками пользовались прачки, разбитому зеркалу на сером от пыли полу, по кусочкам отражающему стропила крыши, ботинку, сиротливо прижимающему пачку счетов, аккуратно перевязанных и готовых свидетельствовать об оплате на тысячу лет вперед, и к прочим вещам в себе, лишенным пояснительных табличек, как-то: жестяная трубочка, латунный конический снаряд, род китайской шляпы, испещренной дырочками, наподобие лотка для промывки золотоносных песков, змеевидный предмет неизвестного назначения, деревянный ларец, хитроумно разделенный на множество ячеек. В результате пертурбации на поверхность всплыли не только вещи, давно забытые и зарытые, но и вообще невиданные.
Так, дедушка откопал целую серию фотографий и расставил их против вольтеровского кресла со сломанным подлокотником, в котором сидел (о чем свидетельствовала полная окурков пепельница, забытая возле ножки), но расположил их не в генеалогической последовательности, а по сходству, по морфологическому родству, словно бы пытался в перевоплощениях уловить следы перехода жизни и, проследив красную линию подобия, найти рецепт бессмертия. Глядя на частицы нас самих, разбросанные по лицам, зачастую нам не знакомым, мы не могли отрицать, что являемся их продолжением. Мы узнавали у родственницы, умершей в незапамятные времена (от нее сохранился чуть ли не дагерротип), глаза Зизу и приходили в смятение от мысли, что взгляд может передаваться с того света.
Оставалась коробка из-под обуви. По тому, как он торжественно вручил ее маме и при этом что-то шепнул на ухо, становилось ясно, что в ней собраны самые ценные из находок. Мы потрясли коробку – она не звенела. Если там не золото, то, по меньшей мере, доказательства старинной семейной славы.
В коробке лежали фотографии, открытки, письма, брошь, медальон и две тетради. Наиболее потрепанная из них начиналась аккуратными записями, затем почерк портился, а к концу и вовсе становился не читаемым: заключительные каракули растворялись в белизне последних неиспользованных листов. На фотографиях мы узнали родителей отца: Пьер в машине, Пьер в военной форме, Алина, сидящая в кресле, крупная, с черно-белой собачкой на коленях, или она же – улыбающейся девушкой. Все, собранное в коробке, относилось к ним, за исключением благочестивой открытки, которая смотрелась бы уместнее в тетушкином молитвеннике. Но, приглядевшись, мы обнаружили на обороте молитву патриотического содержания. Речь шла о Первой мировой войне, в которой Бог, не колеблясь, стал на сторону Франции, старшей дочери Римской Церкви. При такой поддержке исход конфликта был предрешен. То-то порадовался бы Жозеф – любимый брат Марии, однако рукописная запись подтверждала, что он скончался в Туре от ран 26 мая 1916 года. Траурную открытку положили на буфет, а в коробку взамен него убрали, по предложению Нины, золотые зубы и обручальные кольца.
Что заключено внутри грецкого ореха? Воображение уносит вас Бог знает куда: пещера Али-Бабы? обломок подлинного Креста? голос Рудольфа Валентино? Вскрываешь скорлупку и съедаешь сердцевину. Узнаешь, что она содержит микроэлементы и витамины, углеводы и липиды, а пещера Али-Бабы существует в воображении Шахеразады, обломок Креста – в древе познания, голос актера немого кино Рудольфа Валентино – в ушах глухого.
III
Участники византийских соборов, спорившие о поле ангелов, должно быть, представлялись тетушке проповедниками распутства. Помню, в какое замешательство мы привели однажды папу – мы тогда в машине ожидали маму перед родильным домом, где она кого-то навещала и нас с собой не взяла, – спросив у него, как в маленьком комочке розовой плоти разобрать, мальчик это или девочка? Он на минуту задумался, постукивая пальцами по рулю, что было у него признаком раздражения. Фаллос, пенис? Нет, чересчур учено. Член? Выспренно. Пиписька? Слишком по-детски (как будто он не с детьми говорил). И вдруг его осенило – обернувшись к нам с лукавой и смущенной улыбкой, он произнес: «Краник». Вот какой целомудренный папа.
И все, никаких других объяснений, что заставит нас хорошенько помучиться в ту пору, когда обнаружится двойная функция краника. Но много и не надо. Стрелка дрогнула и впилась аккурат в середину мишени. Аура молчания, окутывающая округлившиеся животы будущих матерей, только усиливает притягательность неизведанного, приближаясь к которому мы становимся такими осторожными, отстраненными, что, кажется, жизнь почти за нас и не держится, а мы – за нее.
Даже если намеки становятся порой совершенно прозрачными. Так, листая хранившуюся в коробке из-под обуви тетрадь с песнями юной Алины (тетрадь принадлежит такой-то и подпись), среди полного собрания текстов бретонского барда Теодора Ботреля, воспевавшего городок Пемполь и любезную пемполезочку – «У меня два быка» и «Ты, дружочек, ростом мал» (после чего в шестнадцать лет начинаешь беспокоиться за собственный рост) – мы неожиданно наткнулись на предмет желанный и при этом способный удлиняться, бывший, как вы, милые дамы, уже, наверное, догадались, подвязкой, однако двусмысленность сохранялась до последней строчки и, должно быть, вызывала под конец застолья дружный вздох облегчения, поспешно заглушаемый следующей песней: «Есть пруд заросший за селом, часовня отразилась в нем».
И как это нашу Марию угораздило рассказать – видимо, по случаю первых месячных у Нины, поскольку мы знаем это именно от нее, – что ее собственная женская жизнь продолжалась всего восемь лет, с восемнадцати (что не рано) до двадцати шести лет: ошибка природы, но словно бы преднамеренная, чтобы не искушать любовью тщедушное тельце, чтобы она могла целиком посвятить себя подражанию святым и обучению детей. Две тысячи девочек за пятьдесят лет, три поколения, три республики, две мировые войны, и еще успела вместе с ученицами помолиться за мир в Алжире.
Учительством она отдавала свой долг перед Господом, выполняла апостольскую миссию: ни одна смоковница да не останется бесплодной. Она научила читать, писать и считать почти полную аутистку, сорокалетнюю женщину, пребывавшую в постоянной прострации. Мы, помнится, ее немного побаивались, когда нас посылали к ним в дом заказать «курочку на пять человек». Сидит, бывало, в темном углу кухни между стеной и буфетом, в накинутом на тощие плечи жилете, красном, как огнь пожирающий, и под скрип плетеного кресла медленно покачивает головой вперед-назад в такт своим монотонным мыслям. Тело ее, таким образом, уподобляется часам, будто она только для того и живет, чтобы отмерять время собственной жизни. Иногда она стягивает жилет на горле и вздрагивает от какого-то внутреннего холода. Лицо скрыто под ритмично колыхающимися волосами. Ноги в огромных тапочках поставлены одна на другую, чулки приспущены. Она никогда не смотрит в глаза и на наши приветствия отвечает урчанием. Если не требуется присутствие ее матери, она сама записывает наш заказ в тетрадь, которую достает из ящика буфета, пишет старательно, неуверенно, глядя на ее движения, представляешь себе паралитика, только что обретшего способность ходить, для которого каждый шаг – чудо, корпит над страницей, только что язык от усердия не высовывает, вечная ученица, в муках вытаскивающая каждое слово, как новорожденного, из толщи бумаги, она почти лежит на левой руке, заслонившись от нас пеленой волос; когда она заканчивает, на ее отсутствующем лице не отражается ни смущения, ни гордости, она захлопывает тетрадь, убирает ее вместе с карандашом в ящик и, понурив голову, возвращается в кресло, давая нам понять, что мы можем идти, оставив ей ее бездны; она погружается в таинственную тьму, а ведущая к дороге кедровая аллея кажется нам небесным путем. Бывает еще, что она совершенно правильно сдает сдачу. Ее осчастливленные родители не знали, как и благодарить тетушку, и каждый раз нам непременно подкладывали в сумку несколько яиц от своих курочек.
Окрыленная успехом, а может, уверовавшая в божественное расположение, тетушка решила испробовать свой талант на малютке Анни, но тут ее постигла неудача. Малютка Анни – существо без возраста с непропорционально большой головой, улыбающимся лицом, раскосыми монголоидными глазами – разгуливала по улицам, одетая, как школьница, в натянутых до колен белых носках, с детской прической и заколкой, она чрезвычайно гордилась своими бантиками, считая их верхом элегантности, и каждому встречному, осведомлявшемуся о ее здоровье, отвечала, подобно евреям, мечтающим об Иерусалиме: «Анни завтра в Париж». Ее желание сбылось, она попала в Париж, где ее беспорядочно разбросанные хромосомы наконец воссоединились и она умерла в комнате над кондитерской ее сестры на улице Пасси. Интересно, рассказывала ли она жителям фешенебельных кварталов, возможно не таким снисходительным, как мы, что завтра едет в Париж, подобно пришельцу, искавшему Рим в Риме и Рима в Риме не замечавшему? «Париж» – единственное слово, которое она научилась читать, и то благодаря тетушкиной хитрости: вместо буквы «А» тетушка рисовала Эйфелеву башню, так что, увидев сооружение воочию, Анни, должно быть, одна из миллионов посетителей смогла в переплетении перекладин распознать название обетованного города.
Нетрудно вообразить, чего стоило тогда тетушке детским голоском встрять с натужной легкостью в разговор, возможно, просто от обиды, что ее мнения никто не спрашивает, между тем как у нее всегда имеется в запасе словечко по каждому вопросу. (Папу это раздражало: ну что она понимает, скажем, в футболе, он обрывал ее, а она все-таки переспрашивала имя игрока, чтобы в следующий раз упомянуть о нем, как о старом знакомом.) В тот день, однако, ситуация складывается не в ее пользу. Она, как чумы, боится разговоров о совокуплении и зачатии детей, о чем в ее добропорядочные времена ей, по счастью, не приходилось рассказывать в школе. Но, чем оставаться одной на берегу, она предпочитает храбро прыгнуть в воду, поделиться своим скромным опытом, добавив камешек в фундамент познания, но такой махонький, что, если бы не Нина, никто бы его и не заметил. Уязвленная невниманием, тетушка повторяет, будто важное свидетельское показание в щекотливом деле о сексуальности, что для нее лично проблема окончательно разрешилась в двадцать шесть лет, о чем она нисколечки не жалеет, – послушать ее, так она только о том и мечтала: избавление от утомительного ежемесячного напоминания об особенностях своего пола виделось ей милостью Божьей, отныне она могла с чистым телом и духом на руинах своей женской доли строить жизнь блаженной учительницы во славу Всевышнего.
Мы удивлялись, что она не вышла замуж, и поддразнивали ее. Она уверяла, будто сама не захотела, а претендентов за ней увивалось хоть отбавляй, но, несмотря на наши расспросы, ревниво умалчивала, каких именно. Когда же мы видели ее тщедушную фигурку, то и претенденты представлялись нам такими скучными и непривлекательными, что понятным делалось, почему она предпочла остаться старой девой – непорочной матерью сорока детей ежегодно.
Один-единственный раз нам удалось уличить ее в кокетстве – на свадьбе наших родителей. Она вышагивает на фотографии под руку с дедом, нарядная, в длинном черном узком платье, в шляпке с полями, сдвинутой на ухо, в черных перчатках, с черной сумочкой, подбородок гордо задран, а личико уже сморщенное и волосы совсем седые. Лебединая песнь в честь племянника не изгладила печать тридцати лет самопожертвования и аскетизма. Старушечьи повадки появились у нее, наверное, в двадцать шесть лет. Неужели же она бегала по магазинам, выбирала наряд и примеривала черный облегающий туалет перед зеркалом, проводя руками по бедрам? Нет, платье, вероятно, смастерил дед, и не ей одной. Тем не менее она выглядит совершенно счастливой и не прячется от фотографа, привычно склонив голову набок. Мы подтрунивали над этим характерным наклоном головы, удивительно воплощавшим самую суть ее натуры, и, когда позднее увидели такой же на портретах Модильяни, были обескуражены тем, что им достается слава, по праву принадлежащая ей. Всплеск элегантности, прилив дерзости один раз в жизни – это не слишком много. И наверняка она догадывается, что лестные взгляды и знаки почтения относятся не столько к ней, сколько к идущему с ней под руку главе процессии. Куда ей до парижской изысканности деда, на нем и костюм сидит с аристократической небрежностью, приобретаемой от близости к сильным мира сего. Она же готова при первом неверном шаге сбежать к своим бесформенным юбкам, черной ободранной кошелке, домишке в саду и, заключив этот великолепный день в скобки, начать сызнова задним числом уточнять, в каком же году кончились у нее месячные, учитывая, что ей минуло тогда двадцать шесть. И если бы мы, чем позевывать от ее болтовни, взяли бы да посчитали вместе с ней, начав с 1890-го – года ее рождения, то сделали бы интересное открытие: подсчеты привели бы нас аккурат к маю 1916-го, когда умер Жозеф.
Вот о чем она хотела нам поведать, засыпая своими кабалистическими цифрами: о сокровенном горе, осушившем кровь, как слезы, и разрегулировавшем ее жизнь.
Боевой газ впервые применили годом раньше в местечке Штенштрат к северу от Ипра, вот и назвали новинку ипритом. Она не принесла славы своему изобретателю, как пастеризация Пастеру и галлий Лекоку: именно так, ведь «lе coq» (петух) – по-латыни «gallus», и напрасно оскорбились немецкие химики, усмотрев в нем национальный ориентир, в отместку пятьдесят лет спустя присвоив новому металлу имя германия. Эта страсть аннексировать названия мест должна была насторожить. Тайно испытывая в лаборатории свой хлорный коктейль на несчастных подопытных зверушках, ученый изверг – разве газовые камеры не результат его открытий – знал, что нарушает Гаагскую конвенцию, по которой страны, привыкшие уже мериться силами, договорились, дабы уменьшить издержки, следующую войну вести по правилам, по законам рыцарского искусства и дуэльной науки, разыгрывая в глобальном масштабе «Битву Тридцати» на лугу размером в три департамента, не выходя за периметр ристалища и не нанося ущерба простому народу, которому нет дела до княжеских турниров. Но подписание состоялось в мирное время: здоровый человек видит себя послушным больным. А вы скажите Жозефу с его выжженными легкими, чтоб он не выл от боли. Шли месяцы, и вместо «тридцати» давно уже сражались миллионы, каждый десятый погибал, другие заживо зарывались в окопную грязь на Сомме и на Марне, их посылали, бессонных, в смертельные контратаки, чтоб отвоевать высоту и назавтра ее оставить, их уничтожали целыми дивизиями, безрассудные Нивели переставляли их, точно пешки на карте генерального штаба, план Шлифена против плана XVII, поединок двух баранов. Правила ведения войны, любезные сердцу Фонтенуа, наймиту последних кондотьеров, породили в этой сваре землеустроителей эстетику норы, а что до результатов, то они сравнимы только с бойней. Платить по счетам становилось все дороже. Злосчастный химик предложил выгодное дельце: килограмм взрывчатого вещества стоит 2,40 марки, килограмм хлора – 18 пфеннигов, а убойная сила больше. Экономия налицо, и, если зажмуриться, победу можно одержать за гроши.
А потом Жозеф увидел, как над долиной Ипра поднялась оливковая заря. Бог в то утро был не с ними. На стороне противника был и ветер, толкавший зеленоватое облако в расположение французов, оно ползло, прижимаясь к земле, забиваясь в малейшие щели, втягиваясь в воронки, с легкостью преодолевая бугры и ряды колючей проволоки, оно надвигалось вертикальной волной, подобной той, что в Красном море поглотила колесницы фараона.
Офицер приказал открыть огонь. Он вообразил, что это дымовая завеса, скрывающая мощную атаку. Солдаты расстреливали ветер – такого еще никто не видывал. От стрельбы страх немного развеялся, но клокочущая стена дыма неумолимо продолжала наступать. Она подошла к ним вплотную, наивные люди в ужасе заслоняли лица руками, недоумевая, что еще изобрели им на погибель. Газ начал затекать в траншею.
Отныне Земля уже не была тем восхитительно голубым шаром, каким она виделась из глубины Вселенной. Над Ипром зияло жуткое зеленовато-бурое пятно. Разумеется, метановую зарю первых дней мироздания гостеприимной не назовешь, и чарующая, на зависть другим планетам, голубизна – результат преломления солнечных лучей, – как и наша жизнь, не вечна. По милости природы и людской немилости она окрашивалась то в пурпур, то в шафран, но этот фисташковый след вдоль Изера был, несомненно, порождением зла. Пропитанный хлором туман уже ползет по ходам сообщения, просачивается в укрытия (состоящие из обыкновенных досок, положенных поперек траншеи), заполняет любые проемы, проникает между перегородок казематов и в защищенные от снарядов подземные убежища, пропитывает запасы еды и воды, беспощадно завоевывая пространство, и всякая попытка глотнуть свежего воздуха, не только бессмысленная, но и безумная, усугубляет страдание. Сначала, рефлекторным движением, прячешь нос под гимнастерку, но запаса кислорода там не больше чем на три вздоха. Приходится поднимать голову и теперь уже полной грудью вдыхать смертоносную смесь. Вслушаемся же в рассказы очевидцев, ставших в двадцать лет стариками, прошедших дорогой ада: нестерпимо жжет глаза, нос, горло, удушающая боль в груди, резкий кашель, раздирающий плевру и бронхи, кровавая пена на губах, рвота, выворачивающая наизнанку, кто-то корчится на земле – скоро их приберет смерть, их уже топчут те, кто повыносливей, кто, ухватившись за край траншеи, силится вылезти наверх, выбраться из кишащих человеческих тел, но ноги путаются в телефонных проводах, закрепленных по стенкам, с которых осыпается земля, обнажая трупы, кое-как закопанные по осени в бруствер; кто выкарабкался, пытается пробраться сквозь зеленое облако по хляби, но вот оступается, нога увязает в глине – пока вытаскивает, напитывается газа, падает, сотрясаемый рвотой, ледяная грязь сковывает по рукам и ногам, тело содрогается от хрипов; тех, кто все-таки преодолел газовую завесу и вдохнул – о чудо – свежий чистый воздух, война настигает старыми средствами – бомбами. Редким счастливчикам удается выбраться с передовой. Среди них Жозеф – неизвестно, вышел ли он сам или подполз достаточно близко, а до укрытия его дотащил безвестный альтруист, – однако состояние его внушает серьезные опасения, поражения очень глубоки, грозит ампутация легкого. Его отправляют в Тур – плохой признак. От Тура и до дома недалеко, война для него окончена. Некоторые ему даже завидуют, и у него хватает мужества с ними соглашаться. Кто не познал его мук, готовы и легкое отдать за женскую заботу и ласку.








