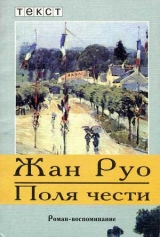
Текст книги "Поля чести"
Автор книги: Жан Руо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Именно в память о прошлом бабушка непременно пожелала сохранить две-три никчемные вещицы, и прежде всего громоздкий и маловместительный столик для рукоделия, тогда как на это место с куда большей пользой можно было бы поставить красивый рыжего оттенка книжный шкаф с овальными стеклами. Но для нее рабочий столик – это воспоминание о матери, бабке и других труженицах в семье: словом, мемориальная плита. Все прочее она раздала с видом полного безразличия, на какое в данных обстоятельствах оказался не способен даже ее супруг. Время от времени он одаривал нас хмурыми взглядами, причем молчание его отличалось от обычного тем, что он нарочито не желал говорить. Нельзя сказать, чтобы он был чрезмерно привязан к земным благам. Доказательством тому его затворничество в келье монастыря в Ля-Мельре и общение с траппистами. Правда, он был требователен к одежде, но это профессиональное: глаз портного мгновенно различал недочеты кроя, оценивал правильность брючной складки, мягкость и легкость ткани, качество подкладки, ведь даже Франциск Ассизский – а проповедник бедности в данном случае вне подозрений – пожелал как сын суконщика быть захороненным в саване из серого сукна. Деда более всего удручала необходимость присутствовать при раздаче. Между тем дочери-наследницы прямо-таки состязались в великодушии и уступчивости. Недовольство, зависть, разочарование если и зарождались, то подавлялись на корню. Прежде чем взять какую-нибудь вещь, каждая предлагала ее другим. И если одна из сестер робко высказывала желание получить ту или иную безделицу, другие наперебой заверяли ее, что им она ни к чему. Затаенные с того дня мелкие обиды стали прорываться позднее, когда, придя в гости, одна замечала у другой вожделенный некогда предмет: «А мамина лампа неплохо смотрится у тебя на комоде».
Малолитражка – это же ни дать ни взять черепная коробка примата: лобовое стекло у нее вместо глазных впадин, радиатор – носовое отверстие, козырьки от солнца – надбровные дуги, впереди – выдающаяся челюсть мотора, на крыше – легкая теменная выпуклость, – словом, все при ней, включая мозжечковый выступ багажника. В такие глубины мысли дед погружался в гордом одиночестве и бабушку не допускал. Она же чувствовала себя уязвленной до такой степени, что предпочитала ходить пешком, по крайней мере на короткие расстояния. Ходок из нее, впрочем, получался никудышный: сказывались последствия трудных родов, из-за которых и появилась у нее эта раскачивающаяся походка. Сядь дедушка за руль какого-нибудь другого автомобиля, она безропотно устроилась бы рядом. Ей любая машина была по душе, только не дедова малолитражка. Ушибочка, по ее мнению, не годилась для морского климата. Ну к чему вам съемная брезентовая крыша, если погоды нет и нет? А тут еще ветер – оглушительный, порывистый, изнуряющий. Всякая попытка в редкий солнечный день отстегнуть крышу разбивалась о ржавые, разъеденные солью и оттого заклинившие замки и одеревеневший, хрустящий и ни в какую не желавший скручиваться брезент. Вдобавок никогда не было уверенности, что через десять километров его не придется спешно натягивать обратно. Бабушка твердо стояла на своем: такому лжекабриолетишке нечего делать севернее сорок пятой параллели. Хотите пересечь пустыню или, как иные отважные юнцы, взобраться на Ахаггар – пожалуйста. Но Нижняя Луара – это особая статья.
Главное нарекание – неприспособленность Ушибочки к дождю. Когда заливало, третьим источником проникновения воды, после крыши и дверей, становилась вентиляционная система, примитивная донельзя, представляющая собой частую решетку шириной в три пальца под ветровым стеклом, прикрытую щитком, который только частично обеспечивал непроницаемость, особенно если учесть, что резиновые прокладки давным-давно истерлись. Ветер, свистящий в решетке, даже в сухую погоду раздражал бабушку. А если оттуда еще и лилось – как тут сохранять спокойствие? Когда до бабушки долетали первые капли, она начинала выразительно вздыхать (дескать, она же говорила) и ерзать на сиденье, якобы увертываясь от брызг и не желая никому докучать своими неприятностями. Чуть погодя, однако, видя дедову бесстрастность, она принималась затыкать брешь старыми тряпками, валявшимися в ящике для перчаток (то есть на полочке под панелью управления). Она подцепляла их кончиками пальцев, сетуя на грязь (тряпками этими дед вытирал и стержень для измерения уровня масла, и лобовое стекло, и даже – уголком почище – надраивал носки ботинок), скручивала жгутиком и придавливала к стеклу. Но они падали от первой же встряски. После нескольких «чтоб его» она начинала все сначала, время от времени выжимая тряпки, – и так всю дорогу. Дед же хранил полнейшую невозмутимость.
Поскольку ездил он медленно, работавшие от мотора стеклоочистители двигались со скоростью улитки, перемещаясь короткими миллиметровыми рывочками, а то и вовсе заедали, останавливались, и для того чтобы они продолжили свой неторопливый возвратно-поступательный ход по дуге, надо было стукнуть кулаком по стеклу. Всю дорогу дворники грязью рисовали веера, так что эффект достигался прямо противоположный ожидаемому. Раздосадованная тем, что никто, кроме нее, не понимает, какой опасности они подвергаются, бабушка начинала беспокойно водить рукой по стеклу, описывая круги с центром на уровне своих глаз: круги эти постепенно расширялись и по мере расширения сплющивались, внедряясь на водительскую половину – самую малость, только чтоб показать ему разницу, потому что на вытертой части, в отличие от запотевшей, отчетливо проступала грязь, залепившая стекло снаружи, и становилось очевидно, что сквозь него ничего не видно. Виной всему были дворники, а потому бабушка хваталась за ручку, которой они управлялись изнутри салона, и принималась тормошить ее и крутить в разные стороны, отчего щетки резко меняли темп и шаркали теперь с ненатуральной поспешностью, прямо как в немом кино: представьте себе двух флегматичных работников, двух сонных мойщиков посуды перед неубывающей грудой тарелок, которые вдруг, завидя грозного хозяина, начинают двигаться с неправдоподобной быстротой. Но и результат получался соответствующий: раскатанное двумя полукругами студенистое месиво исключало теперь уже всякую видимость. Бабушка в сердцах приподнимала створку бокового окна, которая тут же опускалась и хлопала ее по локтю, вооружалась тряпкой и, высунув руку наружу, расчищала пятачок. Бегущая навстречу дорога, деревья по обочинам, мутные капли на мокром асфальте представляли собой поразительное открытие: оказывается, замкнутый мирок малолитражки был лишь частью большого многоярусного мира. Длины бабушкиной руки не хватало, чтобы очистить все лобовое стекло, зато теперь, глядя в самодельный иллюминатор, она позволяла себе требовать от водителя, чтобы он держался правее, и кричать «Осторожно!» при появлении на встречной полосе громадного грузовика, от одного дыхания которого их утлый челн давал крен.
Деда нисколько не беспокоило, что он едет вслепую. Он сидел, сгорбившись, так что прохожим была видна только его шляпа, положив руки на нижнюю часть баранки, зажав в уголке рта тлеющую сигарету. Под действием никотина верхний краешек его вздернутой брови пожелтел. Это дерзкое пепельно-желтое пятнышко посреди неудержимо наступающей седины казалось последней искоркой юности, в нем чудился стратегический тайничок жизни. Оно контрастировало с незапятнанной белизной другой брови: подобная асимметрия создавала впечатление, будто на старческом лице проступают следы одностороннего паралича; впечатление усиливалось неподвижностью сощуренного от едкого дыма правого глаза, которым он только изредка мигал, по-чаплински подергивая усами. Дед казался отрешенным, далеким, можно было даже заподозрить, что он дремлет: такое и в самом деле случалось и уже несколько раз приводило к неприятным последствиям, вроде застрявшего в канаве колеса или сорванного крыла. Его взгляд, скользнув по верхней дуге руля, переходил к созерцанию воображаемой голубой линии, отделенной от реальности километрами мыслей, где нам, надо полагать, отводилось не много места. То был его потаенный сад, как говаривала бабушка, признавая, таким образом, что не отваживается в него ступить из страха заблудиться.
Его единственным собеседником был привратник аббатства в Ля-Мельре, невысокого роста монах, улыбчивый и до того разговорчивый, что, надо думать, нипочем не променял бы своего поста на обет молчания, который давали другие братья (если, конечно, настоятель не прикажет). В дни большого стечения народа, скажем на Пасху, он переходил от одной группы прихожан к другой, встречал прибывших с распростертыми объятиями, жал руки, в знак признательности находил теплые слова для каждого, малышей поглаживал по головке и прижимал, правда излишне крепко, к сутане, отталкивающе пахнувшей плесенью, детей постарше расспрашивал об учебе и, если родители жаловались на неблестящие успехи по латыни, отвечал, что, значит, ребенок не по этой части и что мало проку корпеть над мертвым языком, который и понимают-то лишь несколько старых чудаков, вроде него самого: заручившись таким образом недорого стоящим расположением скверных учеников, он молитвенно воздевал руки к небу, испрашивая прощения за то, что считал чуть ли не святотатством. Этот добровольный затворник корил себя за любовь.
Чтобы отделаться от его болтовни, приходилось напоминать ему о быстротечности времени. Но как бы ни был он увлечен беседой, едва заслышав тарахтение Ушибочки, которое различал среди сотен других, сворачивал разговор и спешил к воротам приветствовать славного месье Бюрго. Дедушка навещал его раз или два в неделю. Он привозил из аббатства сочный сыр с жирной оранжеватой корочкой и соломенно-желтой, будто истыканной булавками, нежной и плотной мякотью, со вкусом, позабытым давно и, надо думать, окончательно, поскольку его просто не с чем сравнить, и безвозвратно унесшим с собой тысячи сладостных ассоциаций.
Вдвоем они гуляли в части парка, отведенной для посетителей-мужчин (женщины допускались только в привратницкую, где могли любоваться тем, что производила община). Издали было слышно, как хрустит гравий у них под ногами. Они шли неторопливо, останавливались вдруг на каком-нибудь особенно остром месте дискуссии, затем брели дальше: маленький хрупкий силуэт монаха в сутане цвета жженого сахара и казавшийся чуть ли не одного с ним роста дед, наклонявший корпус вперед, а руки для противовеса сцеплявший за спиной. Разговаривали они тихо, преисполненные к высоким вековым деревьям не меньшего почтения, чем к белому своду цистерцианской часовни с колоннами розового мрамора. Монах сопровождал речь взмахами широкого рукава там, где другой бы повысил голос. На середине пути, если погода позволяла, они обычно присаживались на край бассейна и молча глядели на неподвижную воду. Такого рода приобщение вечности, видимо, не слишком вдохновляло привратника: возможности помолчать у него будет сколько угодно, когда истечет время посещений, и по тому, как он раскидывал носком сандалии гравий, чувствовалось, что ему не терпится продолжить беседу.
Узнав о смерти деда, он разрыдался, как обиженный ребенок: внезапно и безутешно, потом вдруг разом взял себя в руки. Утер широким рукавом слезы и попросил его извинить: «Поймите, я потерял лучшего друга». Выслушав подобающие слова утешения и сделав над собой легкое усилие, он снова обрел неизменную улыбку – внешний признак блаженства, убеждавший мирян в том, что, несмотря на строгость монастырских нравов, живущие здесь счастливее других. Возможно ли это без женщин? «Только так и возможно, – непременно вставляли мужья, – они сами не понимают, как им повезло». – «Хм! Скатертью дорожка!» – язвили жены. Каждый в итоге произносил то, чего от него ждали, и спор заканчивался.
Брат Евстафий уже несколько дней удивлялся, отчего это дед не приходит. Его отсутствие не в летнее время нарушало заведенный обычай и ничего хорошего не предвещало. В последний раз такое, помнится, случилось, когда месье и мадам Бюрго уехали к младшей дочери после смерти ее мужа – в сорок лет, если память не изменяет! Трое детей осталось. С той горькой даты и полгода не прошло. Господь посылает иной раз чудовищные испытания, неисповедимы пути его любви. Месье Бюрго тогда на глазах постарел. Осунулся, замкнулся, даже разговоры в монастырской аллее стали увлекать его меньше, он отвечал невпопад, а то и вовсе рассеянно молчал. Смерть близкого совсем еще молодого человека не давала ему покоя, он то и дело мыслями возвращался к ней. Словно бы он с опозданием обнаружил, что тайна жизни питается из мрачного источника смерти. Он много думал «обо всем этом» – и широким до неба жестом маленький монах охватывал часовню, деревья, облака, бассейн.
Слово за слово, он стал пересказывать их бесконечные беседы и машинально пошел по привычной дорожке, увлекая молчаливых слушателей за собой. О чем они говорили? Да обо всем, о музыке, разумеется, но не только, собственно, даже очень мало о музыке. Сам он слабо разбирался во всем, что не касалось григорианского пения, и если в отношении Баха они еще сходились, то насчет Вагнера их мнения не совпадали: монах находил его убийственно скучным, не говоря уже о либретто, пустых и напыщенных. В сущности, они, если только это слово применимо к дилетантам, философствовали. Месье Бюрго обладал умом пытливым и открытым, может, правда, слишком уж рациональным, однако сдержанность компенсировалась у него исключительным вниманием к собеседнику. Бедствия мира сего были излюбленным полем их словесных баталий. Установив диагноз, они принимались изобретать рецепты искоренения зла. Так, они – теперь он мог открыть нам эту тайну – сочинили, потом многократно переписали и, наконец, отправили президенту страны письмо об учреждении, как они выразились, «автомобилей вспомоществования» (термин, заимствованный, возможно, из велогонок «Тур де Франс», наверняка исходил не от деда, даже и не подозревавшего о существовании спортивных состязаний). Проект предполагал, что специальные грузовички будут разъезжать по провинции, подбирать бездомных, оказывать помощь неимущим.
Тайна, которую доверил нам привратник, ожидаемого эффекта не произвела. Мы знали, что дед уже некоторое время переписывался с высшими чинами в государстве: утрата пиетета к мирской славе воспринималась нами как несомненный признак старения. Чудак, говорили мы и покручивали пальцем у виска. Из канцелярии Елисейского дворца ему ответили, что письмо его передано в соответствующие инстанции.
Разумеется, дед и втянул его, брата Евстафия, в эту историю. Теперь он задним числом краснел от подобной дерзости. Ох уж этот Бюрго. Маленький монах качал головой и расплывался в улыбке, подняв глаза к небу. Горя как не бывало. Он видел деда в сонме ангелов. В продолжение всего монолога монах постепенно отделял деда от семьи и присваивал его себе. Вспоминая что-то, он бросал нам: «Как, вы не слышали?» или «Месье Бюрго вам разве не говорил?» – и начинал все уверенней чувствовать себя в роли задушевного друга, избранника сердца, противостоящего окружению, которое не выбирают. В результате получалось, что мы попросту не знали деда и только он разглядел в нем великого человека, а потому ему по праву принадлежит монополия на память о месье Бюрго. В определенном смысле монашек был прав. Дед нашел в нем внимательного слушателя, чутко откликавшегося на его сокровенные мысли. Посещения аббатства действовали на него благотворно. Мы давно знали, что его молчание полнится гулом лихорадочных мыслей. Наслаждаться ими выпало брату Евстафию, утехе последних старческих лет. Да благословит его Господь! И в общем-то справедливо было оставить ему это наследство.
Но тогда получалось, что ему – пшеница, а нам – плевелы. Чуждый искушений мира сего, брат Евстафий видел жизнь только с одной стороны. На заповедную территорию аббатства проникали лишь самые чистые признания, самые благородные мысли, высочайшие мистические порывы. Сюда, в этот земной слепок небесного Иерусалима, дед входил очищенным. Все человеческое он оставлял на пороге, а Божье вносил в обитель. Между прочим, насчет человеческого мы знали, понятно, больше, нежели монах, и образ святого Бюрго готовы были подретушировать на свой лад: вот он прячет конфеты, чтоб не пришлось делиться с внуками, или выделяет нам на новогодний подарок уж такую мизерную сумму, что бабушка вынуждена ее тайком удесятерять. Надо полагать, он не распространялся в монастыре о том, какое колено выкинул прошлым летом.
С выходом на пенсию они с бабушкой каждое лето отправлялись отдыхать на юг к дочери Люси. После первого изнурительного путешествия на машине, сплошь состоявшего из поломок и ночевок в отвратительных отелях, бабушка раз и навсегда постановила, что ездить поездом быстрее и надежнее. Она была сыта по горло язвительными замечаниями других автомобилистов касательно скорости малолитражки и пожеланиями им с дедом поскорей оказаться в богадельне или на кладбище. Они и правда были уже не молоды и лишний раз убеждались в этом, когда высаживались из поезда и вытаскивали на перрон четыре тяжелых чемодана: дедушка вытирает вспотевший под панамой лоб, бабушка обмахивается сложенной вкривь и вкось газеткой, оба разбитые, с тонкими черными прожилками на лицах от копоти, насылаемой клубами паровозного дыма, – и, пока англичанин Джон, супруг Люси, взваливает чемоданы на тележку, они меленьким старческим шажком направляются в сторону маячащего за порогом вокзала безоблачного голубого неба, обсуждая на ходу, не лучше ли все-таки ездить через Лион, несмотря на пересадку и трехчасовое ожидание, нежели через Бордо без пересадок, зато с бесчисленными остановками. Бабушка, впрочем, особой разницы не видит и не понимает, почему до сих пор не взорвали Центральный массив и не проложили дорогу напрямик. В следующий раз она непременно возьмет с собой карманный пульверизатор, чтоб опрыскивать в дороге лицо и не ощущать себя в вагоне для скота – иначе не назовешь. Запах пищи (яйца вкрутую, которые чистят у тебя под носом – бр!), смешанный с запахом пота. И нечего все валить на жару. Далее следует рассуждение об общем недостатке гигиены: от некоторых (поясняется, от кого именно) попахивает уже с утра, пятна под мышками, как известно, за один час не появляются. Но самое прискорбное – это бесцеремонность. В начале пути все ведут себя так, будто сейчас из замка (это эталон, подразумевается замок в Риансе, принадлежащий одному из древнейших родов Франции): подчеркнутая элегантность, нога на ногу, ладонью рот прикрывают при намеке на покашливание, рассыпаются в извинениях, когда нужно положить чемодан в багажную сетку, а потом, через энное количество километров, распускаются, сидят развалившись, наступают друг на друга, да еще тебя вежливости учат, словом, вместо версальского парка – джунгли. Она давно уже дала зарок, что никогда не опустится до такого состояния, когда ноги расставлены или рот открыт, – и твердо на том стоит. И ну энергичнее обмахиваться газеткой, чтоб побыстрей растворить осадок кошмарной ночи в ласковом воздухе Прованса.
Мистер Джон, как называют его в поместье рабочие-арабы, плавно катит по нижним виткам дороги через Моры, стекла опущены, локоть на окне. Он чувствует, как пряный дух холмов – этой чудесной кухни под открытым небом – возвращает старикам силы, растраченные в дорожных передрягах. Насыщенный, дурманящий аромат, в котором с близкого расстояния различаешь шалфей, тимьян, майоран, розмарин, базилик, мяту, скипидарный запах хвойных, терпкий – самшита, горько-сладкий – смоковницы; оголенные стволы пробкового дуба, извивающиеся – оливковых деревьев, серебристый отсвет листьев каменного дуба, лакированный – лавра, охряная земля, черные сланцы, зелень сосен на фоне иссиня-голубого неба, назойливое пение цикад, заполняющее паузы в разговоре.
Серпантин дороги ныряет в прохладную тень северного склона, где вольготно букам и дубам, а затем, на излете виража, опаляется умопомрачительным южным солнцем. Пожилые супруги млеют, чуть покачиваясь на поворотах, и благодарно устремляют взгляды к вершинам.
Бабушка сидит впереди, рядом с водителем. Иметь зятя-англичанина – это как-никак оригинально. Правда, дочери она сразу же сказала: «Я буду звать его Жанно». Она побоялась, что, дурно произнося иностранное имя, будет выглядеть смешной, и, по своему обыкновению, предпочла решить вопрос радикально. Жанно-Джон, возможно, за это ее и любит – за слабину самолюбия в железной французской леди. Оно-то и разглаживает морщины на ее впалых щеках. Рассказ о своих злоключениях она завершает на комической ноте, копируя гадкий непристойный жест, каким женщины проветривают исподнее. Она подцепляет юбку двумя пальцами, приподнимает и колышет ее, будто пыль стряхивает. Все смеются. Теперь, на фоне воцарившегося веселья, можно и повторить. И она исполняет номер на бис. От тягостных дорожных впечатлений не остается и следа, когда на дальнем конце вымощенной щебнем аллеи, у входа в которую вытянулись в струнку два кипариса, проглядывает розовая штукатурка дома. В тени огромной акации деда уже поджидает плетеное кресло. В нем он проведет лето.
Он усаживался в кресло ранним утром после короткой прогулки по холмам среди тончайших ароматов, в нежном свете зари и благословенной тишине, предшествующей гулкому стрекоту цикад: всего-то, казалось бы, кружок возле дома, а в действительности – научная экспедиция, в ходе которой всякий замеченный побег и всякая бабочка получали название, если только удавалось их отыскать на иллюстрациях к большой энциклопедии Ларусса. Не то чтоб он увлекался ботаникой – в его собственном саду царил полнейший хаос, – нет, это была уловка, при помощи которой он прокладывал путь к сердцу внуков. Гуляя с ребенком за руку, дед тыкал тросточкой в какое-нибудь растение и коротко объявлял: «Чабер», а затем снова погружался в мечтательное молчание. Он полагал, что ролью натуралиста, передающего знания детям, его миссия воспитателя исчерпывается. Бесполезно было требовать от него большего, в особенности занятий по сольфеджио и обучения малышей азам игры на фортепьяно, как того хотелось Люси. На все ее просьбы он делал тугое ухо. Наш Бетховен был глух к маленьким Моцартам.
Возвратившись с прогулки в белой летней рубашке с короткими рукавами и полотняных брюках, он садится в свое кресло: читает газету, начинает кроссворд, который Люси закончит в постели перед сном, гибкой бамбуковой тросточкой из коллекции зятя чертит на песке размашистые дуги, выстраивает пирамидки из опавших листьев и преграждает путь колонне муравьев – так проходит утро. По мере того как дневной свет становится все ярче, панама все ниже сползает на глаза, он смотрит прямо перед собой и время от времени приподнимает ее, отвечая на приветствия. Никто не проходит мимо по дороге к виноградникам и дубовой роще, не выказав ему своего почтения. Он похож на бесстрастного китайца, неподвижно сидящего под деревом, что воспринимается как признак великой мудрости теми, кто проводит день в суете. Кажется, все хозяйство вертится вокруг деда. Рабочему, у которого сломался трактор, он указывает, куда пошел мистер Джон. Если Джон в доме, берет на себя роль глашатая и кричит: «Жанно, вас тут спрашивают насчет трактора». Дымок, поднимающийся от сигареты, упирается в поля шляпы, застывает на мгновение и, перед тем как растаять, осеняет его голову нимбом. Цилиндрик пепла падает на полотняные брюки, прерывая его мечтательное созерцание. Дед аккуратно перекатывает его на картонную обложку записной книжки, которую носит в нагрудном кармане рубашки (среди прочего он помечает там и результаты своих ботанических изысканий), и в целости и сохранности скидывает в пепельницу, стоящую возле него на чурбачке. Полагая, что дедово ничегонеделание не заслуживает оказываемых ему почестей, бабушка приносит корзину лущильной фасоли, чтоб, дескать, был от него хоть какой-нибудь прок. Занимайся она вязанием, она бы заставляла его вытягивать руки и наматывала бы на них нитки. Заметим, тут он проявляет удивительную покорность, лишь бы только его не принуждали подниматься с кресла, он даже безропотно сносит нарекания дочери, когда ему случается в забывчивости швырнуть незатушенный бычок в пожелтевшую траву: Люси прыжком настигает злополучную сигарету и затаптывает ее – ни дать ни взять Георгий Победоносец, поражающий змея, – показывая деду, будто он ни разу не видел, обугленные основания стволов на косогоре – леденящее душу свидетельство драмы, разыгравшейся прошлым летом, когда гудящая стена пламени была остановлена менее чем в двухстах метрах от дома, вспоминая ту ночь, полыхающую заревом костров, точно на холме стала лагерем целая армия, скорбный треск деревьев, запах жареного хлеба поутру и опустошенный склон – а причиной всему, возможно, был брошенный окурок. И дед кается так, словно бы он запалил костер, на котором погибла Жанна д’Арк.
Торжествующее лицо бабушки: она же предупреждала, что он всех нас сожжет своими сигаретами, – и побежала дальше догонять крошку Люка, младшего сына Люси, который непременно желает разгуливать по территории нагишом и с воплем убегает всякий раз, когда его заставляют надевать голубенькие плавки, те, что сейчас у бабушки в руках. Если она его не поймает, скоро они пробегут в обратном направлении и в том же порядке: бабушка позади, впереди – орущий Люк, загорелый с головы до пят, со слишком коротеньким, чтобы болтаться, и оттого торчащим, как шип, члеником. Поддавшись было искушению найти убежище возле деда, он в последнюю минуту сворачивает в сторону от акации, вспомнив, что терпеть не может названий бабочек и цветов и нелюбознательностью своей заслужил, так сказать, немилость. Дедушка и в самом деле отказывается принять чью-либо сторону в драме, которую ребенок, судя по воплям, воспринимает как величайшую в мире несправедливость. Дед хранит безучастие, достойное восточных мудрецов: известно ведь, что дзэн-будцистские монахи сворачивали головы котятам, дабы убедить последователей в бренности всего земного (а каково это котятам?).
Дедушка покидает вахту на время обеда и дневного отдыха в самое послеполуденное пекло, когда изнуренный воздух вибрирует, как под дулом огнемета. Он возвратится в кресло к чайной церемонии: уступая британским нравам, бабушка отказывается здесь от обычного кофе с молоком, словно бы расплачиваясь за навязанное зятю офранцуженное имя. Позднее, с наступлением вечерней прохлады, перед ним на тщательно выметенной площадке разыгрываются бесконечные партии игры в шары – «були». Если возникают споры, у него церемонно одалживают трость, чтобы измерить расстояние от шара до шара, тем самым привлекая его на роль арбитра, само присутствие которого побуждает к здравомыслию. Только с наступлением ночи тучи комаров выгоняют нашего мудрого и справедливого, как Людовик Святой, деда из-под дерева.
И вдруг однажды утром кресло осталось пустым.
По мере того как разгорался день, ноги сами то и дело приводили бабушку к акации. Вставших спозаранок поначалу позабавило небывалое нарушение ритуала. Бабушка же робко выказывала беспокойство: «Альфонс не возвращался с прогулки?» или «Вы не видели моего мужа?» Она попыталась расспросить даже маленького Люка – свидетеля всего на свете, – бегавшего в облачении убежденного натуриста, но он заподозрил подвох и припустил со всех ног. Бабушка потрусила за ним, растолковывая ему на ходу, что он ее неправильно понял: «Я только хочу спросить, где дедушка», но он – пуганый вороненок – ничего не желал слушать: если не с трусами, так с занятиями пристанут. Она расспрашивала одних, других, третьих – все напрасно: к полудню поместье было поднято по тревоге.
Джон безрезультатно прошел утренним дедушкиным маршрутом, пролегавшим среди пробковых дубов по низу холма за домом, затем вдоль заросшего тростником пересохшего ручья, потом через виноградники и полупустыню на юге, где старик черпал значительную часть своих ботанических познаний. Бабушке виделись страшные картины. Она воображала, что деду стало плохо и он лежит без сознания в стороне от тропы, с которой свернул в поисках проклятых травок – дались они ему, ведь он петрушки от морковной ботвы не отличит, – что его укусила змея и нет сил позвать на помощь, а нога уже почернела или что его ужалила эта чудовищная с палец размером смертоносная пчела, которая здесь зовется «бомбой», или еще диабет, к которому никто не относился всерьез и все лечение которого состояло в том, чтобы класть в утренний кофе заменяющие сахар таблетки и в течение дня есть конфеты кульками, конечно же, диабет внезапно обострился от жары, уровень сахара в крови и моче повысился – и вот уже и дедушка лежит среди душистых трав, обратив взор к зияющей бездне головокружительно синего неба, прокручивая в памяти киноленту своей жизни – в предсмертный миг он держит под руку ту, что в двенадцатом году была его невестой, и бормочет названия растений: ладанник, мирт, чертополох – под рыдания скрипок и цикад.
Мобилизованы были все рабочие поместья, в большинстве своем бывшие военнослужащие из Северной Африки, они взялись за дело с душой, ведь у каждого еще были на слуху приветливые слова месье Бюрго. Бабушка просила прочесывать кусты, обследовать водоемы и нехоженые тропы, смотреть внимательней и, если вдруг обнаружится, что Альфонс лежит укушенный змеей, ни в коем случае не заставлять его идти: усиление кровообращения может привести к роковому исходу. Нет, в таком случае необходима сыворотка, надо звать на помощь, пусть каждый возьмет с собой свисток, трубу, барабан, пусть голосит, как муэдзин, или аукается дровосеком – так можно выиграть несколько драгоценных секунд. Она разделила территорию поисков на четыре участка, распределила людей по четырем группам. Руководя операцией, бабушка время от времени обращалась к Джону за советом – зять все ее действия одобрял. Спасателям надлежало растянуться цепочкой и продвигаться широким фронтом по методу облавы. Среди них были охотники на кабанов, здешние гуроны, они уверяли, что знают каждую пядь в округе, и хвастали перед бабушкой: «Не беспокойтесь, мадам Бюрго, найдем мы вашего мужа».
Но не нашли. В три часа возвратилась ни с чем последняя группа. Тогда вызвали пожарных: обращаться к ним в разгар лета, когда у них самая работа, было неловко, но, учитывая, что ветер стих и все последние дни ситуация опасности не представляла, все-таки решились.








