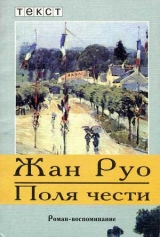
Текст книги "Поля чести"
Автор книги: Жан Руо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
От частого снования туда-сюда по делам в голове у нее нередко все смещалось. Она уходила за маслом, а возвращалась от кюре, ахала, что сбилась с ног, хлопала себя по лбу, словно трагическая героиня: «Да как же это я забыла масло!» – и убегала, вобрав голову в плечи, эдакой маленькой мышкой семенила по поселку, где всякий встречал ее добрым словом. До того дошло, что однажды, заявив во всеуслышание, что идет петь тропарь, она устремилась в туалет. Тут уж мы отвели душу и еще долгие годы называли посещение отхожего места пением тропаря. Непосвященные, понятно, очень удивлялись неожиданным приступам религиозного рвения, завершавшимся спуском воды на втором этаже. Между тем становилось ясно, что скоро она совсем потеряет голову. Удар, обрушившийся на нее двадцать шестого декабря, лишь усугубил болезнь и ускорил развязку.
Пять дней от смерти папы до Нового года она прожила в состоянии транса, чередующегося с минутами совершенной подавленности. Она сидела на стуле в полной прострации, уронив голову на грудь (как ее Иисус), сгорбившись, скрестив руки на черной бесформенной юбке, едва касаясь ногами пола, с отсутствующим видом, словно бы от осознания происшедшего у нее внезапно что-то нарушилось в мозгу. Как она ни напрягалась, разум ее отказывался постичь то, что и в самом деле непостижимо. Она впадала в коллапс, отключалась от жизни. Потом вдруг что-то срабатывало в ней, и она принималась суетиться с удвоенной энергией. Она говорила, что следит за всем, договаривается с кюре о похоронах, текстах молитв, музыке и цветах, с Жюльеном о кладбище. Говорила, что все берет на себя: мы можем спокойно сидеть и плакать. Ходила взад и вперед, как автомат, потом пружина лопалась, и она снова опускалась на стул с бессмысленным лицом, с глазами, красными от слез и бессонных ночей, в течение которых она обращалась к Господу и предлагала ему самую старую в мире сделку: поменять местами ее и племянника. Ей казалось, что произошло недоразумение и удар пришелся не по цели, что он предназначался ей, а значит, надо послать за ней, исправить промах: признать ошибку не зазорно. То же самое она повторяла и нам, но тело, лежавшее в комнате на втором этаже, где мама провела шестьдесят часов неотлучно, так и осталось окоченелым, а под конец даже начало издавать подозрительный запах, который сперва отнесли на счет перемены погоды. Разворачиваясь к западу, наши ветры прихватывают с собой выбросы химических предприятий, расположенных на Луаре чуть выше Сен-Назера: всякого рода попутные газы, аммиак, серу, S0 2– изукрашивающие небо зеленоватыми и янтарными прожилками, которые нередко принимают за предвестие дождя. Да только окно в комнате было плотно закрыто и законопачено, и зимнего воздуха внутрь не пропускало. Кроме того, не составляло труда удостовериться, что воздух за окном сохранял кристальную чистоту. Нет, это улетучивалась жизнь.
Тетушка, в перерыве между беготней, поднималась наверх посмотреть, как совершается ее сделка и не ждет ли папа, сидя на постели, когда она придет его сменить. Впрочем, она уже не обольщалась. Что-то сломалось в ней. Всю жизнь она торговалась со святыми и знала их человеческие слабости: они падки на комплименты и знаки уважения и с ними можно договориться. Она умела найти к ним подход и получала от них все, что хотела. Но на этот раз приказ пришел с самого верха: тут уж не подступишься и не подкупишь. Она бесшумно подходила к стоявшему у постели стулу, осторожно присаживалась на краешек и начинала молиться, перебирая четки: комната заполнялась однообразным, брызгающим слюной шепотом, действующим на нервы маме, которая едва сдерживалась, чтобы не выставить тетушку из комнаты, тем более что толку от ее молитв никакого; мама поднимала страдальческий взгляд, умоляя, как о высшей милости, чтоб ее оставили возле мужа в покое – в последний раз; она изнемогала, но, несмотря на все просьбы, отказывалась прилечь: ей хотелось побыть с ним еще и еще, особенно теперь, когда, вслед за распространившимся запахом, назойливое бубнение отчетливо говорило, что близится положение во гроб, а затем и та минута, когда закроется крышка и он исчезнет навсегда.
Первым забеспокоился Реми. Наблюдая за улицей сквозь занавеску, он дождался появления Бидо и окликнул его, когда тот входил в церковь. Кюре тетушки не видел. «Старый осел Бидо», по словам Реми, ничего странного в том не нашел, а, между прочим, «она целыми днями путалась у него в подоле». Сам Реми был у нас органистом, причем единственным. Антиклерикальными высказываниями он вознаграждал себя за бесплатные услуги, которые оказывал церкви, – нешуточная, кстати сказать, нагрузка: три мессы плюс вечерня по воскресеньям, служба в семь утра ежедневно да еще разные церемонии для живых и мертвых. Свадебный марш его сочинения имел успех и пользовался спросом. Он даже слегка обижался, когда новобрачные предпочитали ему помпезного, на его взгляд, Мендельсона. Уговорить его играть сверх положенного времени не составляло труда: только чуть поуламывать, и он согласится. Он сам на себя за это сердился. Давал себе слово, что в следующий раз Бидо и иже с ним вылетят из его лавки, а кончалось всегда одинаково: «Спасибо, месье Реми, мы знали, что можем на вас рассчитывать».
Исчезновение тетушки не давало ему покоя. Ему хотелось поделиться тревогой с мамой, но куда там, никто не знал, как к ней и подступиться. С ней говорили, словно с глухонемой, обращаясь к тем, кто находился поблизости. Нас спрашивали, как мама, а мама присутствовала тут же – в двух метрах, как в далекой ссылке. Прошли годы, прежде чем она вернулась в мир живущих.
И все же Реми отважился, призвав, правда, на подмогу свою мать. Мы, как обычно, торчали на кухне – в единственном помещении, которое как следует отапливалось зимой. Там мы чего только не делали: ели, играли, ссорились, учили уроки, но чаще – сидели и не делали ничего. Когда Матильда увидела нас четверых, погруженных в свежее еще совсем горе, на лице ее отобразилось такое сострадание, что мы впервые осознали, до какой степени несчастны. Реми извинился за беспокойство, спросил, как у нас дела, ответ пропустил мимо ушей и, наконец, подошел к цели визита: видел ли кто-нибудь тетушку? Хм, действительно, она не проходила. Не кажется ли нам ее отсутствие подозрительным? Да, да, очень странно, но только никто не знал, что именно подозревать. Тетушка, она ведь всегда словно в прятки играла и кокетливо появлялась именно в ту минуту, когда ее исчезновение начинало всех беспокоить. Реми хотел все-таки разобраться, а поскольку мы не реагировали, предложил пройти к ее домику за кустами букса. Экспедиция двинулась по аллее между рядами шиповника, обвивавшего беседку мертвыми ветвями: впереди вразвалку шел Реми, за ним – Матильда и мама, обе в черном, вскоре к ним присоединился Пирр, спаниель Реми, перемахнувший через метровую изгородь между двумя участками. Реми, вероятно, чего-то опасался, поскольку велел детям держаться сзади. Подойдя к домику, он заглянул в окно, но шторы были задернуты, из чего он заключил, что тетушка в доме. Он почему-то сразу потребовал, чтобы мы возвращались домой, но, поскольку мама молчала, мы не двинулись с места, тогда он попросил нас отойти подальше. Дернули дверь: не поддалась. Оставалось только разбить стекло поблизости от шпингалета. Матильда нагнулась, подобрала камень, протянула его сыну, но Реми брезгливо поморщился с педантизмом часовщика, привыкшего выполнять только тонкую работу, и послал ее за алмазом в левом верхнем ящике его стола. Использовал ее, можно сказать, на побегушках. А камень швырнул в глубь сада. Пирр, редко понимавший, что от него требуется, со всех ног бросился за камнем и принес его назад. Но видно, время для игр он выбрал неподходящее, а потому и схлопотал оплеуху.
Когда семидесятилетняя Матильда вернулась, запыхавшись от бега, Реми не преминул заметить ей, что ее только за смертью посылать, а она ответила, что в левом верхнем ящике никакого алмаза нет, и тогда Реми принялся выяснять, кто – он сам, его мать или пес – не положил вещь на место. По ту сторону стекла тетушка лежала, натянув одеяло до самого подбородка, и с закрытыми глазами созерцала небо. «Господи, я готова, только позови. Пусть легион ангелов отнесет меня к Тебе наверх. Но что я слышу? Скрип стекла, хруст, щелчок – может, это уже Твои посланцы? С каких пор они взламывают окна, охальники эдакие, похитители душ?» Реми тихо выругался: открывая шпингалет, он порезал руку. Затем он, к нашему восхищению, открыл окно, уселся на подоконник, развернулся на пятой точке, двумя руками подтянув больную ногу и перекинув ее вовнутрь, и запутался в шторе. Когда он раздвинул занавески и луч света, скользнув в комнату, упал на кровать, Реми поначалу решил, что у него галлюцинации: приложив ухо к впалой тетушкиной груди, Матильда, подобно индейцу, выслеживала в ней признаки жизни.
«Как ты вошла?» – «Помолчи», – ответила Матильда. «Умерла?» – спросил Реми. «Через дверь», – ответила ему мать. Этот запоздалый ответ подразумевал, что тетушкино сердце еще билось. Обращенная точно на запад (закатное солнце освещало обычно одинокую и скудную вечернюю тетушкину трапезу) дверь разбухла от зимних дождей, и открывать ее надо было рывком. Видели бы вы, как тетушка, изогнувшись, дергала ее изо всех сил. Казалось, сама вот-вот хрустнет. Но с годами она приноровилась и была тем немало горда. Запираться она никогда не запиралась, разве только в грозу, когда небо разлеталось в клочья. Тут уж она не полагалась ни на молитвы, ни на заступничество Богоматери Морской и для верности поворачивала ключ в замке.
Она лежала с закрытыми глазами, в приминавшей седые волосы ночной сеточке, без привычных очков в золотой оправе и казалась непохожей на себя, почти незнакомой, словно бы ночью произошла подмена и вместо нашей тетушки, которая не могла умереть (она давно уже лишилась возраста и к тому же пользовалась таким высоким покровительством), нам подложили обыкновенную смертную со схожими чертами. Это была не та тетушка, которую мы знали: шустрая, энергичная, лукавая, говорливая. Что делать нашей Марии в мире неподвижного безмолвия, откуда взялась эта восковая бледность, когда от беготни навстречу западным ветрам ее щеки были всегда покрыты сеточкой румянца?
Вслед за хозяином в окно впрыгнул Пирр и скакнул на постель. Тетушка подскочила от толчка, и на мгновение показалось, будто она проснулась и удивляется, отчего это вокруг народ столпился, – но она рухнула, как колода, и голова безжизненно повалилась набок. Сеточка для волос сползла на глаза, Матильда ее аккуратно поправила. «Я тебе…» – прошипел Реми и поднял руку. Рыжий пес шумно бухнулся на коврик. Он явно ничего не понимал. Он только хотел, как обычно, излить на тетушку свою неуемную радость, отчего очки у нее всегда перекашивались, а сама она с опаской замирала.
Старушку срочно доставили в ближайший госпиталь. Реми винил угольную печь. Он уверял, что, когда открыл окно, сразу почувствовал подозрительное зловоние, но от тетушкиной стряпни дом ее давно пропитался диковинным ни на что не похожим духом. Как только прибыл доктор Мобрийан, его тоже попросили принюхаться. Никогда прежде никто бы не позолил себе давать ему советы, да еще такие банальные, но смерть папы поколебала миф о безошибочной точности его диагнозов. В нашем присутствии ему подобало поумерить безапелляционный тон своих вердиктов: все видели в папиной записной книжке запланированные сеансы посмертных массажей, которые доктор прописал ему от невыносимых болей в спине. Слепо доверять его суждениям мы больше не собирались. Поэтому мы всемером усердно принюхивались, силясь уловить злосчастную утечку, от которой у нас бы закружилась голова, и для верности по очереди приоткрывали печку. Никаких убедительных доказательств мы не обнаружили (тем более что угарный газ не имеет запаха). К тому же подобный уход в духе Золя – автора, запрещенного католической церковью, – никак не вязался с характером нашей тетушки.
Как только она открыла глаза, в госпитале заключили, что она выздоровела, и отправили домой.
Воскреснув из мертвых, мы облачимся в новые тела, которых будем стесняться как школьники. Мы поняли это по тетушке, по той неестественной позе, в которой она ожидала нас на втором этаже в комнате с окнами на улицу, куда мама поместила ее по возвращении из госпиталя: с талейрановским бесстрастием она держала руку на деревянной спинке кровати, не столько опираясь, сколько подбирая положение, отыскивая новое измерение, в которое бы вписались ее сгорбленная спина, худые руки, склоненная голова, она словно смущалась, что сыграла с нами злую шутку, как будто даже извиняясь за ложный уход, и глядела на нас откуда-то издалека глазами тех, кто уже преодолел границы чувственного мира. Словом, то первое впечатление, когда мы увидели ее неподвижной на постели, подтвердилось: это не наша тетушка, как если бы часть ее, обращенная к нам, улетучилась, стерлась в ту минуту, когда она проходила по кромке мглы, – мы видели перед собой кого-то очень похожего на тетушку, ее силуэт без отличительных черт, и не узнавали его.
Что говорится у Иоанна о небывалом утре явления Христова – краеугольном камне нашего спасения? Что на рассвете Мария Магдалина – та самая, неуемная, обтиравшая его усталые ноги своими волосами и смазывавшая их драгоценными благовониями, – приходит ко гробу и видит его пустым. Она обращается к тому, кого принимает за сторожа, и спрашивает, куда положили тело распятого, которое хочет забрать, ибо смерть не помеха ее любви. Магдалина не ропщет на несостоявшееся воскрешение, не корчит обиженную, не тешит себя надеждой уйти от гонений, стыдясь собственной глупой доверчивости, и, в отличие от обескураженных апостолов, не обращает внимания на кривотолки. Она познала любовь – ей хватит этого на всю жизнь. Он понимает все и говорит ей просто: «Мариам», впервые, наверное, называя ее ласковым уменьшительным именем. Обернувшись, она отвечает: «Раввуни», что по-древнееврейски означает «учитель», а подразумевает «мой возлюбленный», «мое всё», потому что Он один способен вместить ее безмерную любовь и утолить ее, что оказалось не под силу всем побывавшим у нее в постели мужчинам, вместе взятым. А попробуйте доверить этот сценарий режиссеру и посмотреть, что он сделает (Господи, прости им, ибо не ведают, что творят): бросит их друг другу в объятия, заставит лобызаться от радости, и при этом ни Иисус, ни Мария, ни режиссер не поймут самого главного в воскресении. «Не прикасайся ко мне», – говорит Учитель. «Поцелуйте тетушку», – сказала нам мама.
Мы замерли: кому охота трогать руками отравленные печным дымом бронхи не больно-то внушавшего доверие привидения. Тетушка и прежде никогда не умела целоваться: когда ей подставляли щеку, она прикладывалась к ней своей суховатой щекой (прикосновение мгновенное, как щелчок статического электричества) и чмокала губами в пустоте – вот и вся ее нежность. Она никогда нас не обнимала, не ласкала, никого не прижимала к груди, даже своего Иисуса встречала, расставив руки в стороны, даже младенцев держала на вытянутых руках, будто это чурка на козлах. Сохранилась фотография, где она держит двухмесячную Нину перед собой на уровне лица, как держат кубок чемпионы. Нина обращена лицом к фотографу – по видимости, к папе, – а сама она с библейской целомудренностью прячется за ребенком.
Ее сухость не располагала нас к бурному проявлению чувств. Мы подходили к ней по очереди. Она отпускала спинку кровати и возлагала руки нам на плечи. Но даже и таких объятий – на большее она была неспособна физически – от нее никто не ожидал. Чувствовалось, что ей хочется отметить свое неправдоподобное возвращение из небытия каким-нибудь исключительным жестом. Она всегда была крошечной, а после больницы еще уменьшилась, словно бы начала уходить в себя.
Очкарики не созданы для объятий. Им надо проявлять бдительность и успевать вовремя увильнуть, чтобы не зацепиться оправами. Дабы избежать столкновения и последующих комментариев, тетушка, противница телесных контактов, всякий раз отклонялась с запасом, и в результате мы целовали бусинки в мочках ее ушей. Она носила их не из кокетства: во времена ее детства существовал обычай прокалывать девочкам уши в младенчестве, не спрашивая их желания, как не спрашивают его при обрезании. Золотые булавочки вставлялись в мочку через несколько недель после рождения, вызывая порой обильные кровотечения, и их же уносили в могилу. Соблюдение племенного ритуала роднило нашу добрую христианку с языческими принцессами. Ощутив холодное прикосновение металла («Господи, – говорит Фома, – они забыли гвоздь в Твоей ране»), мы удалились.
А потом она потеряла голову. Поначалу мы даже не обратили внимания. Она спрашивала, где Жозеф, и мы полагали, учитывая ее возраст и силу обрушившегося на нас катаклизма, что подобный провал в памяти вполне закономерен. Разум отказывается верить в смерть, даже, когда вы видите перед собой труп. Помню, как однажды в воскресенье я смотрел телевизор у Реми и вскочил, чтобы сообщить папе результат матча, который наверняка бы его заинтересовал. Я уже схватился за ручку двери и тут только все вспомнил. Мы объясняли тетушке, что папа в командировке, что теперь ему приходится ездить очень далеко, но скоро он вернется. Она делала вид, что мы ее убедили, некоторое время обдумывала и спрашивала снова. Она же чувствовала, что в наших рассказах не сходятся концы с концами.
Решили, что она поселится у Реми, как только он подготовит для нее комнату. О домишке с проклятой печкой нечего было и думать, а у мамы не хватало сил за ней ухаживать. Чтобы она не чувствовала себя изгнанницей, мы принесли из домика ее любимые вещи: распятие, изображения Богоматери и святой Терезы, картотеку, которую она как раз переписывала набело, еще кое-какие безделицы, медальоны с изображением святых, какие кладутся в шкафы и под подушку. Она стала уверять нас, что распятие не ее, что у нее его украли и она пожалуется Жозефу, когда тот вернется. Реми пытался ее переубедить, но сладить с упорством отступницы не мог и сдавался. Матильда спокойным тоном отправляла его работать и принимала эстафету. Да, распятие украли, но вору не поздоровится: вот вернется Жозеф и ему задаст. Тетушка говорила, что так и думала и что еще не сошла с ума, но брать чужое распятие отказывалась, и Матильда с пониманием – не могла же, в самом деле, ее невестка спать в присутствии незнакомого полураздетого мужчины – убирала крест в ящик комода.
Пирр искренне радовался появлению в доме его старинной приятельницы. Он целые дни пролеживал у нее на постели. Иногда он сбегал в мастерскую к Реми, хозяин дружески трепал его по голове, а Матильда – где придется, и, убедившись, что все в порядке, он возвращался на пост. Он так вжился в свою роль и относился к ней с такой ответственностью, что, если кто-нибудь говорил: «С ней Пирр», все совершенно успокаивались.
А она все спрашивала Жозефа. Мы отвечали одно и то же: командировка, задержался, скоро вернется. И так это всем надоело, что чуть было не сказали ей правду. Только потом, постепенно мы осознали глубину недоразумения. В ее речь закрадывались временами странности, выходившие за рамки допускаемого абсурда. Она утверждала, к примеру, что Жозеф ранен. Он нуждался в ее помощи, она рвалась к нему, требовала, чтоб ее везли, ладно в Тур, так еще и в Бельгию. Тур – куда ни шло, как-никак на Луаре: Орлеан, Божанси – как бы шлейф протянулся от устья, но при чем тут Бельгия? Папа, правда, выезжал в Брюссель еще в ту пору, когда продавал назидательные картинки католическим школам (настолько безуспешно, что сарай у нас до сих пор завален Ветхим Заветом в тридцати цветных иллюстрациях), но уже много лет занимался исключительно посудой и только в Бретани. Тетушка, как известно, любила всякий рассказ начать из незапамятного далека, а тут, чтоб отыскать живого папу, шаг за шагом отступала назад, проживала жизнь наоборот, восстанавливая время, как восстанавливают поломанную вещь. Мы видели, что она путает все на свете, причем очень искусно, и витает где-то в четвертом, недосягаемом для нас измерении. Между тем она от своего не отступала. Жозеф ранен. Казалось, ее посещают видения, или, может, она медиуматическим путем воспринимает зов о помощи от папы, попавшего в автомобильную катастрофу и истекающего кровью в своей разбитой вдребезги машине. Утешало одно: там, где он находится, ничего дурного с ним уже произойти не могло.
Запутанный клубок мыслей своей давней сообщницы размотала Матильда. Вытягивая ниточку за ниточкой, она восстановила всю канву. Там всему нашлось место. То, что мы принимали за потерю памяти, оказалось ее обретением. Путаница исходила не от нее, а от нас – мы неправильно истолковывали ее слова. Поглощенные горем, мы воображали, будто папа был единственным Жозефом, скончавшимся спокон веку, то есть с той поры, до которой простирались наши воспоминания. Для тетушки же он был вторым, а первым – любимый брат, раненный в Бельгии и умерший в Туре на двадцать втором году жизни 26 мая 1916-го.
Отныне никто больше не мешал ей бродить по дальним закоулкам памяти. Теперь, когда мы договорились об основных понятиях, почему бы не возобновить диалог. Чудно было слышать, как Реми расспрашивал ее о новостях с фронта, а она находила их мало утешительными. Иногда же она смотрела на него с недоумением, вероятно думая: бедняга совсем рехнулся. Это прерывалась нить ее воспоминаний. Мы не всегда поспевали за ходом ее мысли, перескакивавшей с пятого на десятое. Когда мы полагали, что она заново переживает трагедию в Вердене, оказывалось, что она здесь, с нами, горюет о папе. Мы радовались улучшению, спешили разделить ее горе, а она уже оплакивала других: своих братьев Жозефа и Эмиля, погибших на фронте с интервалом в год, сестру Евлалию, годом позже скончавшуюся от испанки (пояснения Матильды помогали нам ориентироваться), и, наконец, Пьера, чудом уцелевшего в Первую мировую – только он у нее и остался – и не пережившего кончины своей жены Алины. Говоря об Эмиле, она первая упомянула о путешествии Пьера в Коммерси и давай ворчать: «Тайная эксгумация, прах знает, что такое». Тут Матильда отмалчивалась и как будто не понимала, о чем речь. Дескать, в данном конкретном случае тетушка несет бред. Мы между тем уже привыкли слушать ее, как пифию, изрекающую истины. Она стала нашей самой верной кофейной гущей для чтения прошлого. Правда, ответы на наши вопросы поступали в беспорядке и неизменно спотыкались о тайну Коммерси, словно бы в этой головоломке присутствовало лишнее звено.
Так она металась некоторое время вперед-назад, проводя туда-сюда по столетию световой луч своей памяти, а потом сломалась. Знавшие ее янсенистский ригоризм болезненно воспринимали клоунский финал. Быть может, воспаленный разум другого янсениста – Паскаля тоже подвиг его под конец жизни на какие-нибудь коленца, вызывавшие улыбки в семье Перье, но племянница милосердно утаила их от нас, и правильно сделала. А то бы только они и запомнились, всякий был бы рад ощутить свое превосходство над гениальным старым ребенком, бесконечными пространствами и вечным молчанием. Так и от тетушкиных проделок мы не знали, плакать нам или смеяться. Безобидные, в сущности, чудачества: например, она тайком взяла у Матильды на полке помаду и впервые в жизни накрасила губы, еще она уверяла, что кюре Бидо за ней увивается, или просила сигарету, но не курила (все равно бы не смогла), а затыкала ее за ухо, как зеленщик карандаш.
Время от времени она требовала, чтоб ее отвезли к ее матери. Напрасно мы пытались ей объяснить, проявляя чудеса дипломатического искусства, что ее мать, возможно, сейчас не в состоянии ее принять, она ничего не желала слушать, и коль скоро никто не хотел ее сопровождать – она готова была ехать одна. Натягивала пальто, шляпу сикось-накось – и попробуй ее удержи. Она с потерянным видом блуждала по поселку, на приветствия прохожих не отвечала, никого не узнавала, шарахалась в сторону, когда с ней заговаривали. Тогда Реми садился за руль, догонял ее, приглашал в машину, и они медленно-медленно, как если бы искали нужный адрес, объезжали площадь два-три раза – в зависимости от степени тетушкиного упорства. Остановившись перед собственным домом, Реми говорил, что они приехали. Тетушка как будто успокаивалась. Иногда казалось, память вернулась к ней, она вздыхала: «Ах да» – и падала без сил, подавленная очевидностью приближения конца. На минуту она погружалась в свои мысли, а потом опять – та же прихоть: пусть ее скорее отвезут к матери, никто и представить себе не может, как она сердится, когда опаздываешь к столу.
В последний раз она ужинала с Реми, Матильдой и Пирром у ног. Трапезы превратились в последнее время в театральные представления, на которых тетушка неистощимо импровизировала, демонстрировала фокусы с ложкой, ставила собачью миску к себе в тарелку, бормотала, что мама будет недовольна, или вдруг отказывалась есть сыр, уверяя, что он отравлен. В тот вечер она взяла салфетку, хорошенько обмакнула ее в супницу и расстелила на включенном телевизоре. После минутного оцепенения, следовавшего за каждой новой тетушкиной выходкой, Реми кинулся к счетчику над раковиной и вырубил электричество, опасаясь, что из-за короткого замыкания сгорит его новый телевизор. В полной темноте они услышали приглушенный звук упавшего тела и собачий лай. Матильда на ощупь нашла и зажгла свечу, и бледное пламя выхватило из дрожащего полумрака картину в духе декадентского искусства конца века: тетушка сидела, бессильно откинувшись в соломенном кресле, взгляд ее блуждал, на голове лежала мокрая салфетка, с которой суп стекал на лицо и очки, – эдакая скорбящая Богоматерь с вареными овощами; положив передние лапы на кресло, овощи нежно и старательно слизывал рыжий спаниель.
Ее свезли в Пон-де-Пьете, к психам, как говаривали мы, пока сами не столкнулись с ними ближе.
Когда начались осложнения с тетушкой, дед с бабушкой всерьез обеспокоились за дочь: уж больно много на нее свалилось (со смерти папы не прошло и двух месяцев) – и предложили переехать к нам, поддержать нас в дни тяжелых испытаний. Мама не решилась отказаться. Старики погрузили в малолитражку четыре огромных чемодана и совершили отчаянное путешествие от Риансе до Рандома: восемьдесят километров сельских дорог по однообразной плоской равнине с прямоугольными полями, аккуратными изгородями, рядами деревьев, безликими поселками, храмами без стиля, невзрачными домишками и безвестными людьми. От Риансе до Рандома на Нижней Луаре все примечательное спрятано в тайных мыслях безупречных жен.
Их приезд внес в дом толику жизни, пусть даже и приглушенной. Едва завидев новых постояльцев, мы бросились помогать им разгружать вещи. Зизу схватила на заднем сиденье чемодан с нее размером и протащила его метра два, чем настолько огорчила деда, что он разжал зубы и велел ей быть осторожней. Это замечание ушатом холодной воды загасило наш восторженный порыв.
В лечебнице Пон-де-Пьете тетушка очень скоро впала в бессознательное состояние, будто бы вошла в длинный белый тоннель, очищаясь от нелепых наслоений последних дней. И теперь уже сомнений не возникало: второго чуда не случится. Забившись впятером в малолитражку, мы отправились к ней с прощальным визитом.
Стоял конец зимы: дожди и ветер, мутное небо, серая гризайль клочковатых облаков и холодная сырость, просачивающаяся в автомобильчик через бесчисленные щели. Мы тщетно попытались уместиться вчетвером на заднем сиденье. Мамина худоба не спасала: одно дело папин просторный автомобиль, другое – дедова консервная банка и мы в качестве сардин. Бабушка быстро нашла решение: она не поедет, все равно тетушка без сознания. Навестит она ее или нет, не имело для нашей Марии никакого значения. Мама же настаивала, чтобы мы в последний раз поцеловали тетю, перед тем как она нас покинет. Мы становились специалистами по последним поцелуям.
«Поцелуйте отца», – сказала мама возле кровати, где он лежал одетый, в галстуке, со сложенными на груди руками, и сама его поза говорила о том, что случилось что-то из ряда вон выходящее (обычно он спал на левом боку). В первый раз он еще не остыл окончательно. Свежевымытые щеки пахли одеколоном, кожа сохраняла эластичность. Все равно что поцеловать спящего младенца: аккуратненько наклоняешься, быстро прикладываешься губами, чтоб только ощутить температуру его тела – и оп, с сознанием выполненного долга возвращаешься к креслу, где неподвижно сидит мама. (Во второй раз, в день похорон, когда от тела исходил вполне ощутимый запах, мы предпочли уклониться.)
Перегруженная Ушибочка медленно тащилась по мокрой дороге. Порывы встречного ветра сводили на нет ее поступательное движение. Ничего, утешали мы себя, на обратном пути ветер будет попутным. Главное унижение мы испытывали от водителей мощных автомобилей (три и более лошадиных сил), проезжавших мимо, будто мы пустое место, выпуклость на обочине, клеймивших нас насмешливыми или нарочито безразличными взглядами. Среди них попадались обходительные – они просили нас посторониться, и милосердные – они ерзали на сиденьях, показывая, как им неловко нас обгонять. Все эти быстроходные добрые самаритяне, обливавшие нас грязью, радовались в душе при виде доисторических кочевников в пещере на колесах тому, что сами они живут в эпоху космических скоростей.
Троих измотанных детей на заднем сиденье впору было принять за несчастных жертв злодея-похитителя, бесстрастного старика за рулем. Мамино нерушимое молчание делало ее сообщницей. Она подпрыгивала вместе с сиденьем на рессорах, точно кукла в черном, с горькой усмешкой в уголках губ, не высказывая ни упреков, ни огорчения, всем своим видом выражая, что уже ничего не ждет от жизни, принимает ее как жестокую необходимость, с титаническим усилием влачит секунду за секундой, и нечего от нее требовать большего. Рывки малолитражки несколько умаляли строгое достоинство ее траура. Всякий вираж покруче сбивал надвинутую на лоб черную шляпку, и она на ощупь, без зеркала, водружала ее на место. Делала она это, повинуясь какому-то остаточному рефлексу. И все же в ее движениях угадывалась толика сожаления, что едет она не в алой машине отца, которая, лишившись водителя, за ненадобностью ожидала теперь в гараже своего покупателя. Сглаживающие ухабы мягкие рессоры, равномерно жужжащий на скорости мотор, плавные кошачьи переходы на большую скорость, обзор на триста шестьдесят градусов, комфортабельные спинки, на которых отдыхала папина спина, – а попользовались мы ей всего каких-нибудь три месяца. В ней мы чувствовали себя важными особами. Легко объехав малолитражку, будто она одуванчик в придорожной канаве, папа не преминул бы отпустить какую-нибудь шуточку насчет жалкой посудины и ее пассажиров, как тогда, в густом тумане на перевале Турмале, он разрядил обстановку замечанием о «белой жокейской кепке» на голове бесшабашного старичка, в отсутствие всякой видимости съезжавшего с крутизны на какой-то музейной колымаге. Переход в униженное состояние пассажиров малолитражки довершал наше отчаяние.








