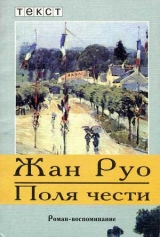
Текст книги "Поля чести"
Автор книги: Жан Руо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Красные джипы пожарных и фургоны «скорой помощи» стояли вереницей в аллее, и невысокого роста господин в шляпе и светлой одежде прошел вдоль ряда, с любопытством разглядывая их величественный строй. В качестве особого одолжения, учитывая почтенный возраст, водитель автобуса высадил его прямо перед двумя кипарисами у входа в аллею. В уголке рта дымится недокуренная сигарета, однако, оценив ситуацию, он решает затушить ее немедленно. Окурок на всякий случай сует в карман. Кончиком трости он приподнимает краешек брезента, прикрывающего носилки: они, по счастью, пусты. Он замечает необычную суету перед домом, где расставлен длинный стол для сборщиков винограда. Пустые стаканы розоватыми пятнами поблескивают в лучах заходящего солнца. Чуть в стороне группа людей окружает капитана пожарных. Все взгляды устремлены вдаль, на холмы, куда указывает палец человека, подпоясанного толстым кожаным ремнем. Вновь прибывшего поэтому никто не замечает, некоторое время он слушает вместе со всеми, а потом, воспользовавшись паузой, отваживается спросить: «Пожар?»
Так, около семи часов десяток добровольцев во главе с начальником элитной бригады отыскали деда.
Когда он понял, из-за чего переполох, то потихоньку улизнул в дом и заперся у себя в комнате. Люди, рассчитывавшие, по крайней мере, узнать, по какой причине у них отняли полдня, сочли такое поведение бесцеремонным. Джон почувствовал, что настала пора откупоривать вторую бутыль розового вина. И сразу нашлись объяснения старческой неадекватности. Вспоминались случаи, когда старики теряли память и блуждали, позабыв, где живут и как их зовут: может, головой ударялись, может, шок какой или размягчение мозга, кровоизлияние. Родственники с нетерпением ожидали, когда все разойдутся и они смогут наконец выяснить, что там у деда приключилось с памятью.
Люси долго барабанила в дверь его комнаты, прежде чем он решился открыть (бабушка послала дочь, подозревая, что сама она от него ничего не добьется). Он рассказал, что провел день в йерском ботаническом саду, поскольку окрестные дебри уже исследовал вдоль и поперек и вознамерился расширить кругозор, познакомиться с растительностью иных широт, с тропической флорой, и что в самом деле видел там всяческие чудеса: священный фикус – баньян с висячими корнями и гигантскую калифорнийскую секвойю с огненной кроной, названную по имени знаменитого индейского вождя; он долго перечислял достопримечательности ботанического сада, потом, возможно испугавшись, что перестарался, досадливо махнул рукой: дескать, гулять не возбраняется. Все, разумеется, согласились, только попросили в следующий раз предупреждать. Но про себя подумали: уж не скрывает ли он чего? А что скрывать, как не женщину? Под «женщиной» подразумевалась интриганка, наделенная всевозможными прелестями, в отличие от бабушки, которая в ранней юности, возможно, и выглядела соблазнительной, благо свежесть молодости привлекательна сама по себе, но никто не назвал бы ее красавицей даже на самых ранних фотокарточках, а теперь и подавно – старая карга с расхлябанной походкой и увядшим лицом, скрывавшая отсутствие форм под нарочито широкими платьями, так что любви не за что было зацепиться и при самом богатом воображении. Та, другая, помимо молодости, обладала еще чем-то особенным, что не поддается увяданию, скажем, тонкой щиколоткой, против которой время бессильно, которая остается очаровательной на ноге старухи, и, если на этой обтянутой гладкой кожей косточке методом синекдохи, благоговейно, гипнотически сосредоточить все желания, можно будет любить одну и ту же женщину всю жизнь. А вот бабушкина широкая лодыжка смотрится продолжением ботинка и всегда, даже в самый зной, затянута серым-пресерым с лиловым отливом эластичным чулком, потому что бабушка стыдится бледности своих ног, своей молочно-белой кожи, будто у слепого, бесцветного, никогда не видевшего дневного света животного. Куда ей тягаться с таинственной незнакомкой из Йера, чье тело в течение полувека закалялось в морских ваннах?
Ответы на все эти вопросы нашлись только назавтра, когда бабушка обшарила карманы дедовой куртки. Давешний герой уселся под акацией как ни в чем не бывало, правда, в любом другом случае он бы потребовал, чтоб с глаз долой убрали стол для сборщиков винограда, а тут решил не привлекать внимания и только молча передвинул кресло. За виноградником и дубовой рощей ухаживали особенно тщательно, если судить по тому, сколько народу прошло в то утро по дороге. Дед отвечал на каждое приветствие, и казалось, его нисколько не смущали затаенные улыбки тех, кто осведомлялся о его здоровье. Большинство проходящих принимали накануне участие в поисках, но, похоже, они не держали на него зла. Теперь, когда месье Бюрго снова занял законное место на посту, жизнь постепенно возвращалась в привычную колею, а сам он – к своим загадочным грезам.
Более всего бабушка не хотела, чтобы подумали, будто проверять дедовы карманы у нее в обычае. Нет, это совсем не в ее стиле. Но обстоятельства обстоятельствам рознь: тот бред, что он наговорил накануне, у кого угодно зародил бы подозрения. И подозрения полностью подтвердились: она показала Люси прямоугольничек розового картона – билет с указанием даты и места следования, безоговорочно изобличающий беглеца, билет туда и обратно на – она не смогла произнести вслух куда, потому что таких слов никогда не произносила, а просто дала дочери прочесть – на «остров Леванта – рай для нудистов».
Пресловутый остров, третий к востоку от Поркероля и Пор-Кро, так часто показывали с берега, о нем столько тайно мечтали, что никто не счел себя вправе бросить в деда камень. Дедова выходка даже пришлась по душе. Мы восхищались его мужеством. Зная его независимый ум, любовь к одиноким прогулкам, манеру водить машину, от него можно было ожидать чего угодно. Кому, как не ему, отважиться на скандальную вылазку. Мы воображали, как он обследует пляжи с сигаретой во рту и брезгливо-отстраненным выражением лица, пожирая прищуренными глазами трепещущую плоть обнаженных женских тел и груди всевозможных размеров и очертаний, как вдыхает аромат загорелой кожи, смазанной маслом от ожогов, и как на обратном пути, удаляясь от вожделенного острова на теплоходе, зубрит белиберду, которой собирается нас потчевать: висячие корни, огненные кроны – вот это уж точно наглость. Между тем дедушкина эскапада наводила на размышления. Старик, казалось, получил какие-то негласные указания хорошенько попользоваться отведенным ему остатком жизни. После такого побега закрадывались подозрения, что если он вдруг переживет бабушку, то, чего доброго, женится снова, как его друг, с которым они некогда учились в Париже и в двадцать лет, не имея ни гроша, нанимались клакерами, чтобы бесплатно слушать концерты, – так вот, друг этот после недолгого вдовства вступил недавно во второй поздний брак с молодицей лет, правда, пятидесяти, но все равно такой союз давал деду пищу для фантазий, освободись он от договора, заключенного в двенадцатом году.
Бабушка не стала поднимать шум. Она велела всем держать язык за зубами и не говорить виновнику скандала, что нам все известно. Словно бы в подтверждение того, что с исполнением заветной мечты о путешествии на Киферу не стоило медлить, дедушка умер менее года спустя, убежденный в том, что унес свою тайну в могилу, – умер однажды вечером в маленькой комнатенке, такой тесной, что невозможно было внести гроб, не передвинув пианино: сердце, ничего не попишешь.
II
С тетушкой все получилось проще некуда. Сняли капельницы с костлявых рук, послушно лежащих вдоль изможденного тела, вынули из носа трубку, через которую ее кормили, и мужественное сердечко не заставило себя просить дважды. Дело – величайшее в жизни – совершилось за три секунды. Седая головка повалилась набок.
В подобных случаях наблюдаются иногда чудеса упорства, когда организм, вопреки ожиданиям, предпринимает самостоятельно заранее обреченную на неудачу попытку выжить и, перед тем как сдаться, ведет годами, а то и десятками лет растительное существование, при котором жизнь вся сосредотачивается в защитном покрове: в ногтях, волосах. Подобного упрямства вполне можно было ожидать и от тетушки, в ее натуре было часами корпеть над задачкой, силясь вычислить арифметическим путем то, что элементарно решается при помощи правильно составленных алгебраических уравнений, однако как учительница начальных классов она считала делом чести не спасовать перед дерзкими молодыми умами, полагавшими, что если они поступили в коллеж, то могут запросто морочить ей голову. Понятно, что три недели в коме она продержалась исключительно благодаря своей твердости.
Она была тетушкой для всей коммуны – бывают же «отцы наций», а тут, так сказать, местная вариация. Рандомский кюре, которому она всю жизнь усердно помогала, так начал надгробное слово: «Наша тетя Мария нас покинула». Это заявление в духе Боссюэ немного покоробило родственников: нечего примазываться к чужому горю. В действительности же у нее было всего два племянника: папа и его кузен Реми – сыновья двух ее братьев, Пьера и Эмиля. Пьер-то и построил ей, наплевав на кадастры и запреты властей, маленький домик в нашем саду. Он не мог допустить, чтобы его сестру притесняли суровые монахини, у которых она жила, будучи учительницей. Возможно также, он пытался частично компенсировать нанесенный войной ущерб, восстановить обрубленные семейные ветви.
Даже если тетушка и подумывала когда-нибудь о замужестве, теперь уже было маловероятно, что она создаст семейный очаг: похоже, она находила уцелевших после войны мужчин недостаточно прекрасными, а они – ее. Уединенный скит полностью соответствовал ее монашескому образу жизни: он состоял из убогой кухоньки (она умела готовить одно-единственное фирменное блюдо – клейкий и комковатый белый соус, но обычно для поддержания жизни в тщедушном теле ей хватало трех-четырех грецких орехов) и такой же маленькой комнатки, где стояли кровать, комод, шкаф, письменный стол и над ним – застекленные полки, на которых она держала школьные учебники и несколько религиозных книг, да еще скамеечка для молитвы – после ее смерти весь этот жалкий скарб Реми отдал старьевщику.
Голые белые стены еще сильнее уподобляли ее комнату келье. На них висело лишь то, что составляло тетушкину теологическую троицу: распятие, за которое была заткнута веточка священного букса, сохраняемая с Вербного воскресенья в течение целого года (буксом из нашего сада пользовался весь городок, чем мы немало гордились), и, друг против друга, две величественные гравюры с изображением Лурдской Богоматери и святой Терезы из Лизье.
В свое время тетушка выиграла международный конкурс, посвященный столетию явления Богородицы в Лурде: она безошибочно ответила на самые каверзные вопросы о реке По, размерах грота Массабьель и цвете глаз Бернадетты. Победитель награждался недельным паломничеством в Лурд. Из того путешествия она и привезла изображение Богоматери, на котором каллиграфическим почерком было выведено имя обладательницы первого приза: первая из миллионов участников – чем не пропуск на небесный путь.
В левом нижнем углу маленькая пастушка стоит на коленях перед источником, подол плохонькой юбки расстелился по траве, голова укрыта капюшоном, в молитвенно сложенных руках зажаты четки. Лучащееся лицо обращено к высокой белой даме, осененной нимбом серебряной пыли и улыбающейся ей со скалы, элегантной, как манекен, с тонкой талией, перехваченной голубым шелковым шарфом, концы которого спадают вниз, очерчивая линию бедра. Неземное на первый взгляд существо скрывает под туникой весьма изящные формы. Их легко проследить, начав с босых ножек, выступающих из-под края одежды (уклон скалы создает эффект каблука), затем, скользнув взглядом вдоль стройных голеней вверх к узким бедрам и плоской груди (она же не кормящая мать), чуть коснуться лебединой шейки и раствориться в светлом источнике ее глаз, устремляющих на восторженное дитя взгляд, исполненный чистой любви. Тайна воплощения велика есть. Мы можем видеть только тело. Лурдская Богоматерь – самая красивая из Дев, по крайней мере, из тех, что являлись крестьянам там и сям и давали селениям такие живописные названия, как Богоматерь Утешения, Умиления, Горемыки и Грязнухи, – все они давно уже обрубили пуповину, связывавшую их с Девой-Матерью, юной галилеянкой, голубиной избранницей.
Слава Лурдской Девы меркнет, однако, перед мощью восходящей звезды – глядящей на нее из своей черной с золотом рамы на противоположной стене недавно канонизированной Терезы. Она сделалась чрезвычайно влиятельной особой после того, как в 1944 году спасла от бомбардировок собор в Лизье: уцелевший среди руин собор подобен пророчеству о нейтронной бомбе, которая, правда, пощадила бы заодно и дома в округе, но по тем временам и церкви хватило.
На фотографиях у дочери господина Мартена нормандская физиономия с круглыми, как наливные яблочки, щеками. Однако живописец-популяризатор пожертвовал частными особенностями во имя отвлеченной идеи и явил нам сахарную куклу, сжимающую в объятиях легендарный розовый куст, будто она чемпион по велогонкам. Ореол матового золота позади головы, укрытой капюшоном кармелиток, имеет геометрически правильную форму круга с центром посередке лба. Композиция на американский лад в жанре поясного портрета, ножки же наш мастер предусмотрительно скрыл. Лицу нетрудно придать выражение, с каким живыми в рай попадают, его можно вытянуть, можно сплющить грудь, обтесать бедра, а вот эротизм ножки в подъеме неистребим. После небольшой косметической операции хорошенько подлеченной от чахотки сестренке младенца Иисуса, надо полагать, будет легче творить чудеса.
Тетушка хранит крохотный лоскуток шириной в пять миллиметров, соприкасавшийся с одеждой Терезы. Она убеждена, что с его помощью победит любой недуг. Если кто-нибудь из нас троих заболевает, она, улучив минуту, когда мамы нет в комнате, заставляет нас целовать тряпицу и промокает ею наши мокрые лбы, собирая капелюшечки пота, в которых якобы концентрируется болезнетворный дух. У младшей сестренки, Зи-зу, эта процедура вызывает смех, у старшей, Нины, – гнев, но, одурманенные высокой температурой, мы позволяем нашей целительнице действовать по ее усмотрению. После чего она идет к маме и уговаривает ее измерить температуру еще раз. Мама раздраженно отвечает, что, когда у ребенка сорок, за пять минут ничего не изменится. Тетушка стоит на своем. Быть того не может, чтобы клочок, пусть не от платья святой, но почти, действовал слабее аспирина.
Святая Тереза затмевает прежних столпов веры – не аскетов, конечно, таких, как Тереза Авильская, Иоанн Креститель, Екатерина Сиенская, Доминик и прочие искатели света в темных глубинах души, а обиходных святых, заступничество которых тем не менее столько раз приносило реальные плоды, – Корнилия, Христофора, Антония Падуанского, Варвару, Элигия, Ива, Иосифа и здешнего покровителя Виктора. Тетушка собрала целую картотеку, что-то вроде «Большого Альбера» – сборника эзотерических рецептов для сельской местности. В тетушкину картотеку вошли все блаженные и все, кому предстоит быть причисленным, образочки разложены по порядку, и предваряет их предисловие, оно же каталог, а точнее, в алфавитном порядке составленный леденящий душу список болезней и несчастий с указанием святого, к которому следует обращаться в том или ином случае. Она работала над ним, можно сказать, всю жизнь.
Вне конкуренции, понятно, Спаситель и его «Святое Сердце», бескровно изъятое из груди по методу филиппинских шаманов. Он распахивает рубаху и с целомудренной дерзостью девушки, обнажающей грудь, показывает крест, вонзенный между предсердиями и продолжающий до скончания века страстные муки. Судя по его напудренным щекам и прическе а-ля Людовик XIII, та страшная пятница осталась далеко позади. Молитва на обороте обещает читающему ее отпущение грехов на тысячи и тысячи дней. «Святое Сердце» печется прежде всего о спасении души. По конкретным же вопросам каталог отсылает к другим лицам, скажем, «Кишечник» (боли) – к святому Мамерту, «Глаукома» – к святому Кларию, «Слепота» – к святой Луции, «Шершни» – к святому Фриарду, «Саксонские пираты» (возможно, туристы) – к святому Симильану, «Волк» (встреча с) – к святому Франциску, «Справедливость» – к святому Иву, «Груднички» – к святой Нонне, «Сироты» – к отцу Броттье, «Братья» (согласие между) – к святому Донацию и святому Рогацию, «Брак» – к святой Варваре и «Засуха» – к святому Вио, который на Нижней Луаре обычно не заставлял себя долго просить. В рубрике «Свинья» вы, разумеется, находили святого Антония с его искушениями, но, кроме того, еще и некоего святого Гурена. Рассказывали, что в дремучем лесу на Армориканском массиве на отшельника напал кабан. «Боров, боров, уйми свой норов!» – крикнул ему Гурен, и зверь, как зачарованный, покорно лег у ног нового хозяина. С тех пор, если попадается кому эдакий боров с норовом, рекомендуется трижды обойти вокруг него, произнося Гуреново заклинание. Правда, даже тетушка склонялась к тому, что лучше пустить его на паштет. Ей случалось ставить пометку «сомнительно» против святых вроде Гурена. Тетушка ревностно оберегала христианскую веру от языческой магии. За все творимые чудеса она желала быть благодарной одной только римской апостольской католической церкви, а не каким-нибудь кельтским псевдобогам, перевоплощенным Геленам или Гарганам. Папа любил ее поддразнить. «Поскоблите архангела Михаила, – говаривал он, – и проступит Юпитер». В ответ она презрительно пожимала плечами, но чувствовалось, что такого рода совпадения ее смущают.
Придя поговорить об учебе дочек, мамаши не упускали случая заглянуть в картотеку. Заводили разговор о диктантах и сложностях с арифметикой, относили неуспехи на счет смены зубов и уходили с молитвой святому Фиакру. Обращаться же к святому Коломбану, как это делают некоторые, и просить его послать свет разума туговатым умам тетушка не советовала, поскольку в заполнении образовательных лакун рассчитывала исключительно на достоинства своей методики. Это в ней было от Просвещения.
Когда молитва не действовала, она пускала в ход стишок собственного сочинения:
Покровитель грузчиков,
Христофор могучий,
Нелегко нести тебе
Христа-младенца по воде.
Все учившиеся у нее рандомские девушки помнили четверостишие наизусть, не подозревая, однако, об авторстве, и, наверное, читали его детям, а потом и внукам, относя к безымянному народному творчеству, где поговорки соседствуют с детскими считалочками и образцы мудрости с присказками вроде: «Святой Антоний, старый плут, у нас чужого не берут». Тетушка наша, красневшая от комплиментов, словно девушка перед причастием, полагала, вероятно, что первейшая из добродетелей – смирение – несовместима с литературными лаврами, хотя бы и местного значения. Возможно также, она боялась вторгаться в область церковных догматов. Долгое общение с монашенками привило ей мысль, что всякий грех – от самодовольства. И вот, поставив крест на любви, материнстве и других земных радостях, она вдобавок наступила на горло собственной песне.
В ее тетрадке для молитв сохранилось, впрочем, несколько вариантов четверостишия о Христофоре. В одном из них он переносит людей через Луару в местечке Пельрен, где теперь паром. Но видно, тетушка смекнула, что Луару пересечь – это вам не Красное море перейти: доброму гиганту понадобились бы двадцатиметровые ходули, чтобы не увязнуть в иле. Поэтому она сделала Христофора покровителем грузчиков (неброская деталь местного колорита, понятная только посвященным), а в остальном повторила древнюю легенду. Образ исполина с младенцем Иисусом на плечах, надо думать, не колебал чистоты ее веры. Она непременно требовала, чтобы папа у себя в машине прикреплял на панель управления бронзовую эмблемку с полюбившимся ей добряком-великаном. И вот результат: сотни тысяч километров без зацепочки. Конечно, тогдашнее движение с сегодняшним не сравнить, но ведь и дороги тоже. Так что святой Хритофор – это испытанное средство.
Антоний Падуанский – личность исторически достоверная – родился в Лиссабоне, повстречал святого Франциска, странствовал и пророчествовал, числится среди отцов церкви. Каким образом при такой незапятнанной репутации он оказался ответственным за потерянные вещи, сказать трудно. Пути Господни неисповедимы. И тем не менее только с его помощью нам удалось в конце концов отыскать ключи от папиного автомобиля в бельевом сундуке, Нинину крестильную цепочку в зарослях букса, бабушкины очки у нее на шее, горошину в крещенском пироге, семилетнего воришку, таскавшего деньги из кружки для пожертвований в храме, клявшегося, что больше так не будет и клятву нарушившего, и, наконец, дорогу домой, когда заблудились. Тетушка болезненно воспринимала, что такую знаменитость называют «старым плутом». Она была лучшего мнения о заступниках. Поэтому она, по своему обыкновению, сложила новую рифмованную молитву, только эта, в отличие от Христофоровой, не вышла за пределы семьи:
Святой Антоний из Падуи,
Перед вами на колени падая,
Я посветить скорей прошу,
Чтоб не пропасть моему грошу.
Воображению представлялся Диоген, рыщущий с фонарем по улицам Афин, якобы в поисках человека, а на самом деле мечтающий найти монетки, которые обронил накануне, когда пьяный в доску валялся в канаве. Образ великого бродяги как-то разом мерк: Диоген-то, оказывается, о денежках своих пекся.
Разве могли грозить нам какие-нибудь неприятности? Зажженная перед алтарем свеча уготавливала нам успешную сдачу экзаменов, святой Иосиф присматривал за семьей, Христофор – за автомобилем, Тереза – за здоровьем, Виктор устанавливал надо всем приходом микроклимат благодати, всемогущая в своих бесчисленных воплощениях Богоматерь обеспечивала хорошую погоду в мае, обильную жатву, возвращение новобранцев, благополучное разрешение от бремени и множество всяких панацей, чтоб нам проскользнуть без потерь через мирские невзгоды. После смерти тетушки Марии мы нашли под статуэтками святых, расставленными в углублениях садовой стены, и за образками в комнате десятки сложенных бумажек. На каждой из них – просьба. Не для нее самой – для ближних. Чтоб у Ж. не случалось дорожных происшествий, чтобы дела в магазине наладились, чтобы Н. успешно окончила третий класс, чтобы X нашел работу, Y обрел здоровье, а смерть Z была мирной и озаренной светом Воскресения. Если ходатайство не приносило результата, она подвергала святого бойкоту и поворачивала его фигурку лицом к стене, словно плохого ученика. На другой день после смерти папы святой Иосиф, плечистый гипсовый плотник, несший своего ребенка одной рукой, уткнулся носом в стенку ниши. Такой неслыханный провал означал, возможно, что время чудес ушло безвозвратно. Но тетя думала, что во всем виновата она одна. Она не могла себе простить, что забыла обратиться за заступничеством к святому, специализирующемуся на том, чтобы сгустки крови не застревали в сосудах между сердцем и мозгом. Но кто же мог предполагать, что в сорок лет душа вдруг возьмет и закупорится?
Тетя Мари, иже еси, как мы надеемся, в Святая Святых, пожалей нас грешных, ибо нам пришлось сдавать экзамены без поддержки твоих свечей, войти в жизнь без твоих молитв, вступить с ней в схватку безоружными, с пустыми руками, не обладая силой твоего племянника и нашего отца (индульгенция на сто лет) и не имея перед глазами его примера.
Чуть только теплел воздух после зимы, она на целый день оставляла открытой дверь своего домишки: так и света больше, и шум дождя слышней. Поутру после завтрака она обыкновенно высыпала на крыльцо крошки. На пиршество приглашались в общем-то все птицы, да только снегирь внимательно следил за домом со своей груши и никого не подпускал, оставляя воробьям и синицам одни объедки. Его красная грудка трепетала от ярости, когда случалось заявиться незваному гостю. Прыгая по щербатой цементной полоске, он лакомился неторопливо, уверенный в своей силе. «Мой снегирь», – говорила она, и слово «мой» звучало непривычно в устах человека, который ничего не имел (даже свое скромное жилище она называла «домом в саду у Жозефа»),
Сдержанно суховатая по отношению к детям и домашним животным (бедняге Пирру, спаниелю Реми, она трясла колокольчик над ухом, чтоб заставить его замолчать, когда он выл на сирену), она хорошо ладила с птицами: без бурных проявлений любви они просто мирно соседствовали в тишине и уважении суверенитета. Она казалась им сродни: щупленькая, голова втянута в плечи, неприметно одетая, она и ела, как птичка (тетушке если и случалось в день праздника или именин после долгих уговоров пригубить ликер, то наперстка хватало), вставала и ложилась с ними в одно время, держалась испуганно и робко. Она рассказывала, что ее снегирь залетал на кухонный стол, за которым она работала, и безбоязненно и заинтересованно оглядывался, вертел головкой, будто хотел понять, что к чему. Приходилось верить ей на слово, поскольку в нашем присутствии он, схватив с лету крошку, спешил укрыться с добычей на груше. Их парный номер не предназначался для публики.
Тот, кто, проходя по саду, заглядывал в распахнутую дверь, непременно видел тетю, сосредоточенно корпящую над работой за кухонным или письменным столом, – она с величайшим усердием относилась к любым, пусть даже самым незначительным делам, кроме хозяйственных, которые выполняла спустя рукава с ощущением, что попусту теряет время. Шила она так же, как и готовила. Там, где нужно было поставить заплату, она просто соединяла края дырки и покрепче стягивала ниткой, отчего на платье возникали причудливые складки. По четвергам, когда дети не учатся, она готовила приходские ведомости и после обеда разносила, ходила из дома в дом, произнося одно и то же: «Почтальон», и с лукавой улыбкой прибавляла: «От Господа Бога» – эти слова сделались своеобразным паролем, и конец фразы хозяева договаривали вместе с ней. И так у каждой двери с незначительными изменениями в тексте, дабы не наскучить аудитории. Не было, разумеется, никакой необходимости складывать ведомости вчетверо и оборачивать полоской бумаги с именем адресата на ней, но тетушке хотелось, чтоб они выглядели именно посланиями свыше.
Садясь за стол, она надевала на правую руку специально для этого приготовленную старую перчатку, чтобы, складывая вчетверо листы бумаги, не запачкать пальцы плохо просохшими чернилами. Образчики примитивного оригами, рожденные ее размеренными точными движениями, постепенно заполняли крошечную кухоньку, где она трудилась в атмосфере полнейшей сосредоточенности, и время словно бы брало таймаут, пока розовые, зеленые, желтые, голубые – каждую неделю разные – ведомости укладывались на столе в стопки по десять: если больше, то стопка рассыплется.
Иногда мы приходили ей помочь. Она освобождала место, чтобы мы уместились вчетвером за придвинутым к стене столом. Мы внимательно следили за ее руками, стараясь в точности воспроизводить ее движения, но, сколько бы мы ни усердствовали, нам не удавалось достичь той легкости, которая завораживала со стороны. Так иногда, в каникулярной праздности, приглашение поиграть, брошенное, как спасательный круг, кажется очевидным лекарством от скуки, однако, едва начав игру, уже понимаешь, что ожидания были напрасными. Впрочем, тетушка не слишком обольщалась относительно нашего энтузиазма, предвидя его скорый спад, и потому наше желание помочь не вызывало у нее бурного восторга, хотя ей, конечно, льстил интерес к ее добровольному скромному труду на ниве всеобщей евангельской миссии. Как могла она не позволить трем новобранцам завербоваться в воинство Христово. Кроме того, она вообще ни в чем не отказывала детям Жозефа, даже когда заранее знала, что от нашей помощи одна неразбериха.
Мы и двадцати ведомостей не могли сложить аккуратно. Углы листа в наших руках никак не желали совмещаться друг с другом. А еще немного погодя у нас уже получались чуть ли не веера. Тетушка вздыхала и принималась переделывать: разворачивала, разглаживала рукой в перчатке – смотрите, чай, не хитрое дело лист бумаги вчетверо сложить. Хорошо, хорошо, поняли. И мы снова брались за работу, исполненные благих намерений, но очень скоро нас окончательно одолевала скука. Уголки ложились вкривь и вкось, а там, глядишь, и до веера недалеко. Если же вздумывалось кому-нибудь один из вееров, какой пошире, поднести к лицу да состроить глазки – чаша ее терпения переполнялась. Тетушка выходила из себя. Встряхивала головкой, точно воробей в лужице. В ужасе выхватывала ведомости из наших рук, сердито поправляя очки в золотой оправе: из-за нас ей двойную работу делать приходится, и уж лучше она справится со всем одна. «Не привыкать», – добавляла она, как бы в сторону, для себя самой, но достаточно громко, чтоб мы слышали. Этот последний упрек вмещал всю горечь ее одинокого существования, всю боль отречений, которыми она заплатила за репутацию блаженной. Мы это смутно понимали: достаточно было одного взгляда на ее махонькую комнатенку, в которой она позволила себе единственное украшение – календарик над столом, на ее серую сгорбленную фигуру, на всю ее суровую, полную ограничений, однообразную жизнь. Нас охватывало кратковременное раскаяние, и мы в который раз давали себе слово больше никогда так не делать.
Покончив со складыванием, она принималась нарезать полоски из белой бумаги и опоясывала каждую ведомость плоским кольцом, запаянным капелькой клея. Клей она размазывала малюсеньким шпателем, неизменно ломавшимся от нажима, и тогда она заменяла его спичками, у которых расплющивала лишенный серы кончик. Эти спички – а она никогда ничего не выбрасывала – приклеивались потом к пальцам, когда она зажигала газ, так что она едва успевала их задуть.
Если она не прогоняла нас раньше, то теперь ее ожидало самое жестокое испытание – порча бесценной белой бумаги. Она с беспокойством смотрела, как мы, вооружившись ножницами, вместо лент кроим гирлянды и салфеточки: если листок бумаги сложить несколько раз, сделать прорези по краям и в середине, а потом развернуть, получаются кружева. Мы чрезвычайно гордились своими изделиями, а бедная тетя, которой мы демонстрировали продукцию, с усилием кивала головой и натужно улыбалась, глядя на нас сквозь причудливые дыры своей великолепной бумаги.
Зато на последнем этапе мы оказывались почти полезными. Она раскрывала тетрадь, куда были занесены все абоненты, протягивала ее нам, и мы по очереди зачитывали длинные списки имен; она выводила их пером, изящным учительским почерком с нажимом, и нервничала, когда мы начинали спешить или не обращали внимания на приписанное ее рукой «скч», что означало «скончался». Испорченные полоски откладывались на черновики.








