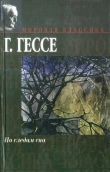Текст книги "Герман Гессе, или Жизнь Мага"
Автор книги: Жаклин Сенэс
Соавторы: Мишель Сенэс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Она старше его – ей скоро будет двадцать шесть. Есть ее фотография этого времени с двумя сыновьями, Теодором и Карлом, где она запечатлена с тщательно уложенными на прямой пробор волосами: крохотный кружевной воротничок застегнут медальоном, небрежно наброшен платок, резкая складка у рта. Взгляд кажется обращенным в пустоту или, скорее, в созерцание невидимого. С упрямой отрешенностью она лелеяла душевное тепло, в убежище своего внутреннего мира прятала следы прожитых лет. Ее звали в Индию учиться медицине, чтобы потом ухаживать за больными. Но дети и стареющие родители приковывали ее к Кальву, к семье, чьи фамильные черты отразились и в ней: та же гордая линия скул, тот же суровый крестьянских дух, тот же строгий пиетизм.
Приезд Иоганнеса разбудил в ней духовную жажду. Она прислушивалась к Господу более чем когда-либо и тосковала безутешно по вечно поруганному Мессии. Новоприбывшего красавца она воспринимала как медиума, в общении с ним улавливала трепет божественного, завороженно следя за его движениями, осененными, как ей казалось, благодатью. Зачем он приехал в Кальв, в дом ее родителей, стал столь близким ей, что каждый его вздох отзывался в ней эхом участия и понимания? Он часто обсуждал с Гундертом результаты своих исследований индийских языков и становился тогда бледным и задумчивым, как отрешенный махараджа. Стоило ему заговорить о Боге, взор его начинал блестеть, на щеках загорался румянец. Когда он произносил длинный монолог, то почти всегда сбивался на лирический тон, заканчивавшийся для него мигренью. Мария любовалась им, считала образованнее и умнее себя и вполне достойным докторской степени. Она, питавшаяся всегда лишь чувствами и образами, испытывала почти сладострастное откровение, погружаясь в ясный мир его мыслей.
1 сентября 1874 года Иоганнес и Мария обручились. Радостное событие вызвало в Кальве много шума. Оба сына вдовы были довольны. Маленький Карл спросил ее: «Мой папа на небе уже знает, что господин Гессе будет моим папой?» старший, Теодор, которого близкие звали Тодо или Тео, прыгал от радости. Гундерт и Юлия видели в этом браке воплощение своей заветной мечты.
Из Вайссенштайна эстонский патриарх Карл Герман Гессе прислал благословение будущей невестке и воспользовался случаем, чтобы угостить своих друзей «во Христе», что соответствовало его стилю жизни и привычкам. Необузданный доктор не упускал случая «собрать в своих покоях, украшенных лебедями и соловьями», тридцать, сорок, пятьдесят друзей, которых потчевал угощением, анекдотами и подарками. Был ли это день рождения, свадьба, крестины или похороны, он благодарил Господа с набитым ртом, со здоровым румянцем на щеках и неистощимым запасом энтузиазма. На поминках Лины, второй жены, присутствовали тридцать два приглашенных. Несколько месяцев спустя он в обществе сотни сотрапезников праздновал юбилей своего пребывания на посту патриарха. Получив в 1860 году два ордена – Станислава и Бедных – за свою неистощимую щедрость, он устроил для своих близких потрясающий летний отдых на берегу моря в Вайнопе. когда в 1861 году умерли бабушка Стакелберг и Ядвига, мать его третьей жены Ад ели фон Берг, поминки, начинавшиеся в пять часов пополудни, длились до трех часов утра.
Чего он только не сделает для Иоганнеса и Марии, когда год спустя после свадьбы они приедут в Вайссенштайн со своим Первенцем девочкой, названной Аделью, без сомнения, в дань уважения родовому имени!
Мария испытывала нежность к своему свекру – гиганту с лицом мастерового и бородой до ушей, в которой пряталась добрая улыбка. Он отпевал и крестил неизменно громогласным голосом, исполненным полноты ощущения жизни и звучавшим доверием к истинности божественного промысла. Его третья жена принадлежала к высшему обществу Петербурга, была добродетельна и милостива. Ее окружала толпа приемных детей.
Иоганнесу предложили место в маленькой церкви Вайссенштайна – его родной деревни. 20 июля 1876 года Мария запишет: «Иоганнес произносил проповедь. В церкви, обычно заполненной лишь наполовину, было очень много народу. Подъезд был запружен всевозможными дилижансами и экипажами. Наконец, у Джонни жутко заболела голова, и он вынужден был прилечь».
Могла ли предвидеть эта образцовая жена, что за страница будет вписана благодаря ей в мировую культуру, когда сольется кровь Гессе и Гундертов? Северный и южный пиетизм объединяются. Торговая Пруссия сближается с мистической Германией Шварцвальда, происходит духовное обогащение, пыл жителей одной соединяется с усердием другой, чувство домашнего очага – с авантюризмом, надежда – с сомнениями, вера – с недоверием. Два почтенных деда держат в своей власти невидимую семью. Эти страны будто благословляемы на набожность и ученость. По их долинам и проселкам пролегают тысячи путей, осененных святой благодатью. Таков семейный закон немецкого пиетизма: отец уподобляется Христу, дед – Богу-Отцу. Пиетизм тянется из глубины веков, он родился из земли, крови и плоти, нужно только следовать его зову, и Марии ничего не остается, как надеяться на свою веру и очищающую силу пережитых страданий.
В ноябре она поняла, что вновь беременна, и стала умолять Бога даровать ей сына, которого так хотел Иоганнес. Она ожидала его рождения в большой квартире на втором этаже дома с голубятней у конька крыши, напротив арочного фасада городской гостиницы Клльва, недалеко от Нагольда. Окна выходили на рыночную площадь, на фонтан, посреди которого красовался бронзовый лев. Городская суматоха, купол церкви из розового песчаника, ели ближнего леса – все это создавало атмосферу спокойной уверенности в будущем.
Она много молилась, стараясь очиститься от любой скверны перед рождением ребенка – на досуге она записала тогда в дневник: «Мне так тяжело теперь. У меня боли, порой очень сильные. Если это не близнецы, я тогда ничего не могу понять». 24 июня 1877 года она оставила дневник открытым: «С минуты на минуту я жду события, которое пугает меня». В последние дни месяца усилилась жара. Резкие порывы ветра приносили запах елей и слабое блеяние мучимых жаждой коз. Лунный диск казался огромным, время тянулось необыкновенно долго…
Мария возобновила записи 3 июля: «В понедельник 2 июля 1877 года после дня мучений Господь в своем бесконечном милосердии даровал мне долгожданного ребенка, нашего Германа. Он очень большой, тяжелый и красивый. Когда он хочет есть, то широко открывает свои светло-голубые глаза и тянется головкой к свету…» С нежностью и гордостью она добавляет: «Он замечательный – веселый, здоровый и сильный…»
Накануне дедушка Гундерт с зятем, как обычно в воскресенье, отправляли службу, а Юлия была на своих чтениях. Маленький Кальв мирно уснул этим жарким вечером. Небо блистало оттенками заката. Ребенок явился на свет на пороге дня и ночи. Два набожных лица склонились над ним, он мог слышать ропот молитв, подобный вечному шуму ветра.
Глава II ПОДЕЛЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Я ведь всего только и хотел – попытаться жить тем что само рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?
Г. Гессе. Демиан
Ребенок появился в сумерки, в мерцании света, отблески которого остались с ним навсегда. «Рождение мое совершилось ранним вечером в теплый июльский день, и температура этого часа есть та самая, которую я любил и бессознательно искал всю мою жизнь и отсутствие которой воспринимал как лишение», – напишет потом Гессе в «Кратком жизнеописании».
Над городом блестели остроконечные шпили домов, а дальше простиралась узкая долина с кожевенными мастерскими и крохотными садиками, где резвились стайки гусей. Дом Гессе располагался за фонтаном, сквозь булыжники мостовой пробивался мох, над площадью порхали сизые голуби. Окруженный фасадами с крылечками и решетками для чистки обуви при входе, он был обращен десятью симметричными окнами на холмы, озаренные пламенеющим закатом. Шторы были опущены. Ясени и клены оставались недвижимы. Ни одного облака. Восточный ветер успокоился, так и не рискнув проникнуть в узкую долину. Пианино в салоне умолкло, не слышно было ни «Песен» Шуберта, ни звуков народных напевов. Сойка, кричавшая каждый вечер в зрелой бруснике, улетела. Лишь в ближнем лесу можно было обрести прохладу. Мария склонилась с дубовой постели к колыбели новорожденного; отец, туго затянутый в пастырский воротничок, взволнованно прошептал: «Как он красив», – и, блестя оправой очков, начал сосредоточенно читать «Отче наш». Он радовался появлению этого здорового ребенка, но яд сомнений прокрадывался порой в его сердце. Ликованию своей души он старался противопоставить молчаливую сосредоточенность. Мог ли закон примирить противоречия инстинктов? Он закрыл глаза и сцепил на коленях тонкие пальцы рук. Его мучили мысли о первородном грехе. Тяжкие внутренние сомнения ложились на благодатную почву его нервического темперамента. Он страдал. Прошедшие годы были такими тяжелыми! Даст ли пиетизм, с его сочетанием веры и гордыни, своим приверженцам, не приемлющим милитаристскую политику Бисмарка, уверенность в религиозной безопасности?
Объединение германских земель в 1871 году повысило авторитет Пруссии. Германский союз узаконил ограничение культурной автономии Вюртемберга и покушался на его независимость. На людях, подобных Иоганнесу Гессе или Герману Гун-дерту, это отразилось плохо. Они оказались бессильными свидетелями притеснения своей маленькой родины. Создание Рейха под управлением Севера ущемляло Юг. Его пейзажи и история естественно объединяли швабские долины с зелеными склонами Германии. Там говорили, вплоть до малейших нюансов, на том же диалекте и с тем же акцентом. Дух предков царил до озера Констанц и его окрестностей, где были разбросаны замки и кипарисы, до границ с говорливой цивилизацией Средиземноморья.
Объединившись, Гессе и Гундерты создали фамильный герб: гроздь ягод, колосья, протестанский крест. Как братья, они одевались в измызганные грязью сапоги, завтракали супом и круглой булкой, пахнущей тмином. Примирившись постепенно с германским объединением, они не противостояли более духу единства, захватывавшему Юг, по мере того как там развивалась индустрия. Обогатившаяся буржуазия праздновала победу. Так что же, мирной пастушеской жизни больше не найти приюта в этих краях, простота нравов будет высмеяна, Церковь поругана, Бог унижен?
Думая о начавшейся среди всего этого новой жизни, которую ждало столько опасностей, Иоганнес смотрел на ребенка с несказанной жалостью, проистекавшей от недоверия к миру. Конечно, Бог даровал ему сегодня радость. К тому же он сам просил Его об этом. Но какой порочной ценой! Пастор с подозрительностью относился к чувству ликования. Испустив тяжкий вздох, он повторил во время вечерней молитвы томивший его вопрос: «Да и радость ли это – родиться на свет человеком?»
Новорожденному дали имя Герман в честь дедушек по отцовской и материнской линиям. «3 августа, – записывает Мария, – состоялось крещение. Доктор Мёглинг благословил нашего сына, а дед крестил его. Герман начал было кричать, но когда запели, умолк и стал разглядывать все вокруг ясным взглядом…»
«Мои пять чувств, – вспоминал Гессе в „Кратком жизнеописании“ о своем детстве, – были бодрственны, остры и тонки, я мог на них положиться и ждать себе от них много радости». Он ими вовсю пользовался, сидя на коленях отца и теребя его бороду или запутывая на полу клубки Марии. «Он слишком проворный и сильный для меня, – беспомощно вздыхает она. – Маленький Герман отважно карабкается на скамейки, столы и камни». Его живость и ум восхищают: «Он узнает все картинки, будь это изображения Китая, Африки или Индии… он упрям и необуздан!»
Он обитает в саду своих бабушки и дедушки. В этом очаровательном месте его окружают цветы: изысканные флоксы и простые левкои, аквилегии, среди которых он ползает на четвереньках, и какието высокие стебли, концы которых украшены султанам и-бабочками цвета серы. Особенная чувственная алчность притягивает его к каждому блику, к малейшей частичке жизни. «Явладел, – запишет он позднее, – всей сказочной мудростью детства». Больше всего ему нравились «прекрасные, парящие, не ведающие покоя облака… печальные сосны и залитые солнцем скалы».
Он открывает глаза – перед ним его мать. И словно Герман Лаушер, он ловит ее взгляд. «Явижу тебя опять, мама, – ты склоняешь ко мне свою красивую голову, стройная, гибкая, терпеливая, с несравненными черными глазами». Прижатый к ее груди, он впитывает с молоком ее мелодичный голос. Она смеется, рассказывает веселые истории и, готовя завтрак с маленькими горячими хлебцами, иногда наклоняется к мужу и шепчет нежно: «Джонни, сердце мое!»
Иоганнес воспринимает эту нежность с важностью. Он деликатен, у него хорошие манеры, быть может, даже отчасти чопорные и холодные; уклад жизни, им заведенный, не позволяет пересудам нарушить покой его семейного очага. Склоняя к сыну обрамленное бородкой лицо, он шепчет слова на балтийском наречии, корни которого таятся в могуществе туманного Севера. Он строг в исполнении литургии, с достоинством следует ее суровым ограничениям, он произносит свои патетические проповеди на прекрасных и суровых ступенях церквей долины Нагольда. В сапогах грубой кожи он идет по полям, усеянным крокусами, с марта оживляющими прерии между За-велылтайном и дорогой, пролегающей по пологому склону и ведущей к вокзалу Бад Тайнах.
Высокий дом в Кальве олицетворяет единство суровости и благости, излучаемой чувствительными душами. Под его кровлей сознание серьезности смерти и вместе с тем ее банальности сосуществуют с загадочным постоянством. В июле 1878 года Мария произвела на свет маленького Поля, который тихо угас у нее на руках в один из декабрьских дней. 6 августа 1879 года, в шесть тридцать утра после мучительной грозовой ночи родилась Гертруда, «крохотное кругленькое и полное жизненных сил существо». В декабре у нее началось легочное недомогание. Болезнь продлилась до Святой недели 1880 года, когда жена пастора горячо просила Господа за «блаженную спутницу Его в страданиях», а 31 марта все было кончено. «Господи, я оставляю в твоих руках мое обожаемое дитя», – только и смогла промолвить мать.
Так в Марии говорил пиетизм, и маленький Герман постепенно постигал этот язык. Разговоры, игры, песни, молитвы – печальные события на все бросают тень. Каждую секунду Иоганнес и Мария от всего сердца, как и их предки, готовы принести в жертву свое потомство. Этот героизм покоится на страстной вере, питаемой нежностью и наивностью. Эта вера не угрюмая и не жестокая – она доходит до крайних пределов набожности, до необходимости посвятить себя тесному контакту с Небом отсюда, с земли, с места вознесения. Она требует бессознательно разделить, непрерывно созерцая ее, искупляю-щую страстность Иисуса, его терновые иглы, его раны, его крест, кровь, его смерть, ставшую предметом медитации. Возможно, именно в этом смирении родителей коренится необыкновенно ранняя страсть Германа к протесту. Он внезапно впадает в ярость, рыдает и топает ногами. Он невыносим и горд, у него на все есть ответ. Мать запретила ему кидаться камнями, на что он сказал: «Но Давид делал то же самое, и никто в этом дурного не видел».
Мария черпает свое неиссякаемое вдохновение повсюду: в Священной истории, в сказках братьев Гримм, где прислушиваешься к голосам природы, гармонии лесов, созерцаешь блуждающие облака. Когда она поет на малаяламском, припоминая песни Гозианны, он слушает, затаив дыхание, неуловимо плывущую в воздухе мелодию.
Герман часто видится с дедушкой Гундертом. Индийский миссионер околдован берегами Нагольда, освещен солнцем Вишну: «Он, преклонный годами, досточтимый, с широкой белой бородой, всеведущий и всемогущий», царствует в своем доме, полном воспоминаний. «Безделушки, утварь, цепочки из деревянных бусин, нанизанных наподобие четок, свитки из пальмовых листов с нацарапанными на них знаками древнего индийского письма, изваяния черепах, вырезанные из камня жировика, маленькие божки из дерева, из стекла, из кварца, из глины, украшенные вышивками шелковые и льняные покрывала…все это пахло морем, пряностями, далью, благоухало корицей и сандаловым деревом». Но особенно дед, который понимал «все языки человеческие… а возможно, и наречия богов, а заодно звезд», читал, писал, говорил, как «тайновед, посвященный, мудрец». Герман полон нежности к нему: «Ялюбил, почитал и боялся его, ожидал от него всего, полагал, что для него все возможно, непрерывно учился у него и у его переодетого бога Пана в личине божка…».
С колыбели Германа окружали великие тайны и священные статуэтки. Его душа бессознательно впитывала связанные с ними легенды. Иоганнес не ошибся: мощный ствол германского семейства дал новые побеги, а восточный ветер перенес почитаемый цветок Индии на Швабское плоскогорье. «Я – европеец… – напишет Гессе в очерке „Детство волшебника“, – я всю жизнь исправно практиковал западные добродетели – нетерпеливость, вожделение, неуемное любопытство». Он был покорен мистическими силами, которые олицетворял Гундерт: «от него, непостижимого, вела свое начало сокровенная, древняя тайна», которую несла в своей душе и Мария.
Иоганнес противопоставлял себя этому оккультному духу, этой загадочной улыбке Будды. Но что он мог предложить взамен, этот измученный отец? Только крест. Это был для него единственный выход. Мальчик излучал жизнь – здоровый цвет пица, чувственные губы. Чтобы противостоять демонам искушения, нужно было эту силу искоренить любым способом, иплоть до проклятия. Существование христианина – это путь к смерти, иначе говоря, совершение самопогребения с неукоснительной суровостью.
Иоганнес завидовал Гундерту. Он разделял его фанатизм и перил в могущество аскезы, но ему не удавалось ощутить то, что позволяло старому миссионеру «обрести гармонию высших сфер». Его растущую власть он ощущал как тиранию, и в нем клокотала разрушающая злоба. Гундерт, напротив, приближался на его глазах к вершинам самопонимания. Напрасно пастор тал сына за собой – Герман был глух. Отец с грустью заворачивался в длинный редингот, тая от мира свои мучения. Чтобы усомниться в его истинах, ребенку достаточно было лишь взглянуть на деда – и он видел Посвященного.
Весной 1881 года Иоганнес, призванный в Базель в качестве и издателя миссионерского журнала, вздохнул наконец свободно и избавился от утомительной опеки и города, казавшегося ему до смерти скучным. Его радовала смена обстановки, с удовольствием входил он в круг новых обязанностей.
Герману четыре года. За несколько месяцев до отъезда его сфотографировали: маленький белокурый ребенок в черных ботиночках, у него упрямый подбородок над жестким воротником курточки и насупленные брови. Был ли он готов к путешествию? Он покидал город с ухабистыми улицами, извилистой речкой.
Кальв останется его родиной. Он будет вспоминать, «как прежде проводил здесь послеобеденные часы, а порой и целые дни, плавал, нырял, катался на лодке, сидел с удочкой». Ребенок мог сказать: «Ябыл живым и счастливым мальчиком». Он то мастерил лук со стрелами, то запускал бумажного змея, то рвал вьюнки, то собирал ягоды с придорожной калины – этот ангел и разбойник в одном лице, с довольным видом держащий в руках тяжелую, бьющую хвостом рыбу. Он лазил через заборы, строил на реке водяные мельницы, играл в кегли, в Робинзона, учился видеть очарование природы и воспринимать мистику ее языка. Он слушал звон козьих колокольчиков, видел тянущуюся к солнцу горечавку, наливающуюся алым соком смородину и чувствовал себя причастным таинственному бытию природы. Вечером его застают в конюшне, а на заре – подле красного попугая, который «…насвистывает свою песню дикого леса…». «В садике моего отца была решетчатая переборка, там я поселил кролика и ручного ворона. Там я провел неисчислимые часы, долгие, как мировые эры, в тепле и блаженстве обладания; кролики пахли жизнью, пахли травой и молоком, кровью и зачатием, а в черном, жестком глазу ворона горел светильник вечности». В своих питомцах Герман чувствовал ту же энергию, которую излучал индийский божок деда Гундерта.
«Насколько иначе выглядела дверь дома, беседка в саду и улица в воскресенье вечером, нежели в понедельник утром! Совсем иначе выглядели настенные часы и образ Христа в жилой комнате по тем дням, когда там царствовал дух дедушки, по сравнению с днями, когда это был дух отца, и как все еще раз менялось по-новому в те часы, когда вообще никакой иной дух не давал вещам их сигнатуры, кроме моего собственного, когда душа моя играла с вещами, наделяя их новыми именами и значениями!» Странной властью обладал этот мальчик властью делать красивым, безобразным или ненавистным все что угодно. Плененный непостоянством мира, он пытается разгадать его загадку: «Как мало, однако, твердого, стабильного неизменного! До чего все жило, претерпевало перемены, желало преобразиться, жадно подстерегало случая разрешиться в ничто и родиться заново!»
Герман стал будто учеником колдуна, все ему казалось подвластным. Это потрясающе: он ощущает себя владыкой воображаемого мира! Ему сопутствует призрак странного сказочного человечка – ангела ли, демона – не понятно. Быть может, его собственная тень. Или это он следует за призраком? На мостовых города, вокруг фонтана, на тропинках сада – везде этот странный персонаж оказывался рядом. «Когда маленький человечек становился для меня зримым, на свете был только он, и, куда бы он ни пошел или что бы ни начал делать, я должен был следовать за ним, делать, как он».
Марию беспокоит нервозность Германа – он смеется и плачет ни с того ни с сего, плохо спит, дуется по любому поводу. Хуже того – он рвет соседскую смокву, ломает спички, игрушки, дерется, отказывается слушаться родителей.
Все началось незадолго до рождения Маруллы, 27 ноября 1880 года, во время прогулки, которую Герман никогда не забудет: повиснув на пальто матери, он старался дотянуться до руки отца, когда почувствовал себя схваченным одним из дядьев – тот взял его на руки с криком: «Смотри!» У ребенка закружилась голова: его в любую секунду могли уронить! Так Герман открыл оборотную сторону мира развлечений: пропасть, небытие. Феерии сопутствовал страх. Ничто не могло искоренить в нем страх быть покинутым.
Когда Герман со своими братьями и сестрами сел в поезд, в Базель пришла весна. В Кальве у него не получилось ни вырастить зимой яблоки, ни вызвать лесного духа, но в своих дерзостях он продолжал упорствовать. Однажды вечером, уставшая Мария записывает в дневнике: «Герман наконец-то спит. После того, как я задала ему розог – так, что он подпрыгнул на кровати. Вот он здесь, измученный герой». в письме, адресованном мужу, стажировавшемуся тогда во Франкфурте, она просит: «Помолись вместе со мной за маленького Германа и за то, чтобы его правильно воспитать. Моих физических возможностей недостаточно: у него веселый нрав, геркулесова сила, удивительно острый ум и потрясающая воля для его четырех лет. Мне так тяжело постоянно бороться с ним – он очень импульсивен и самостоятелен». И так заканчивает свое письмо: «Я дрожу от предположений, что может статься с этим безумным ребенком, если мы ошибемся в воспитании».
Ночью проказнику снились кошмары. Днем он развлекался. Он забавлялся со своими новыми друзьями, его радовало новое жилище, окрестности, где он мог играть в индейцев и охотиться за бабочками. Он знает, что есть два мира, подобно тому, как с одной стороны приходит ночь, а с другой – день, распространяя сияние столь похожее, что происходит путаница. «Глубочайшее, сокровеннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня не довольствоваться тем, что называют „действительностью“ и что временами казалось мне глупой выдумкой взрослых; я рано привык то с испугом, то с насмешкой отклонять эту действительность, и во мне горело желание околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные пределы».
Что вышло из этого восхитительного намерения? «Что-то благородное и великолепное может получиться из этого разнузданного мальчишки, – записывает Мария, которая видит его на лужайке сквозь раскрытые окна. – Он скачет, пританцовывает, катается, прыгает непрерывно, совершенно, как маленький жеребенок или козленок. Одежда перепачкана и помята, но упражнение идет ему явно на пользу, иначе он наделал бы каких-нибудь пакостей». Как только он отправлялся гулять в город, сыпались жалобы: «Герман ударил моего ребенка», «Герман разбил стекло», «Герман перевернул коляску с малышом…» Но когда сын рассказывает ей о прочитанных книгах или приходит к ней со своими тайнами, мать восхищается: «Это такая радость быть рядом с ним. У него всегда есть что-то новенькое… Он пишет замечательные стихи!»
Базель, его праздники, барочные дворцы, порт с сероватым молом над водами Рейна, усеянным устрицами, – все это очаровывает семейство Гессе. Интеллектуальная атмосфера – настоящее чудо: «Мы чувствуем себя как одна большая семья. Вместе любим и молимся вместе», – пишет Мария, которой вот-вот исполнится сорок, незадолго до рождения 13 июля 1882 года ее девятого ребенка Ганса.
Герман только что поступил в миссионерскую школу. Что делать с мальчишкой, она не знает: «Маленький Герман сегодня утром прогулял уроки. В наказание я заперла его. Это не возымело действия. „Меня бессмысленно здесь держать, мама, – услышала я от него. – Я ведь могу смотреть в окно, и это уже забавно“». В другой раз, после вечеринки, где пели, он спросил вдруг отца: «Ну что? Хорошо я пою, правда? Так же хорошо, как сирены?» И, лукаво прищурясь: «Интересно, я такой же злой, как они?» Иоганнес обеспокоен поведением Германа: «Я всерьез подумываю отдать его в какой-нибудь пансион за границей.
Мы очень нервные, слишком в чем-то слабые, мы не можем его удержать в рамках».
В миссии у пастора слишком много обязанностей. Мария тоже очень устает. После рождения Ганса в ее черты вкралась усталость, она похудела. Благодать оставляет ее. Она не носит больше длинные драповые платья, а только широкие муаровые, с узким корсетом, тесным и давящим, как свинец. С утра до ночи она хлопочет по дому, присматривает за детьми, тревожится, расспрашивает учителей, навещает больных. Пастор Пфистерер, единственный уважаемый маленьким Германом педагог, дал ей совет поскорее отправить мальчика в пансион. Доктор Гундерт прислал из Кальва согласие, выразил беспокойство: «Мне жаль вашего Германа от всего сердца, и я вас уверяю, меня не радует, что вы отправляете его далеко». Деду известно, что маленький дьяволенок талантлив: «…Он видит луну и облака, долго импровизирует на фисгармонии, рисует карандашом и пером чудесные рисунки, поет, когда хочет, совершенно чисто», – и дедушка-индиец шепчет на ухо своей дочери: «Вы должны в отношении него ждать милости Господней. Вы не можете передоверить кому-либо его воспитание».
Но в июне 1884 года родители приняли все же решение доверить буяна пансиону «Братья Марии». Правда, пансион был расположен близко от родительского дома, и воскресенья Герман проводил с семьей. Решению родителей он подчинился беспрекословно, но глотая слезы. Они смотрели, как он спокойно и строго удалялся в своей темной униформе – коротких панталонах и двубортном жилете. Быть может, он уже воспринял новую манеру держаться? Он худеет, бледнеет, становится молчалив, а дома всем кажется, что он сам с собой не в ладах. Он сутулится, его мучает мигрень, взгляд тускнеет. Он хорошо учится, интересуется латынью. Но, как дикая птица, которую крестьяне звали «recce», томится теперь в клетке, лишенный своей песни.
В сентябре 1884 года ударил гром, нарушивший это безмолвие.
Поздняя осень. Все дети в столовой. Звонит почтальон. Все переглядываются: что бы это могло быть? Телеграмма. Из Шопфхайма. Мария вскрывает ее и разражается рыданиями. Подбегает Иоганнес. Тео – Теодор Изенберг, сводный брат Германа, – исчез. Ему уже было восемнадцать лет, и он работал у фармацевта. Перспектива стать аптекарем его не радовала – он мечтал быть музыкантом. Родители отказались определить его в штутгартскую консерваторию – и он сбежал.
После двух дней и трех ночей мучительного ожидания Тео, однако, вернулся, голодный, весь в пыли, очень бледный, из Мюниха, где, как он объяснил, у него была встреча с музыкальным директором. Более чем когда-либо настроенный посвятить себя искусству, он умоляет родителей, убеждает братьев и сестер. Начинается длинный вечер. Слезы, поцелуи, крики, прикосновение к одиночеству – и компромисс. Решение принято: Теодор отправится к фармацевту в Шопфхайм на год, по истечении которого его запишут в музыкальную школу.
Это событие подействовало на Германа, как электрошок. Мальчик утер слезы. Он любуется Тео и невольно тянется за ним. В нем он уверен. Отдаться страсти, слушать свой внутренний голос, несмотря ни на что, – вот это действительно важно. Старший брат стал в глазах мальчика живой легендой. Его упорство – героическое, а мятежный дух сродни евангельскому. Герман давно пишет стихи и в этот вечер отчетливо осознал, что неподчинение – та свобода, которую дает искусство, что одиночество – свидетельство таланта. И его окрыляет это иррациональное утверждение своей значимости.
Чтобы определить свое будущее, мятежный Гессе использовал короткую формулу: он «либо будет поэтом, либо никем, совсем никем!» В нем «настолько сильно самолюбование и настолько велик страх», что он повторяет, одновременно тоскуя и радуясь, с лицом, орошенным слезами: «Поэт или никто!» Этот взрослый ребенок выражает себя в сентиментальных строфах, немного монотонных и притом порой очень трогательных. Марию радуют успехи сына, Гундерт, однако, не скрывает своего беспокойства: «Яболее доволен его здравыми решениями, чем его стихами. Они мне кажутся для его возраста почти естественными». В семь лет худой и востроглазый мальчишка или носится с индейскими перьями на голове, или вдруг нацарапывает грязными руками какие-то строчки, совершенно убежденный в своей исключительности. Его карманы набиты карандашами и обрывками бумаги. Бумага – его страсть: маленькие листочки испещрены линиями, словами, цветными рисунками. Марулла любуется братом, Ад ель нежно следит за каждым его движением, маленький Ганс хватается за его фалды. Своевольный брат, кажется, вернулся в лоно семьи. Он играет на скрипке, участвует в молитвах и семейных пениях.
В 1885 году у Юлии усилились приступы грудной жабы. «Смерть сжала мне сердце», – говорила она близким. Ее правая нога уже была поражена гангреной, ей оставалось жить несколько недель. В субботу 22 августа старая миссионерка поднялась на своем ложе, будто преображенная: «Христос – моя жизнь. Смерть – это благо». Она говорила с мужем, «изливая душу в горячей молитве». Мария потеряла покой. «24 августа я торопилась в Кальв… У мамы было что-то с головой. Но когда я подошла к ее кровати, она пристально посмотрела на меня, узнав, улыбнулась и радостно поздоровалась». Мария оставалась у изголовья матери до ее последнего вздоха и записала в дневник: «18 сентября, в четверть четвертого пополудни Господь взял эту душу, оставившую земной мир». Два дня спустя состоялись похороны.