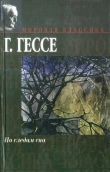Текст книги "Герман Гессе, или Жизнь Мага"
Автор книги: Жаклин Сенэс
Соавторы: Мишель Сенэс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Зимой 1928 года Гессе увозит Нинон в Давос на спортивные состязания, посреди пушистых снегов они становятся еще ближе друг другу. «Когда спускаешься с горы на лыжах, – пишет он, – чувствуешь ступнями и коленями волну каждого поворота, крутизну склона, мелкие подъемы и спуски так ясно, как любовник ощущает, лаская, тело любовницы». Вот он рядом с Нинон, готовый спуститься по склону: он в грубых лыжных ботинках и толстых носках, в смешной фуражке швейцарского таможенника; она в черном комбинезоне из ратина, словно маленький трубочист.
В 1930 году они отправляются в «Шантареллу», гигантский отель, заполненный берлинцами, спекулянтами и коммерсантами всех национальностей. «Это нам нравится, – признается он Ад ели, – эта среда хороша тем, что никто меня не знает и никто не навязывает своего присутствия, поскольку здесь играют роль только деньги и общественное положение». На следующий год он едет в долину Энгадин с друзьями: Томасом Манном и Самюэлем Фишером.
Когда в записях и письмах этого периода Гессе говорит «мы…», речь идет не о нем и его подруге. Он создает нового героя – Гольдмунда, чувственного юношу-блондина. «Мы вдвоем, Гольдмунд и я, уточняет он, – две стороны одного существа. Гольдмунд составляет одно целое со своим другом Нарциссом… Параллельно я, художник Гессе, испытываю необходимость быть дополненным Гессе, который почитает ум, мысль, дисциплину и даже мораль, который был воспитан в традициях пиетизма и который бесконечно должен поверять моралью невинность своего поведения и даже своего искусства».
В новой книге звучат два внутренних мира Гессе: достойный сын Иоганнеса под маской молодого аббата-эрудита, которому он дал имя Нарцисса, и ребенок Марии – Гольдмунд, художник, призванный открыть единство поступи женщины и смерти. «Нарцисс – еще в меньшей мере чистый интеллектуализм, чем Гольдмунд – чистый сенсуализм. Если было бы иначе, один не нуждался бы в другом, они не дополняли бы друг друга как взаимозависимые сущности, сияющие по краям одного центра. Нарцисс может произнести грубое слово святого и распутника и в конце с любовью оправдать всю жизнь Гольдмунда…»
Какое же место занимает сейчас в его жизни Нинон? Насколько ей пришлось отойти в тень? Как она реагирует на происходящее, когда не спускает с него глаз и требует, уже одержимая собственническими устремлениями, такой же преданности от него? «Чувственное удовольствие от близости с женщиной, – пишет Герман, – не является для Гольдмунда способом достичь духовного обладания или отношений, которые могут возвести мужчину и женщину в ранг личностей, исполненных значимости. Гольдмунд обретает высшее проявление любви в искусстве». Гессе нуждается в счастливом одиночестве художника. Никогда он не сможет целиком посвятить себя женщине: Нинон должна знать об этом. Он пишет ей в мае 1931 года: «Пожалуйста, не отчаивайся. То, что я тебе вчера не смог ясно ответить, мне не менее больно, чем тебе…» Начинается обычная суета, сопутствующая всем супружествам: выбор дома, изменение жизни, новые обязанности. «Ямогу терпеливо переносить подобные состояния лишь с трудом, обращаясь к своим душевным резервам, без спешки, медленно, так, как рождается мое произведение. Мне необходимо внутреннее пространство, где я был бы совершенно один, куда никто и ничто не имели бы права войти. Твои вопросы угрожают этому пространству!» – предупреждает Герман.
Нинон не сидит на месте с тех пор, как меценат и друг Германа Ганс Бодмер построил, согласно их пожеланиям, великолепную виллу над озером Лугано на склоне, нависающем над деревней и испещренном лесными тропками. Она обставила на свой вкус все комнаты и кухню, превратив дом в настоящее «гнездо». Герман дрожит от желания и страха, подписывает, поеживаясь, контракт, на пожизненное владение домом. Его одолевают мигрени, и порой, быть может, он упрекает Нинон в том, что она сплела сети, в которых он чувствует себя утерявшим отчасти свою свободу. Суматоха его раздражает: «В последнее время ты много раз нарушала мой внутренний ритм». Как сложатся семейные отношения с этой умной и основательной женщиной, которая точно знает, чего хочет? Не зреет ли очередное фиаско под этой соблазнительной кровлей, в этом шикарном жилище, угнездившемся на холме, который местные жители зовут теперь «Коллина д'Оро» Золотой Холм? Может ли Гессе утверждать, что останется здесь? Он доверяет свои страхи сестре Адели и с горячностью решает высказать Нинон все.
Он любит, это правда, но что ждет ее? Терпение, доверие, самоотречение. Он обнимает ее за талию, и они вместе обходят свои владения. Дом устремляется к небу, утопая в цветах, деревьях, птичьем гомоне. Он вновь взял свою шляпу садовника, надел фартук и поношенные ботинки. Окна открыты на закат. Балкон освещается, и из-за папоротника, диких вишен и сирени показывается веранда. Взволнованный Герман сует руки в карманы, а Нинон, которая стоит спиной, кажется, скрестила руки на груди. «Важно одно, – шепчет он, – что она составляет единство с тем, для чего я живу, с областью мечты и созидания в моей душе».
Нинон умна. Она не обладает ни агрессивностью Мии, ни беззаботностью Рут. И узнает Германа в Гольдмунде, который «не служит женщине… он подле нее утоляет жажду, как из источника, самого благословенного в природе, впитывает по капле опыт, радость и мучение, из которых, когда приходит время, он создает свои произведения, свой мед…». Венка сумеет позволить о себе забыть. Она будет продолжать свои изыскания, путешествовать, покинет его, чтобы вернуться, внимательная к нему без навязчивости. Нинон стоит рядом с ним на фотографии тридцатых годов в жемчужном ожерелье и мягком платье, открывающем шею. Отчетливая морщинка прорезает ее лоб между бровей. Она не любезная, не добродушная, но задумчивая и погруженная в себя, в ее взгляде читается холодная решительность.
Герман женится вновь 14 ноября 1931 года. Простой гражданской церемонии оказалось достаточно, чтобы наконец разведенная Нинон стала его женой. Он представляет ее родным во время их пребывания в Германии. Для этой официальной церемонии Гундерты собрались в Людвигсбурге у Карла Изенбер-га вокруг столика с фруктами под изображением Христа в образе пастуха с нимбом, сияющим на фоне восхода. Радостная Нинон улыбнулась всем, поцеловала Маруллу и Адель, оказавших ей нежный прием в полном соответствии с пиетистскими традициями.
Осень позолотила «Коллина д'Оро». Нинон вешает картины великих мастеров и разносит по дому букеты. Герман ставит последнюю точку в своем романе и углем рисует на больших листах корни деревьев или кистью набрасывает пурпурные буки, бросающие тени на фиолетовые деревенские домики. На вилле везде разбросаны его акварели, которые, как ему сказал однажды Ромен Роллан, «столь же прелестны, как фрукты, и смеются, как цветы». Он рисует и пишет, и оба процесса составляют для него одно целое.
Отныне на Золотом Холме царствует мыслитель Гессе. В мире у него есть последователи, он отвечает на огромную почту. Он обрел знание и способен различить «реальное» и «нереальное». Освобожденный восточной мистикой и анализом Юнга, он находится в состоянии глубокого самопостижения и излучает сияние мудрости.
У него буквально вырывают его последнее дитя, «Нарцисса и Златоуста», сказочную историю мысли и любви в сумеречном безвременье Средневековья. Многие его читатели, травмированные диким «Степным волком», его необычной авангардной структурой, найдут здесь форму более доступную, и писателя, чья ясная проза так ими любима. Под укрытием мирного монастыря Мариабронна интеллектуал Нарцисс хочет преодолеть себя, чтобы приблизиться к Богу-Отцу. Златоуст, нежный и горячий, ближе Матери-Земле и тонко ощущает безграничную Природу. Как и в «Степном волке», здесь Гессе проводит мысль о том, что лишь постижение божественного позволит людям преодолеть их одиночество, только оно способно излечить безумие современного мира.
Карлу Изенбергу он пишет: «Ты совершенно прав, когда говоришь о сильном влиянии, которое оказал дедушка Гундерт на дедушку Гессе. То, что могло бы объяснить их отношения, содержится в образе Гольдмунда, и главная проблема все та же: что две натуры, совершенно различные, становятся очень важными одна для другой и даже почти подобными». Гессе заставил светиться в глубоком единении два полюса, которые так часто его раздирали, а теперь излучают сострадание, которое он более не позволит себе потерять.
Его бюст отлит в бронзе, его произведения известны во всем мире и переведены на многие языки, и в пятьдесят два года ему необходима передышка. Он проводит часы в своем саду, в соломенной шляпе, защищающей от солнца глаза, являя образ спокойной уверенности. Речь не идет больше о том, чтобы «писать романы прекрасным языком – он хочет дать молодежи основу осознания действительности». «Не нужно, – утверждает он, – чтобы они взяли лишь мои слова или слова Библии или любую другую попытку в области художественной выразительности. Я хочу, насколько это возможно, внести в их души слово за словом глубокий смысл».
Каждый день он склоняется над рабочим столом. На вершинах гор тает снег. Появляются первые цветы. Холм покрыт зыбкими тенями. Вокруг Германа разбросаны книги и заметки, наверху, над библиотекой, лежит старательно сохраненная скрипка из Маульброна. Он покрывает страницы аккуратными строчками. Он сам для себя бог, боль и мир. Куда он отправляется – молиться, путешествовать – кто знает? Когда он поднимает голову, то видит поля, лес, где снуют белки, небо, о чистоте которого свидетельствует сияющая гладь озера. Могут наступить сумерки, зажечься лампы, ночь может омыть тьмой травы и уступить место заре, но останется герой, навечно отмеченный нестерпимыми страданиями, с глазами, полными огня за круглыми стеклами очков, с утонченной германской изысканностью черт, таящих вызов.
Гессе может теперь посвятить себя своему гимну – своего рода сказке или легенде, которую он назовет «Паломничество в Страну Востока». Их цель – достичь не географического Востока, а родину вечной молодости души. Отовсюду и ниоткуда они спешат, пересекая время и пространство: Европа, Германия, Средневековье. Они погружаются в рощи, их питает запах жасмина. Они идут по грязи, чтобы закончить свой маршрут в ущельях итальянской горы, между озером Ком и Лугано. Там странный персонаж Лео, который представляется всем в облике скромного слуги, оказывается верховным магом, находящимся на священной службе. Быть может, это сам Гессе, облеченный миссией поэта в своем королевстве? Королевство совсем не похоже на сон – абсолютная реальность, созданная благодаря уважению и признательности, завоеванных искренним жизненным путем.
Закрыв рукопись «Паломничество в Страну Востока», он отсылает ее на суд Алисы Лётольд. И получив благоприятную оценку, пишет ей: «Символика такой книги не нуждается в том, чтобы быть понятой читателем; нужно, чтобы он позволил ее картинам проникнуть в себя. Эффект должен состоять в подсознательном восприятии». Позднее, помещая ее в сборник своих произведений, он скажет: «„Путешествие в Страну Востока“ принадлежит вместе с „Сиддхартхой“, „Демианом“ и „Степным волком“ к самым важным моим творениям, к тем, создание которых было для меня жизненной необходимостью…»
Гессе с удовлетворением может сказать о себе: «Думаю, что я продвинулся на шаг в искусстве в том смысле, что научился надеяться на лучшее и переживать терпеливо периоды творческой пассивности, борьбы, раздражения и непонимания, воспринимать эти несчастья как повод для медитации». Он обрел способность проницать смысл сущего. Высшая форма понимания – любовь – появилась в нем. Но слова, сами слова, которые он слышит во всем богатстве их резонансов, не могут до конца передать то внутреннее таинство, где в чередовании неба и земли, ночи и дня, тяжести и легкости появляется Бог. Одна музыка может это выразить. И дома слушает «законсервированных, как он говорит, – на граммофоне» Моцарта, Гайдна, Стравинского. «Теперь для меня начался период жизни, в который созидать сформированную уже, и достаточно отчетливо, личность не имеет ни малейшего смысла, – пишет Гессе в своем „Наброске автобиографии“. Это, напротив, момент, когда, растворяясь в драгоценном мире, душа стремится обрести свое место в вечном и вневременном Порядке мироздания».
У него резко ухудшается зрение, но его обостренные временем черты одухотворены. Со своими сыновьями, теперь уже мужчинами, он поддерживает горячие и близкие отношения. Бруно тоскует. Ему двадцать семь лет, и недавно была разорвана его помолвка. Мартин еще в Германии, в школе Дассау. С братом Хайнером он участвует в движении Социалистического интернационала. «У них коммунистические взгляды, – пишет Герман в марте 1932 года своему кузену Фрицу Гундерту. – Я буду доволен, если они найдут там точки соприкосновения и не только будут стараться очистить и улучшить жизнь, но, главное, испытают счастье жизни, полной смысла, обращенной ко всему сущему». Он любит на них смотреть и видеть в них фамильные черты великой пиетистской семьи. «Яне знаю, как различить, – пишет он Марулле, – среди многочисленных черт нашего отца следы облика дедушки Гундерта. Некоторая очень тонкая одухотворенность, какой-то благородный страх ошибки и наказания, который легко увидеть сквозь все христианские запреты, некоторая склонность к характеру и мышлению Индии – все эти свойства двух личностей для меня часто сливаются».
Гессе обвинял религиозное воспитание в своих несчастьях и ненавидел Бога, который омрачил его детство. Но он был признателен Христу за попытку воцарить любовь среди людей и не почитал ни одну из церквей. Мало-помалу, однако, его озлобленность себя исчерпала, и он пришел к необходимости смотреть на всех с сочувствием. В конце января 1933 года он пишет Хорсту Шварцу: «Ябольше не сужу испорченное и черствое человечество, еще меньше приветствую, в противовес этой разнузданности, революцию, и более всего верю в магию любви». Гессе хочет помочь своим современникам: «Все было бы хорошо, если я бы мог удовлетвориться бездействием и мудростью ЛаоЦзы; но хотя знаю больше, чем многие, я, как все европейцы, эгоист, снедаемый жаждой желаний, и надеюсь на наивное счастье творить, доказывать, созидать».
30 января 1933 года Гинденбург провозгласил Гитлера канцлером рейха. Уже более десяти лет говорят об этом маленьком служащем в черной одежде, который в кабаках и на стадионах кричит в микрофон, призывает к реваншу, громит демократов, большевиков и евреев, вербует безработных и разорившихся крестьян. «На самом деле, – говорит Гессе Артуру Штолю 24 марта 1933 года, – то, что началось по ту сторону границы, в Германии, это настоящий и ужасный погром против разума, с заключением в тюрьму, с применением силы, побоищами, убийствами. Но те, кто больше всех кричит и рассылает проклятия, остаются живы и невредимы, а страдают, почти без исключения, мирные ученые, служащие, художники…»
Имя Томаса Манна в черном списке. Гессе, названного пацифистским дезертиром, вот-вот настигнет очередная волна ненависти. «Я старый человек, – пишет он Эрнсту Коппе-леру. – Для пожилых людей в это время тяжких испытаний единственно важен вопрос разума, веры, того глубочайшего сострадания, которое рождается на пороге мучений и смерти». Он мужественно продолжает публиковать в газетах и журналах комментарии к трудам, которых все боятся касаться: к книгам евреев, католиков и адептов тех верований, которые идут вразрез с официальным мировоззрением… «Против меня ничего нельзя сделать, – заметит он в начале апреля. – Но до меня дошли несколько писем взволнованных читателей, которые предупреждают, что я должен молчать…»
В конце марта и в апреле у Гессе в Монтаньоле гостит Томас Манн, который в феврале опубликовал в Берлине социалистический манифест и тут же подвергся преследованиям. Новый властелин с черными усами, одетый в габардин, счел знаменитого писателя опасным террористом. «Гитлеровский террор будет царить еще долго, – напишет Герман, – до того момента, когда диктатор совершит ложный шаг во время войны и проиграет ее». пока в Германии волна разнузданной нетерпимости захлестывает невинных людей. Муж Адели, Герман Гундерт, скромный пастор из Шварцвальда, потерял приход по той простой причине, что не был членом национал-социалистической партии и не принадлежал к национал-социалистическому пасторскому союзу. В Швейцарии полно беженцев, и Гессе открывает отчаявшимся доступ в свой дом. «Нищету германцев невозможно выразить. Я переношу этот период немного лучше, чем раньше, на протяжении прошедшей войны, но не потому что на этот раз знаю точно с самого начала, где я, и не потому что не могу согласиться с сегодняшней официальной идеологией Германии, а просто потому что я теперь стар и менее привязан к жизни…»
Его вдохновляет также письмо, которое он получил 11 марта из Франции и которое с волнением перечитывает: «Дорогой Герман Гессе, я давно собираюсь Вам написать. Меня мучает мысль, что один из нас может покинуть эту землю раньше, чем я успею выразить Вам свою глубокую симпатию и признательность за каждую Вашу книгу, которую я прочел. Меня совершенно восхитили „Демиан“ и „Кнульп“. И, наконец, ваш „Златоуст“, которого я еще не закончил и продолжаю смаковать, боясь прочесть слишком быстро. Ваши почитатели во Франции (и я Вам их постоянно добавляю) еще, быть может, не слишком многочисленны, но тем более преданны… Андре Жид».
«Андре Жид много для меня значит, – пишет Гессе Артуру Штолю. – Среди нескольких всемирно известных писателей он, – вместе, быть может, с Гамсуном, – единственный, к которому я испытываю глубокое уважение и которого я люблю». То, что автор «Имморалиста» выразил ему таким образом свою симпатию накануне великих потрясений в Европе, было для Германа, по его словам, «лучом света».
Глава XIII КОЛЛИНА Д'ОРО, ИЛИ МАСТЕР ИГРЫ
Я не нуждаюсь в оружии против смерти, потому что Смерти нет.
Г. Гессе. «Из неопубликованного»
В конце марта 1933 года нацистское правительство было облечено всей полнотой власти, а работа проголосовавшего за него Рейхстага была приостановлена. В мае были распущены партии и синдикаты. Герман Гессе с печальным вниманием, но без удивления, следит за происходящим, рассматривая его как неизбежное следствие недоверия немцев веймарскому режиму, не способному заставить себя уважать. Вслед за порабощением, которого германский народ захотел сам, ему ясно виделись новая война и новый крах.
Гессе, вечный сторонник мира, пишет Томасу Манну 18 марта 1934 года: «Яне знаю хорошо, чего бы я хотел, какие решения я бы принял, если бы от меня зависела судьба человечества… Я все так же продолжаю думать, что я бы дал возможность французам форсировать Рейн, с тем чтобы Германия проиграла теперь войну, которую в течение нескольких лет она, быть может, будет выигрывать».
Первые жертвы Гитлера – это немцы: и не только политические противники и евреи. Когда 2 августа 1934 года умер президент-маршал Гинденбург, постом «фюрера и канцлера рейха» завладел преступник. Многих из тех, кто ему сопротивлялся, он уничтожил страхом быть вытесненными своими старыми союзниками. Как после «ночи длинных ножей» можно было игнорировать его варварские побуждения? Не надо оплакивать Рема, который стоил не больше своего палача. Но не нужно забывать, что и первыми противниками нацизма были немцы.
«Эти германцы, – напишет Гессе 22 августа 1945 года, – которые не только на протяжении 1939 года, но и предшествующих ему, подвергались преследованиям и вынуждены были влачить жалкое существование, теряли посты, честь, свободу, работу и способность действовать, страдали и голодали в тюрьмах и лагерях, теперь, быть может, самые мудрые и зрелые из европейцев».
Он возмущен тем, что «апатия» по отношению к Гитлеру заставила слово «немец» стать «надолго в мире ругательством», но считает «естественным, что окружающий мир ненавидит германцев, не задаваясь вопросом, как они относятся к Гитлеру».
Хотя Герман при каждом удобном случае настаивал на своем швейцарском гражданстве, его всегда считали немцем. «У меня с Германией очень тесная связь, – признает он, – хотя бы даже финансово, и морально тоже, по соображениям литературным и лингвистическим, и еще по той причине, что там у меня близкие родственники и друзья, которые там живут и чувствуют себя там дома». Он экономически зависим от страны, политические установки которой осуждает на протяжении двадцати лет. «Мне нужно рассчитывать, – говорит он, – на период, в течение которого у меня практически не будет доходов». Писатель будет продавать рукописи с автографом – средство, к которому он уже прибегал в трудные времена и главное достоинство которого состояло в возможности не чувствовать себя побежденным.
В Берлине Самюэль Фишер, храбро пренебрегая антисемитским террором, не хотел слышать об эмиграции. «Он не мог представить себе, – пишет его дочь, – как можно покинуть свое издательство и Германию». И в результате он погиб 16 октября 1934 года в своем доме в Грюневальде. По договору между наследниками и министерством пропаганды семейное предприятие в 1935 году было поделено. Часть осталась в Берлине под руководством некоего Петера Зуркампа, который не стал прислуживать нацистам, как они рассчитывали. Другая, под руководством Готфрида Бермана, зятя Фишера, обосновалась в Вене, где издавались книги авторов, преследуемых в Германии. Гессе, относившийся, конечно, к последним, был тем не менее провозглашен таковым только в 1939 году.
В 1935 году немецкие власти потребовали у Гессе подтверждения его арийского происхождения. «Речь, вероятно, идет об ошибке, – ответит он с юмором, – поскольку я Швейцарский гражданин и член Общества швейцарских писателей… Искусство Германии и ее литература у нас в Швейцарии всегда и во всех формах приняты самым дружеским образом; и Берлин другой декларацией Общества писателей к нам, швейцарцам, проявил взаимное уважение».
В конце того же года немецкие журналы серьезно атакуют Гессе, обвиняя его, «немецкого поэта», в предательстве своего народа и «в сообщничестве с евреями по распространению за границей ложных и вредоносных идей». Вил Веспер, один из предвестников литературной диктатуры, в одном из швейцарских журналов обращается к писателю «с ненавистью, несдержанностью и в выражениях, столь непристойных», что тот чувствует себя «немного испуганным». В сентябре 1936 года предположения Гессе, что нацисты будут «стремиться задушить его и его творчество, совершенно подтвердились». Только упорство Петера Зуркампа смогло помешать запрету на издание его книг. В этих условиях писателю потребовалось определенное мужество, чтобы отправиться в северную Германию для консультации со своим окулистом. Это не было, говорит он, «безмятежное путешествие». По пути он увидел «ужасную разруху, разгром всего того, что люди, подобные нам, любили, того, в чем они нуждались, чтобы'жить». «Мировая история, – пишет он немецкому другу, – не слишком благоприятствует нашему общению», намекая на контроль за его перепиской со стороны гестапо.
В 1942 году часть книг Гессе была запрещена на территории рейха, часть подверглась жестокому рецензированию.
Вероятно, можно читать книги в том темпе, в каком они написаны: одни быстро, другие медленно. «Игра в бисер» – этот собор с огромным нефом, высоким сводом, длинными галереями вокруг хоров, с запутанными и глубокими криптами. Предупреждение торопливому читателю: не старайтесь быстро пересечь паперть! Войдем под эти спокойные своды как друзья покоя и размышления. «Игра», о которой идет речь, не похожа на другие, не похож на то, что мы считаем бисером, и ее материал. Действие этого фантастического романа отнесено к 2480 году. «Игра была поначалу не чем иным, как остроумным упражнением памяти и комбинационных способностей в среде студентов и музыкантов, и играли в нее… в Англии и Германии еще до того, как она была „изобретена“ в Кёльнском высшем музыкальном училище, где и получила свое название, которое носит и ныне, столько поколений спустя, хотя давно уже не имеет никакого отношения к бисеру. Бисером вместо букв, цифр, нот и других графических знаков пользовался ее изобретатель, Бастиан Перро из Кальва, странноватый, но умный и общительный человеколюбивый теоретик музыки… Перро соорудил себе, по примеру немудреных счетов для детей, раму с несколькими десятками проволочных стержней, на которые он нанизал бисерины разных размеров, форм и цветов. Стержни соответствовали нотным линейкам, бусины – значениям нот и так далее, и таким образом он строил из бисера музыкальные цитаты или придуманные темы, изменял, транспонировал, развивал, варьировал их и сопоставлял с другими».
Исток Игры лежит, таким образом, на стыке математики и музыки – самых возвышенных, по словам писателя, областей человеческого знания. «Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи… всей этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет как органист на органе, и совершенство этого органа трудно себе представить – его клавиши и педали охватывают весь духовный космос…»
Видимо, уже в 1930 году, когда писал «Паломничество в Страну Востока», Гессе думал об «Игре в бисер», которую он посвятит «паломникам Востока» – символической «утренней страны», где однажды пробудится знание. Этот вымышленный край, который так и не открыли паломники, мог бы быть Касталией, которая появляется в следующей книге и обязана своим именем чистому источнику в Дельфах, струи которого вдохновляли поэтов.
Если у Гессе и возникали трудности во время создания «великого труда старости», то не из-за отсутствия вдохновения, а из-за событий того времени. В марте 1934 года последняя из трех версий «Опыта общепонятного введения в историю Игры в бисер», написанного в 1932 году, «стала невозможной и лишенной смысла», потому что в ней присутствовала пародия на политику современной Германии, что ставило этот текст вне обсуждений.
В сентябре 1934 года Гессе заканчивает четвертую и окончательную версию «Введения», которая появится в декабре в Берлине, в «Нойе рундшау». Из нее понятно, с каким старанием, сохранив основную идею, автор ушел от действительности. «Но на протяжении этого времени, – вспоминает издатель Фолькер Михельс, – копии политической версии продолжали тайно циркулировать в Германии».
В конце 1935 года Гессе пишет: «Моя жизнь оставляет желать лучшего, и поэтому моя работа оставлена. На протяжении двух летя не продвинулся ни на шаг». Кажется, ему препятствует все: здоровье, финансовые проблемы, смерть или неверность друзей, нападки, объектом которых он является, тысяча разочарований.
В мае 1936 года он успокаивает Петера Зуркампа: «Недавно я вновь стал верить, что продолжу работать над романом». В сентябре 1939 года разразилась давно назревавшая война, и писатель повторяет свое желание «закончить труд, с которым провел последнее десятилетие, и передать его, если возможно, в мир, где он будет издан и прочтен». Однако в конце года возраст, дающий о себе знать, и война, забирающая силы, заставляют его сомневаться: «Яначал настоящий труд жизни. Самое важное, впрочем, уже закончено. Позднее, если потребуется, в нем увидят с достаточной ясностью, каковы были мои намерения; но окончание его остается весьма проблематичным».
С немного болезненным юмором Гессе замечает, как медленно движется вперед: «…Я пишу строку или две в день. Раньше я бы посмеялся над тем, кто сказал бы мне, что я буду работать с такой скоростью. Остается лишь надеяться, что моя вода, которая течет из этой маленькой тоненькой трубки, плещется не хуже, чем раньше». Но когда он измеряет результат своей работы не количеством написанного, а степенью явленности духовной субстанции и местом в его жизни, его комментарии становятся более спокойными. «Орден Кнехта, – пишет он 27 января 1942 года Фрицу Гундерту, – и „Игра в бисер“ наполняют на протяжении более чем одиннадцати лет мою внутреннюю жизнь; когда внешний мир враждебен нам, мы создаем другой, такой, где наше дыхание не было бы стеснено. Для меня существует некое количество понятий и идей, которое будет однажды воспринято тем, кто поймет вполне мою книгу». И наконец может сообщить дочери Самюэля Фишера: «Весной я написал несколько последних фраз большой работы, начавшейся одиннадцать лет назад; теперь я ее смог наконец закончить; я часто сомневался, что мне это удастся».
«Игра в бисер» должна была появиться в 1942 году, но издательскому дому Зуркампа публикация романа была запрещена министерством пропаганды доктора Геббельса под предлогом того, что «культура там представлена как элитная деятельность синода избранных умов» без участия политической власти. В Бадене, во время осеннего лечения, Гессе получил из рук Зуркампа рукопись, которую напрасно отдал семь месяцев назад в столицу рейха.
Какая еще судьба, несмотря на принятые автором меры предосторожности, могла быть уготована материалистами для книги, которая представляла собой противоядие претензиям индустриальной цивилизации? Что могли пророчить этой исполненной религиозного смысла книге любители фельетонов? что могли думать о прозе, проникнутой музыкой Баха и Моцарта, увальни, влюбленные в военные марши? Волшебная страна Касталия рухнет из-за непреодолимого человеческого противоречия между индивидуальным и коллективным. И тут таится самое замечательное проявление гения Гессе: он сумел создать метафору идеального мира и, устами Плинио Дезиньо-ри, назвать те опасности, которые ему всегда будут угрожать. урок великим мира сего должна преподать судьба магистра Игры, Йозефа Кнехта: верный своему имени, он выбирает в качестве завершения своей карьеры обязанности наставника маленького мальчика.
Какое значение имеет после этого критика швейцарского писателя Рудольфа Гумма, даже если она иногда расстраивала Гессе, даже если заставляла страдать! Что может Гумм поставить ему в упрек, прочтя книгу, изданную наконец в Швейцарии, кроме того, что авторская концепция не соответствует его собственной? Правда, пребывая в хорошо понятном приступе дурного расположения духа, писатель сам называет в 1945 году «Игру в бисер» «большой неудачей своей карьеры».
Но он признается своему сыну Мартину: «Для меня эта книга… стала большим, чем идея и Игра, – она стала защитой против мерзкой эпохи и убежищем, куда, будучи готов духовно, я мог входить, где оставался часами, и ни один звук внешнего мира не властен был там меня настичь». Что это: башня из слоновой кости, где находит приют эгоист и трус? Думать так значило бы пренебречь тем, что часто отвлекало Гессе от работы над романом: его помощь своим несчастным современникам.