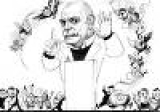
Текст книги "Газета Завтра 803 (67 2009)"
Автор книги: "Завтра" Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Чжан Тиу СВОБОДЫ И ГАРМОНИИ!.. К 50-летию Союза писателей России
Пятьдесят лет Союза писателей России – это настоящая веха, не побоюсь сказать, не только в истории самой организации, но и всего российского общества. Конфуций говорил: «Я в 50 лет осознал своё предназначение». В 50 лет он вдруг понял свою возможность и свой предел; ему именно в это время было дано понять, что он должен делать, а что нет, что он в силах делать, а что нет. Думаю, Союз писателей России, которому недавно исполнилось 50 лет, сможет по-новому убедиться в своём предназначении.
Русская литература – великая литература, созданная великим народом на великом языке. Её величие – в её традиции, которая соединяет настоящий гуманизм и высокое духовное стремление. От древнего героического эпоса "Слова о полку Игореве" до "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева, от "Станционного смотрителя" Пушкина до "Петербургских повестей" Гоголя, от величайших романов Тургенева, Достоевского, Толстого до "Вишневого сада" Чехова, "На дне" Горького, от "Тихого Дона" Шолохова до "Матрёнина двора" Солженицына и "Прощания с Матёрой" Распутина, все высшие достижения русской литературы без исключения выигрывают прежде всего именно неустанным вниманием к судьбе человеческой, любовью к человеку.
Глубокий гуманизм, высокая нравственность, духовность, отзывчивость – вот ключевые слова традиции русской литературы. И хотя ныне наблюдается иная тенденция развенчания литературы и снижения её статуса до уровня развлечения и игры, но считаю всё-таки – это заблуждение, явление временное, преходящее, потому что не отвечает духу истинной русской литературы.
Русская литература романом "Капитанская дочка" Пушкина впервые вошла в поле зрение китайского читателя в самом начале ХХ века. На протяжении столетия русская литература активно участвовала в процессе формирования новой китайской культуры и духовной жизни китайского народа. Её так высоко ценят и глубоко любят в Китае, что порой и не считают за "иностранную литературу". Русская литература занимает такое важное и уникальное место в китайской духовной жизни, что никакая другая иностранная литература с ней не сравнится. Сила русской литературы – за что её любят и ценят в Китае особо – это именно её гуманность и духовность.
Помню, однажды на встрече китайских и русских писателей известный литературный критик Владимир Бондаренко задал китайским коллегам очень любопытный вопрос: "Мы все хорошо знаем, что русская и советская литература в своё время оказала на Китай огромное влияние. А что касается современной русской литературы, то нужна ли она ещё сегодняшним китайским читателям?" Я понимаю суть этого вопроса. Но хотелось бы исследовать его в трёх аспектах. Каким успехом может пользоваться современная русская литература, это во многом зависит от того: во-первых, в какой степени она сохраняет свою великую традицию, свою национальную идентичность, т.е. насколько она останется именно "русской" литературой и как прежде возьмёт на себя ответственность за духовный рост и нравственную высоту народа; во-вторых, что мы, китайские русисты, будем делать для распространения русской литературы; в-третьих, как мы, китайские и русские писатели, деятели культуры, общественные организации, будем содействовать и бороться за многообразие и многополярность мира при условиях глобализации и царящего повсюду духа коммерции, что мы сможем делать для себя, друг для друга и для этого мира?
Литература является тем самым мостом, через который углубляется взаимопонимание народов и укрепляется дружба. Чтобы построить этот мост, нужны общие усилия писателей, переводчиков, издателей и соответственных организаций. Кроме того, очень важна и подготовка молодых специалистов по русской и китайской литературам. Мы это прекрасно понимаем и прилагаем огромные усилия для этого. В настоящее время китайская русистика испытывает бурное развитие. Она получает специальную политическую и финансовую поддержку непосредственно от государства и местных правительств, что способствует популяризации русского языка и литературы в Китае.
Если конкретно о Шанхайском университете иностранных языков, где лично я преподаю, то мы уже шесть лет подряд устраиваем Олимпиаду по русскому языку вузов Южного Китая. На днях в нашем университете при непосредственной поддержке министерства образования Китая успешно завершилась Первая всекитайская Олимпиада по русскому языку, которая уже стала регулярным мероприятием в межправительственной программе Китая и России в области образования. На этом конкурсе соревновалось 170 участников из 62 вузов. Среди них 45 получили призы разных степеней. Всем призёрам предоставлена возможность стажироваться в российских вузах за счёт китайского правительства. Сразу после Олимпиады мы провели ещё и международную научную конференцию, посвящённую 300-летию преподавания русского языка в Китае. В конференции участвовало 130 китайских учёных и более 70 зарубежных русистов из более чем 20 стран. Участники конференции обсуждали актуальные проблемы в преподавании русского языка и литературы, историю, нынешнее состояние и перспективы китайской и зарубежной русистики. Стоит отметить, что наша конференция привлекла небывалое внимание ведущих китайских и российских СМИ. Более 100 газет, радио, телеканалов и сайтов передали информацию о ней. Могу с гордостью сказать, что эти мероприятия непременно дадут большой толчок к популяризации специальности "русский язык и литература" и распространению русской культуры в Китае.
Нас особенно радует, что на наши усилия откликнулись единомышленники в России. Всё это непосредственно отражалось в проведении Года России в Китае и Года Китая в России. Нам было особенно приятно, что во многих крупных мероприятиях Союз писателей России принимает активное участие. Насколько мне известно, Союз писателей России первым среди творческих организаций установил контакты и начал плодотворное сотрудничество с китайскими коллегами после распада Советского Союза. Об этом часто и с особой теплотой вспоминают китайские писатели. Регулярные взаимные визиты и встречи, переводы и издания произведений современных писателей на китайском и русском языках. Всё это значительно расширяет и укрепляет дружбу, взаимопонимание между нами. Я помню, как в 2001 году делегация Союза писателей России участвовала в Шанхае в международной конференции "Русская литература после распада Советского Союза", и с каким успехом совершила визит в наш университет делегация Союза писателей России в составе Ганичева, Распутина, Бондаренко, Сегеня и других. Помню наши встречи и задушевные беседы. Именно доброта и искренность русских друзей помогли мне глубже осознать свой долг и смысл своей переводческой и педагогической деятельности. Всё это привело меня к твёрдому убеждению: нужно и важно, чтобы Китай и Россия жили в вечной дружбе и добрососедстве, это возможно не только в литературных, но и в человеческих отношениях.
В заключение хочу вернуться к вышеупомянутым словам Конфуция: "Я в 30 лет стал самостоятельным человеком, в 40 познал все тайны бытия, в 50 осознал своё предназначение, в 60 приобрёл все благополучия, а в 70 добился полной свободы и гармонии во всём, не преступая должной меры". Именно такой свободы и гармонии в будущем, в духе Конфуция, я хотел бы пожелать нашему Союзу, Союзу писателей России.
АНОНС «ДЛ» N4
Вышел из печати, поступает к подписчикам и в продажу апрельский выпуск газеты «ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ» (N4, 2009). В номере: передовая Владимира БОНДАРЕНКО, посвященная 200-летию со дня рождения Н.В.ГОГОЛЯ; мемуары Станислава КУНЯЕВА; проза Мастера ВЭНА, Александра ДЬЯЧЕНКО и Анатолия ЕРМИЛОВА; стихи Дианы КАН и Михаила ПОПОВА; Николай ПЕРЕЯСЛОВ – переводы болгарских поэтов Веселина ГЕОРГИЕВА и Елки НЯГОЛОВОЙ; Вячеслав ЛОЖКО пишет о Николае ГУМИЛЁВЕ, Андрей РУДАЛЁВ – о Захаре ПРИЛЕПИНЕ. Кроме того, в номере – поздравления китайского русиста Чжана ТИУ с 50-летием Союза писателей России, публицистика Дениса КОВАЛЕНКО и Юрия ПАВЛОВА, хроника писательской жизни, а также традиционная поэтическая пародия Евгения НЕФЁДОВА.
"ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ", ведущую литературную газету России, можно выписать во всех отделениях связи по объединённому каталогу "Газеты и Журналы России", индекс 26260. В Москве газету можно приобрести в редакции газет "День литературы" и "Завтра", а также в книжных лавках СП России (Комсомольский пр., 13), Литинститута (Тверской бульвар, 25), ЦДЛ (Б.Никитская, 53) и в редакции "Нашего современника" (Цветной бульвар, 32).
Наш телефон: (499) 246-00-54; e-mail: denlit@rol.ru; электронная версия: http://zavtra.ru/
Главный редактор – Владимир БОНДАРЕНКО.
Борис Белокуров ТЕНЬ «КАРАВЕЛЛЫ»
«Трое с площади Карронад» (Россия, 2008, режиссёр – Виктор Волков, в ролях – Максим Лабастов, Коля Спиридонов, Наталья Коренная, Дима Кузьмин, Ваня Денисов, Женя Воронин, Диана Шпак, Яна Кан, Миша Акимов, Антон Воловик, Екатерина Васильева, Татьяна Конюхова, Анатолий Кузнецов, Геннадий Юхтин, Сергей Загребнев, Павел Ордин, Евгений Березовский, Игорь Неведров, Василий Седых, Геннадий Храпунков, Юрий Дуванов, Татьяна Шитова).
"Пожилые мужчины забыли – да и не хотят вспоминать – то неукротимое, пронзительное и жгучее, из-за чего, потеряв покой, мальчишка в отчаянии зарывается лицом в побеги овса, молотит кулаками по земле, всхлипывает и скулит: "Господи, Господи!"
Джон Стейнбек
ИМПЕРИЯ ИДЁТ К УПАДКУ, когда перестаёт обращать внимание на собственные постулаты и кодексы, предания и поэмы. Базис без надстройки нелеп, как шпиль без флюгера, «Кошмар на улице Вязов» без Крюгера. Брешь в цензорской защите приводит к изменению строя, а хорошо это или плохо – вопрос из серии «Что лучше, с хайром в армии или в наручниках на флоте?». Ничто не вечно, и будет просто сезонное изменение, перетасовка вех. Так христианская вера мало-помалу источила Рим.
В начале 80-х годов малоинтересная даже для советского ребёнка газета "Пионерская правда" нежданно-негаданно приобрела культовый статус, взявшись печатать с продолжением вещь Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад" – бомбу замедленного действия. Публикация эта (своей продолжительностью зашедшая на срок парижских романов-фельетонов Эжена Сю) здорово скрасила досуг тех юных, кто был склонен к бунту. Газету можно было взять с собой и, игнорируя рутину физкультуры и алгебры, читать на уроках. Попутно расставаясь с модельными иллюзиями "Взрослые всегда правы" и "Родители знают, что говорят". Многие из прочитавших книгу впоследствии выбрали "Не верь, не бойся, не проси" – это их право. Остальные развалили страну.
Крапивин предлагал пионерам следующий сильный сюжет. Жил-был в сером и сухопутном Усть-Каменске тихий пятиклассник Слава Семибратов. И было у него в жизни мало хорошего: детство без отца, "гулкая, похожая на вокзал школа", по-своему несчастная и кроткая, но вконец запутавшаяся мать да отчим с двустволкой, направленной в сердце мальчишки. Плюс библиотека и удар коробкой с акварелью в морду раскормленного гопника. Затем Семибратов переехал в Севастополь, город, овеянный романтикой героического милитаризма береговых батарей, и воспрял духом. В первый же день он познакомился со своим сверстником Тимом. Этот накануне выступил так: угнал отбывшую свой век баркентину "Сатурн", из которой собрались сделать плавучий ресторан. Угнал с целью разбить её о бетонные сваи причала. Чтобы никому не досталась. Ибо "некоторые люди не понимают разницы между парусником и пивной".
Понятно, что Семибратов не мог просто так пройти мимо такого отчаянного веснушчатого чуда. Мальчики тут же влюбились друг в друга и, общаясь между собой лишь кодовыми сигналами трёхфлажного "Международного свода", совершили множество героических дел. Но мама Славы в очередном пароксизме личной жизни попыталась увести парня обратно, на Урал: "Слали матери истребители и ломали им крылья белые". И тогда Тим кратчайшим путём рванул на яхте через штормовой залив, перехватил поезд и корабельной цепью приковал товарища к столбу. А ключ выбросил в придорожные заросли. Для надёжности.
Даже из столь скоропалительного пересказа можно понять, что такая история могла сильно подействовать на неокрепшие умы. О сюжете приходится говорить так подробно ещё и потому, что место Крапивина в отечественной словесности до сих пор сродни "второму подполью". Он более чем востребован, издательство "Эксмо" не успевает печатать дополнительные тиражи сине-белых томиков полного собрания его прозы, а между тем что-то я не припомню ни одной (!) публикации, в которой книги Крапивина хотя бы как-то – не принимать же всерьёз надоевшее сравнение его прозы с готическими романами – анализировались. Возможно, это как раз и хорошо! Принципиально отгородившись от всего, что ему ненавистно, непробиваемыми стенами морских справочников и карт, Владислав Петрович Крапивин сидит сиднем в Екатеринбурге, пишет всё новые и новые романы, в которых речь идёт уже о современности, а эскалация жестокости порой перехлёстывает через край ("Гуси-гуси, га-га-га", "Помоги мне в пути", "Ампула Грина"), изредка выбирается в автопробеги по России и является главной – и единственной – достопримечательностью своего города. Своими глазами видел раздел в одной из букинистических лавок экс-Свердловска. "Историческая проза", "детективы", "фантастика" и… "Владислав Крапивин"! Тот редкий случай, когда имя человека становится названием литературного жанра.
Затворничество Крапивина, отгородившегося от мира дамбами из параллельных миров, "шахматных пространств" и "лужаек, где пляшут скворечники" можно было бы банально объяснить эскапизмом. Так знайте же – в своё время Владислав Крапивин создал под видом пионерского отряда военизированную организацию "Каравелла", где дети постигали азы мореплавания, снимали любительские фильмы, но главное – учились ненавидеть врага. Девиз был один: "Враг – это взрослый!" За исключением, понятное дело, командоров отряда. Через "Каравеллу" прошло уже не одно поколение внятных людей; говорят, что она существует до сих пор, хотя и в сильно трансформированном виде. Что ж, ни одно хорошее начинание никогда не могло продержаться долго. Но многие ли писатели могут похвастаться хотя бы таким применением своих творческих сил? Юкио Мисима? Разве что он, да только пафосный потомок самураев был изначально нацелен на красивое самоуничтожение, а Крапивин и его формация стремились жить. И ради этого желания не щадили ни себя, ни других. Дисциплина порой застила разум, каждый в любую минуту мог быть объявлен "предателем" и "пособником взрослых". Исключение из коммуны проводилось перед всем строем, под строгий рокот барабанов. Скажи, куда ушли те времена?
Лишь недавно дождалась своего читателя "закадровая" поэзия Крапивина, воскрешающая саму атмосферу его упоения боем: "О если б знали вы, какое торжество – стрелять и видеть, как срезает мой огонь их!" Но и враг не дремал. "Каравелла" жила в режиме тревоги, спокойных минут в отряде не было, как не было их и у самого Крапивина.
Публикация в центральной печати заведомо непроходной крамолы – "Трое с площади Карронад" ещё цветочки, а была ведь и ранящая сталь "Колыбельной для брата", и эталонный роман воспитания ненависти "Журавлёнок и молнии", и magnum opus – "Острова и капитаны", расстрельный приговор "школьной реформе" и одновременно поэтизация того факта, что от малолетнего бандита до борца с несправедливостью один шаг, куда уж там обывательским детям – не прошла даром. Она обернулась для Крапивина навсегда подорванным сердцем. Но он вышел из этой мясорубки победителем. Помогло и московское издательское лобби. Ибо не все советские редакторы были однородной массой бюрократов, и не все из них к тому времени забыли имя Аркадия Гайдара, вечной крапивинской иконы, его путеводного литературного маяка. И то, что будни "Каравеллы" соотносились с реальностью в тех же пропорциях, как и гайдаровская повесть – с бюрократизмом "тимуровского движения", для одних служило источником злобы, для других – взволнованным праздником.
Всё это очень замечательно, но формальным поводом нашей статьи всё же является фильм, а с ним сложнее. Картина Виктора Волкова на данный момент ещё не увидела телеэфира, судьба её туманна, но тем актуальнее привлечь к ней внимание. Волков свалился на нас не с потолка. Он – давний киносоратник Крапивина, в 1982 году довольно-таки удачно экранизировал "Колыбельную для брата". Об адекватности релиза говорит тот факт, что его четыре года мурыжили на "полке". И в том и в другом случае Крапивин выступал соавтором сценария, так что мы вправе говорить об ответственности художника за конечный продукт.
Продукт, конечно же, получился вполне чудовищным. Мини-сериал в четырех частях, снятый так, как и сотни других сериалов, разве что здесь нет ментов, бандитов и адвокатов, что тоже не является достоинством. Ибо ценность фильма определяется не наличием или отсутствием в кадре адвоката или мента, а раскадровкой и той силой художественного образа. когда ещё вот-вот – и "стоптанный асфальт взорвётся яростными травами". Этого сделать не удалось, всё губит проклятая "цифра", делающая телепродукцию неразличимой, пресной. Плюс невнятный кастинг, невыразительный звукоряд, нарочитые анахронизмы. Простить не получается, однако попробуем хоть как-то понять.
"Фильм", как гордо сообщает заставка, "снят по заказу правительства Москвы". Что ж, это многое объясняет. Одним мановением руки неведомый мне "правитель", никогда никакого Крапивина не читавший, загубил весь проект на корню. Говоря словами Холмса-Ливанова: "Испортил хар-рошую вещь!" Понятия не имею, куда эти человекообразные медведи ухитряются девать свои золотые мараведи, но ясно одно: львиной доли ассигнований кинематографисты так и не увидели. Весь остаток средств ушёл на поездку в Севастополь, что было просто необходимо – крапивинский Город является полнокровным героем книги. Прочее создавалось на скорую руку, и оттого уральский Усть-Каменск так сильно напоминает нам Луховицы. Композитором, который смог бы адекватно отразить настроение романа, мне представляется Дэнни Эльфман, на крайняк – Говард Шор. Но здесь фоновое сопровождение (иначе не выразишься) напоминает эксерзисы второкурсника из музыкальной учёхи, чей вдохновенный порыв стимулировали суммой в две тысячи рублей.
Воссоздать антураж советских лет тоже оказалось не по силам и не по деньгам. Вместо казённой школьной униформы мы видим пёстрый цветник разномастных одёжек, хулиганы-отморозки щеголяют в фирменных майках "AC/DC", и даже среди гордых севастопольских руин то и дело мелькают приметы опостылевшей "новой реальности". Сюда же можно отнести и уместное тогда, но странное для наших дней изобилие неразорвавшихся снарядов, чуть ли не со времён Первой Обороны. Фабула, вполне достоверная на закате брежневской эры, плохо работает сегодня.
По-другому окрашены стены школьных тюрем, совсем иными устремлениями одержимы дети. И если кто-то из них ещё мечтает о кораблях, то это в лучшем случае земфирины "не взлетим, так поплаваем", в худшем – те "кораблики", в которые насыпается конопляная дурь. Маленькие актёры играют средне, их персонажи могут вызывать жалость, тоску, снисходительный интерес, что угодно, кроме восхищения их принципиальностью, "неотмирностью" романтических порывов. Мурхурический Слава Семибратов ещё хоть как-то соответствует своему книжному прототипу, но телевизионный Тим, когда-то придуманный Крапивиным "сон человечества", волшебный "Тим-Тим, откройся!", не убеждает, не уничтожает и не ведёт за собой. Поймать самоубийственно-романтическую волну романа съёмочной группе не удалось. И единственным утешением служит тот факт, что в моральном отношении – а особенно в наши дни – попытка экранизации "Троих с площади Карронад" приравнивается к… экранизации.
Ясно, но грустно. Ведь те, из эпиграфа, пожилые мужики не только забыли детство, но и успели наплодить малолетних старичков, с пылу стремящихся не в мореходики, а в колледжи или сельхозучилища. Глухой брандмауэр возник на траверзе каравеллы и "Каравеллы". И оттого всё чаще в новых произведениях левиафана детской литературы звучат темы, плохо совместимые не только с механизмами власти (это было всегда), но и с жизнью: "Тишина опять со всех сторон. Пьёшь – и никакого нет эффекта. Как досадно: в пистолет "Перфекта" влазит только газовый патрон. А не то бы – поднести к виску… И бегу, бегу я по песку, волны плещут, солнца летний свет. И всего-то мне двенадцать лет…"

