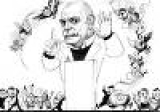
Текст книги "Газета Завтра 803 (67 2009)"
Автор книги: "Завтра" Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Чтобы избавить паренька от насилия собственных мыслей, мы с Андрюхой решили поставить его на лыжи образования и здоровья. Два часа спорта в день Роме оказались вполне под силу. Однако встал вопрос, как приучить скинхеда к материям одухотворенным? Книги Рома не тянул, вымучивал за неделю страниц тридцать и стыдливо возвращал литературу обратно. Тогда было решено начать со стихов. И на удивление живо Ромка взялся за "Евгения Онегина". Первая строфа на мысль, непривычную к движению, ложилась в течение двух дней. И вот первая маленькая победа – строфа далась, четко и с расстановкой…
Не понятно с чего Ромка выматывался больше: то ли от поэзии, то ли от физнагрузок. Но по ночам он стал крепко спать, реже щелкал пальцами, душой согрелся. Увы, не прошло и трех недель, как Ромку вновь заказали с вещами..
Странное ощущение осталось от этих ребятишек. Они не знали, кто такие Вера Засулич, Дмитрий Каракозов, Борис Савенков. Вряд ли они догадывались о молодежном терроре, который захлестнул Россию более ста лет назад, когда разночинные недоучки оголтело и без разбора резали, стреляли, взрывали мундиры, которые, по их мнению, воплощали самодержавное "зло". Но век спустя в меру сытые, в меру благополучные юноши и девушки вновь взялись за ножи и огнестрелы. Это не циничные убийцы, поскольку их фанатизм и жертвенность глубже и сильнее ненависти к собственным жертвам. Поскольку убийства, зверские и безумные, для них не цель, а лишь средство. Они режут, мечтая высушить болото духовной и физической деградации России вместе с гнилым россиянским планктоном. Режут, устав терпеть и гнуться. Режут, потому что их обреченное поколение может быть услышано только в собственном кровавом реквиеме. Маленькие кровавые пассионарии – дети суверенной демократии. Они очень любят Родину, самоотверженно и без оглядки. Виноваты ли они, что расписаться в этой любви им позволили только заточкой?
НА ВОЛЮ!
Очередное заседание Верховного суда было назначено на 4 декабря. Два года заточения показали мне, что суд – это довольно дешевая формальность, утверждающая решения прокуратуры. Надеяться на справедливость в подобных условиях – словно рассчитывать на снег в июне.
Но всё же к четвертому декабря я подготовил выступление, единственно желая высказаться. И пусть мое слово растворится тщетной дымкой справедливости под сводами Верховного суда, промолчать – значит сдаться.
– Вань, сегодня какой-то праздник у верующих, – вспомнил Коля, далекий от Православия. – Я по телевизору читал.
Я полез за календариком. И точно: посреди темно-синих дат постного декабря красным квадратиком сияла "четверка": "Введение во храм Пресвятой Богородицы". Тут же сознание охватило душевное облегчение, ноги вмиг ощутили мистическую твердыню. Каким будет решение суда, стало вдруг не важно, но как важен путь, который предначертан нам. Тюрьма, страхи, сомнения, соблазны волей, ропот, судьи, прокуроры, следаки, адвокаты терпил – вся это грязь, все эти жадные беспринципные шавки обрели значение пыли на дороге, вымощенной нам Господом. Ибо что зависит от меня? – Ничего. Что от них? – Еще меньше, чем от меня…
…Завели в клетку, включили трансляцию, я увидел зал. Мама, отец, родные, знакомые и незнакомые лица, серьезные и напряженные, смотрелись особняком от вжавшихся в левый угол блеклой прокурорши в бриллиантовых цацках, отваливающих жирные мочки, адвокатов Чубайса – похожего на кусок розового мыла Котока и на об чьи-то пятки поистертый обмывок пемзы Сысоева. На экране появились мои поручители: Владимир Петрович Комоедов, Виктор Иванович Илюхин, Сергей Николаевич Бабурин, Василий Александрович Стародубцев, которому в 91-м довелось подавить те же нары, что и мне: словно с одной войны, из одного окопа.
Суд идет – начали. Сначала мои поручители по очереди подписали поручительства. Каждая подпись пробивала брешь в двухлетнем каменном заточении. Потрясающе было ощущать, как их автографы размывали заколюченную и зацементированную реальность. Потом говорил я, затем мой "ангел-хранитель" адвокат Оксана Михалкина. И вот очередь дошла до стороны обвинения. Прокурорша, а-ля Роза Землячка, описав мое страшно-преступное прошлое, потребовала от суда "придерживаться принципа разумности в содержании Миронова под стражей". Разумность эта, по мысли барышни в голубом, должна была определяться исключительно мнением прокуратуры. Короче, что-то вроде жегловского "будет сидеть, я сказал". Коток и Сысоев избрали иную стратегию. Так, г-н Сысоев заявил, что Миронов, назвав в своем выступлении решение судьи Стародубова преступным, оскорбил тем самым всех российских судей. Сысоев потребовал по данному "факту оскорбления" возбудить против Миронова еще одно уголовное дело. Мерзопакостная тактика мелкого ябеды, недостойная даже ребенка, понимания у судьи не встретила. Но все же захотелось отповеди. Уж больно было противно, что последнее слово, пусть даже в виде жалких помоечных ужимок, осталось за этой процессуальной перхотью. Но, стукнув молотком, коллегия удалилась на совещание. Прошло минут сорок…
Вернулись. Судья зачитал решение: "…изменить И.Б. Миронову меру пресечения и освободить его из-под стражи под поручительства депутатов Государственной Думы Российской Федерации". Грохнули аплодисменты, связь оборвалась. Первыми с поздравлениями – со словами "повезло тебе" – выступили вертухаи. Я вышел на тюремный этаж. Комок сдавил горло, как 14 декабря 2006 года, когда я увидел слезы мамы в Басманном суде, куда меня привезли выписывать арест. Теперь обратно в камеру, где осталось дождаться утряски всех бюрократических формальностей. Никогда так долго не текло время, как в эти последние несколько часов на тюрьме. В хате встретил Коля с искренней радостью чужой свободе. На дорожку чаек, шмотки оставляешь здесь, бумаги и часть особо памятных книг с собой. Вечером вывели из хаты, на продоле бросил казенку: матрас, подушку, железную кружку и шленку. Спустили вниз. Какой-то майор выписал справку об освобождении, вручив ее вместе с паспортом. Дальше через парадный вход, еще полчаса простоя – и черное небо свободы слякотного декабря приняло в свои объятия. Отец, сёстры, мать… Снова комок. Глупая сентиментальность. Ветер сладкой хмелью обжигает лицо, воздух – вольный, сплетенный из миллионов мазков столичной суеты. Шампанское украдкой выплескиваешь на асфальт, чтобы не опошлять градусом Божью благодать, к которой ты стремился долгих два года.
Владимир Винников АПОСТРОФ
Александр Дорин. Тайник. Лирика. – М.: Вече, Фонд им. М.Ю.Лермонтова, 2008, 128 с., 500 экз.
В моих записях от 18 июня 2006 года сохранились такие строки: "Умер Александр Дорин. Чуть не дожил до 56 лет. Смерть была мгновенной – оторвался тромб, закупорка легочной артерии…" Странно. О смертях куда более близких и значимых для меня людей никаких записей нет, а эта вот почему-то отразилась и запомнилась. Не потому ли, что была внезапной и лёгкой, на обратном пути из Сарова, где сошлись, наконец, в одну точку все линии его вроде бы недосказанной, невысказанной человеческой и творческой судьбы?
Дорин – на моей памяти – выглядел человеком абсолютно безобидным, незлобивым и даже слегка несуразным. Его как-то не принимали всерьёз и даже любили слегка подтрунивать над ним. А вот теперь оказывается – да, был у Александра Борисовича свой "Тайник", куда он бережно складывал такие привычные и такие неповторимые мелочи бытия.
"Прокружилась годов череда,
Я очнулся, как раненый воин, -
…Тёмных глаз голубая вода
Гладит молча девичьей рукою", – это из стихотворения "Эхо", посвященного дочери Ирине.
Или вот еще:
"Прошитый рваной генной строчкой,
Век сжат и предопределён.
И знаю точно, что досрочно
Туда… я буду приглашён".
Как говорится, многие знания – это многие печали, так что никто, нигде и никогда не видел счастливого пророка. Да и нет их, пророков, в своём Отечестве. Счастье суть неведенье. Но всё равно – Александр Дорин стремился не к счастью, а к знанию.
"Я б ничего у жизни не просил,
Когда бы знал – у самого предела
Дано ль постичь бессмертию души
Последний
Чудный миг слиянья с телом?" – как будто сомневался в обещанном Евангелием Страшном Суде над всеми и над каждым некогда жившим человеком…
"Откуда путь лежит наш и куда -
Не ведают надменные поэты.
Себя считая высшим чудом света,
Они – лишь треск пугливого костра.
Но даже те, из чудо-плащаницы,
Они – лишь блик из Господа светлицы,
Лишь скрип чуть слышный вечной половицы,
Лишь след случайный вечного пера…"
Конечно, я привожу здесь лишь те строки Дорина, которые мне кажутся лучшими. А вообще-то, спасибо всем тем друзьям поэта, благодаря которым увидела свет эта книга, которые нашли слова для «Мемориала» его памяти, которые… Да дело тут даже не в стихах. В чем-то совершенно ином, по сравнению с чем сама поэзия отступает куда-то далеко-далеко. И что почти невозможно выразить и передать обычными нашими словами. Впрочем, нет, сказал, и хорошо сказал в этой книжке Алексей Шорохов: «Пока живешь, душа смертью богатеет»…
Последний раз мы виделись незадолго до его смерти – это была случайная встреча на углу двух Ботанических улиц, в Москве жарко сиял конец мая, Александр Борисович навестил приболевшую маму и возвращался в центр по каким-то своим бесконечным делам… У приехавшей откуда-то из советских годов колесной бочки-цистерны мы с ним выпили по кружке холодного разливного останкинского кваса, поговорили, что называется, "ни о чем" – и разошлись. Но почему-то мне до сих пор кажется – не навсегда. Странно…
Денис Коваленко НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ СТАЛИНА
Несколько слов в защиту Сталина – вовсе не оригинальное заявление, тем более, что заступников и отступников у Иосифа Виссарионовича на сегодня более чем достаточно.
И заступники есть даже там, где их по определению быть не должно – в Православной Церкви. А после случая с иконой Матроны Московской, находящейся в одном из питерских храмов, на которой святая благословляет вождя всех народов, и вовсе заговорили о канонизации Сталина, а отдельные умельцы даже и иконы смастерили и заявили, что для них Вождь уже свят, признает ли это Церковь – нет, им всё равно – они веруют. Здесь ничего не поделаешь.
Есть же в Гонконге буддийский храм Брюса Ли, где ведутся богослужения в честь голливудского актёра. Народу нужен герой – пусть даже и кинематографический. Конечно, Сталин – это не Брюс Ли. Да и речь не об этом – не о святости речь. Святость государственных деятелей сама по себе категория из сомнительных.
Когда речь заходит о епископе или о Патриархе, или о старце, пусть даже о военачальнике, – вопросов гораздо меньше, а чаще и вовсе – без вопросов. Какие могут быть вопросы в канонизации адмирала Ушакова? Выиграть такую бойню, уничтожить всю турецкую эскадру! И не потерять ни одного русского солдата! И это – морское сражение – с корабля не убежишь. Промысел Божий? Конечно. Слава Русскому духу? Без вопросов. Слава великому адмиралу? Более того – прославление. Он – избранник, чрез него воля Божия свершилась. Есть примеры подобных битв? Нет.
Кто усомнится в канонизации Тихона Задонского или Патриарха Тихона? Кто усомнится в канонизации тех, чьи любовь и смирение, сила духа и воля отданы своему народу?
Пафосно? Конечно! Но как иначе?! Есть чем гордиться, есть чему радоваться. И когда гимн звучит, и когда флаг развевается – слёзы наворачиваются; и – дурак, кто не плачет.
Но довольно об этом. Разговор-то о другом, о тех, чьё величие, чья слава… чья воля… чья власть – государственная. Чья сила не в смирении и даже не в правде, чья сила – в силе. Для кого, по определению, не стоит вопрос – слеза ребёнка или же благосостояние государства.
Как быть здесь? С одной стороны, царь, помазанник Божий, страстотерпец, а с другой… Николай Кровавый. Одно Кровавое воскресенье чего стоит, а Потёмкинская лестница… Конечно, скажут, не царь же расстреливал; естественно, но и Сталин не сам же по подвалам с маузером лазил…
А Русско-японская война? Один из генералов в сердцах выругался, что если бы император не иконки солдатам раздавал, а снаряды… чёрта с два тогда бы японцам проиграли! Одно поражение за другим, смута, революция… И, в итоге – развал Империи и чуть ли не полная гибель самой Православной Церкви. Странный путь к прославлению и канонизации; единственное потому только, что… царь, что пострадал. А чем тогда другие не угодили? В России редкий царь своей смертью умер: кого зарезали, кого отравили, кого взорвали…
Мы в своё время знали: царский режим – кровавый, мы верили рабочим, крестьянам, матросам – всем тем, кто пострадал, кого убили "за ложку борща", с кем обращались хуже, буквально, чем с барскими собаками, кто подыхал на фабриках и заводах, кого расстреливали царские солдаты и рубили царские казаки за желание жить нормально, – всем тем, кому Советская власть была как воздух. Мы не верили попам, дворянам, купцам, кулакам-мироедам (кстати, словосочетание это встречается ещё у Лескова, как и "загнивающая буржуазия"). Сегодня выходит – что напрасно. Сегодня выходит, что пострадали как раз они – попы, дворяне, кулаки-мироеды. А рабочие и крестьяне – лишь марионетки, подчинявшиеся воле жидов-коммунистов, – и это в лучшем случае. Чаще все эти рабочие и крестьяне (которые на самом-то деле жили лучше, дальше некуда) – обыкновенное быдло, которое по своему небла-ародному природному невежеству и нетерпимости перерезало и перевешало всех своих "благодетелей", всех чистых душой и сердцем дворян-помещиков, священников, офицеров и зажиточных крестьян, на которых Россия держалась, тех самых "мироедов". И, конечно, главный душегуб Православной России – Сталин. Он – главная причина всех "наших" страданий. Сегодня получается, что именно так…
Сегодня правда "Адмирала": Колчак принимает присягу под флагом США; российские офицеры воевали мужественнее матросов, а матросы – так, по углам прятались; и, конечно, офицеры самые порядочные и православные, дальше некуда – весь фильм крестятся, молятся, как заведённые, а ублюдочная безбожная матросня их казнит: стреляет и топит. После такого приторного лубка с перебором хочется плюнуть и стать атеистом. Фильм идеологически просчитан, тем очевиднее, что представляет его "20 век Фокс". И эта нарочитая отталкивающая православная сладость – очевидно-намеренная. И этот пасквиль – есть сегодняшняя правда о том времени.
И раз так, то и… слава Богу, что все эти дюже "православные" Колчаки и Деникины, и прочие с ними "русские" офицеры, под американскими, французскими, британскими знамёнами топившие (без сантиментов) Россию в крови – Россию, для которой эти "освободители" уже стали выкидышами, слава Богу, благополучно скончались. И название этой "освободительной" войне одно – ИНТЕРВЕНЦИЯ. Только сегодня об этой правде хотят забыть.
А теперь несколько слов в защиту Сталина.
Можно сколько угодно ругать хирурга, по частям собирающего разрубленное, разрезанное тело: за то, что без наркоза, болезненно, без креста и без молитвы. Но тело собрано, зашито и заштопано. За исключением нескольких пальцев – Польши и Финляндии, но и эти после войны закрепили надёжным протезом…
Кто собрал страну? – эти берёзовые потаскуны-эмигранты, эти генералы-гастарбайтеры, заполнившие Европу дешёвой рабочей силой таксистов и швейцаров? "Православные" барышни-институтки, украсившие собою все лучшие публичные дома Парижа? Они, что ли, собрали Россию? Да они её прос…ли. И не из них ли вышли бравые власовцы? А что касается их недюжего, поголовного "православия", о котором сегодня все уши прожужжали, так добрая половина этих светлых голов были или вовсе атеистами, исповедовавшими общечеловеческие ценности, или "толстовцами" – тоже ещё те обормоты от сохи и плуга, или, вообще, спиритами – вызывавшими дух то Наполеона, то тети Сони из Бердичева; а в церковь ходили – потому что положение обязывало, равно, как и сегодняшних чиновников-единороссов.
Россию собрал Сталин.
Без наркоза и сантиментов. Сшил грубо, но прочно. И когда горячих гордых чеченцев – в холодных вагонах (чтоб поостыли немного) в Казахстан – именно о Стране думал: и стала Чечено-Ингушская республика одной из спокойнейших республик; и не убил же, а подселил гордых горцев к не менее гордым потомкам Чингисхана, подальше от так не любимых ими русских, поступил мудро и по-отцовски. И Грузия, и Украина, и Прибалтика – замечательные же были республики, тихие, мирные, гостеприимные… Сегодня в это не верится. А то, что был культ… А когда это в России не было культа? Он и при царе был, да и сегодня поносить власть никто не позволит: и если внимательно прислушаться к тем, кто пострадал от "культа", то пострадали они исключительно за то, что "нелестно" высказывались о власти, проще говоря, поносили власть, были ею недовольны. Забыв, что тезиса "всякая власть от Бога" Церковь ещё не отменяла.
Может, и дико прозвучит, но – единство веры возможно лишь в том государстве, где есть единство власти… Нет Византии – нет православия. Нет России – история та же. Ни французам, ни американцам православие не нужно. Они протестанты, или кто там ещё… Но Россия осталась русской и православной, и осталась таковой благодаря именно Сталину. А то, что храмы взрывали и иконы жгли…
Чтобы уничтожить веру, храм мало разрушить. Сколько церквей и монастырей за тысячелетнюю историю нашу и сгорало, и разорялось – и не только басурманами, нашими же, родными князьями в обыкновенных междоусобицах. Храм – камень, было бы на чём ставить. Ставили новые храмы, строили новые монастыри; и возрождали, и восстанавливали. Мало ли какому правителю чего в голову взбредёт. Взбрело же, что креститься надо "тремя перстами", и ничего, и это пережили. И к Святому Синоду привыкли. И забыли о нём, когда время пришло. И великой радостью сегодня почитаем – что у нас снова Патриарх. (Да, и в каком году Патриарх Тихон взошёл на Патриарший престол, если не ошибаюсь – в 1918. А почему не раньше, почему не в царствие Николая ІІ?)
За тысячу лет вера в землю вросла, сама речь наша без Бога не существует: и самый последний атеист, если он русский и в России живёт, Бога невольно, но славит: "спасибо" говорит. И никаким революционным пожаром это "спаси Бог" не выжечь, если только… саму землю не потерять… Сталин сохранил православие, запечатав его в надежную банку "СССР" и добавив самый наивернейший консервант "атеизм". Сомневаюсь, что наши "православные" спириты и общечеловеки устояли бы перед французским католицизмом, британским протестантизмом и прочей напомаженной ересью (что отчасти и случилось после развала СССР).
Страшно представить, что стало бы с Православной Церковью, доведи все эти "лихие" реформаторы свои "идеи" до конца. Всё. "Кемска волость? Да забирайте! Жалко, что ли!" А в 90-х речь шла не о какой-то там волости, пол-России готовы были раздать. И не "злодеи коммуняки", а христиане-демократы (вот тоже ещё словосочетаньице – всё равно, что – "обновленцы").
И вряд ли в "Кемской волости" главной религией осталось бы Православие, а про Курилы и Дальний Восток, отойди они к Японии, и говорить нечего. И осталась бы у нас одна родная Подмосковия, и только бы в ней "золотая дремотная Азия опочила" бы по-есенински "на куполах", потому как более "опочить" было бы и негде. Вот такая вот незатейливая перспектива…
Р.Ѕ. К сожалению, что бы ни говорили нынешние либеральные кликуши, сегодняшняя Россия больше походит на Русь до Ивана Грозного, где власть была у бояр, а народ платил дань Орде, но никак не на устойчивое тоталитарное государство, – и это к сожалению.
Полностью – в газете «День литературы», 2009, N4
Вячеслав Ложко ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
Близится 15 апреля 2009 года – день рождения великого русского поэта Николая Степановича Гумилёва.
В этом году исполняется 100 лет со дня прибытия Гумилёва в Коктебель…
Впервые Коктебель Н.С. Гумилев увидел весной 1909 года, тогда же впервые оказался в доме М.Волошина. В то время в Коктебеле отдыхали Алексей Толстой, Андрей Белый, Елизавета Дмитриева – будущая Черубина Габриак, и многие другие.
Коктебель увидел Гумилева уже философом в поэзии – мудрецом, и всё-таки он был дитя душою. И не раз говорил: "для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображённым".
Именно в Коктебеле Н.С. Гумилев написал знаменитую поэму "Капитаны", которая обозначила перед читателем нового, иного Гумилёва. Уезжал из Коктебеля он в конце лета. Пока книга готовилась, окончательно наметился кризис символизма. Но и от вождя модернизма Брюсова Гумилёв к тому времени тоже почти отошёл. Так в 1911 году появился "Цех поэтов". "Цех поэтов" насчитывал в своих рядах 26 представителей разных направлений, в том числе Ахматову, Лозинского, Нарбута, Мандельштама и др. Гумилёв был создателем акмеизма, но акмеистом сам он как раз и не был, ибо он был больше, значительней этого направления…
Даже если бы его пропустил 21-й год, всё тою же стеною вырос бы 37-й. Но и первая война виделась ему не как "страшный путь", а как, прежде всего, правое дело. Более того, отложив прочие дела, он стал готовить себя к ратному труду. Так начинала реализовываться третья ипостась этого человека, о котором привыкли говорить: поэт, путешественник, воин.
Да, поэт – это несомненно.
Да, путешественник; коллекция, привезённая им и его племянником Н.Л. Сверчковым из Африки, по мнению специалистов, стоит на втором месте после коллекции Миклухо-Маклая; немало сделал он и как дипломат.
А чего стоят "Африканский дневник" и книга стихов "Шатёр" – замечательное описание дальней земли!
Но в его биографии есть ещё замечательные страницы, связанные с исследованием Севера.
Удивительная история Николая Гумилёва, вдруг обласканного царской семьёй и принятого по рекомендации императора в самое элитное учебное заведение дореволюционной России – Царскосельский лицей.
Все эти милости "свалились" на восемнадцатилетнего молодого человека из небогатой семьи после поездки на Русский Север в 1904 году, где он увидел в устье реки Индель плоские скалы, на которых были вырезаны иероглифы – сотни метров текста, страницы каменной книги.
Кстати, русские императоры всегда проявляли повышенные интерес ко всему, что касается данного артефакта. Возраст "Голубиной книги", по мнению Гумилёва, который даже сделал перевод её текста, – более 18 тысяч лет. К сожалению, в настоящий момент в открытом доступе нет возможности найти дневниковые записи Гумилёва и его переводы текстов Каменной книги, нет даже его стихов, ей посвящённых.
Это не единственная тайна великого поэта. Исследователи его творчества утверждают, что в его биографии столько белых пятен, что создаётся впечатление, что кто-то тщательно и последовательно вычищал сведения о целых периодах его жизни. Удивительно, что почти все они, так или иначе, связаны с его исследованиями Каменной книги.
Из материалов, хранящихся в спецхране, стало известно, что Н.Гумилёвым был найден уникальный золотой гребень, близкий к 1000-й пробе, в одной из его северных экспедиций. Этот гребень был подарен Матильде Кшесинской Николаем II и пропал вместе со значительной частью её сокровищ.
Практически у всех поэтов начала ХХ века есть стихи, посвящённые Каменной книге, – у всех, кроме Гумилёва, который её нашёл. Николай II, принявший у себя поэта с докладом об этом уникальном открытии, не только отнёсся к находке чрезвычайно серьёзно, но и выделил средства из казны на дальнейшие исследования.
Благодаря открытию Каменной книги Гумилёв был взят под покровительство императора и подружился с его дочерьми. С помощью своеобразного словаря символов, вырезанного там же на скалах, и переводчиков, знающих арабский язык, Гумилёву удаётся перевести тексты. Разумеется, точность перевода не идеальна. Но благодаря ему в последующих экспедициях Гумилёв находит Кузовский архипелаг (легендарный остров Буян) и на острове Русский Кузов открывает гробницу королевы Империи виков.
Золотой гребень, найденный на скелете, поражает изяществом. После того, как гребень попадает к Матильде Кшесинской, за ним начинают охотиться американские масоны. За защитой Кшесинская обратилась к Николаю II. Как известно, в декабре 1917 единственным зданием, захваченным большевиками в Петербурге, был особняк Кшесинской, где они перерыли все вещи, вскрыли полы и простучали стены. Вероятно, искали столь необходимый им гребень.
Символична и дальнейшая судьба Н.Гумилёва. После первой революции он возглавил крупнейшую в истории России экспедицию в Африку на поиски легендарной земли Му, о которой он узнал из текстов Каменной книги. Тогда Гумилёв, да и сам император, ещё не предполагали, чем для страны, да и для них лично, обернётся попытка сделать древнейшие знания общедоступными…
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.
В одной из анкет на вопрос о политических убеждениях Николай Гумилёв ответил: «аполитичен». Большая политика его не волновала.
К тому времени многие уже покинули или собирались покинуть Россию; Гумилёв возвращается на Родину, идя навстречу первой волне эмиграции.
Трудно предположить, как бы сложилась его судьба – на то она и судьба, чтобы её не выбирали, а следовали ей; и всё же для русской поэзии он сделал максимум того, что мог, именно потому, что вернулся.
Даже если бы в 1918 году он знал, что с ним произойдёт через три года, он всё равно бы вернулся. Такой уж характер. Один из современников писал по этому поводу: "В 1918-1921г.г. не было, вероятно, среди русских поэтов никого, равного Гумилеву в динамизме непрерывной и самой разнообразной литературной работы… Секрет его был в том, что он, вопреки поверхностному мнению о нём, никого не подавлял своим авторитетом, но всех заражал своим энтузиазмом"…
Прибыв в Россию на развалины, Н.Гумилёв понял, что надо начинать всё сначала. Не в его правилах было впадать в уныние, тем более – он чувствовал в себе силы возглавить литературную жизнь Петрограда.
И вот вскоре создан новый "Цех поэтов", изданы "Фарфоровый павильон", "Костёр", переизданы "Романтические цветы" и "Жемчуга", принято предложение М.Горького стать редактором "Всемирной литературы", где Гумилёв вместе с Лозинским и Блоком редактирует поэтическую серию… Но замечательный поэт и исследователь, профессор Николай Гумилёв был арестован 3 августа 1921 года по подозрению в участии в таганцевском заговоре. А вскоре и расстрелян…
Полный текст статьи читайте в газете «День литературы», 2009, N4

