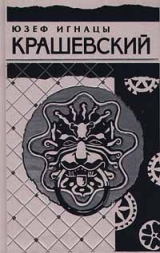
Текст книги "Болеславцы"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Старуха помогла Христе освободиться от платков, чтобы дать ей взглянуть на Божий свет. Она пришла в себя и, изумленная, повела вокруг черными глазами. Кругом стоял зеленый лес; было тихо и пустынно; птицы щебетали в чаще; над головами ширилось лазоревое небо. Лицо Христи прояснилось; она отвлеклась от прошлого и позабыла о своих тревогах.
Воз стоял у самого края большой дороги. Христя продолжала еще удивленными глазами разглядывать поляны и леса, когда вдали показались всадники.
Тянулся многочисленный отряд вооруженных земских людей, спешивших в Краков на зов главарей. Они ехали с прохладцей в почти уже миновали стоявшую в тени повозку, когда один из них, вглядевшись, громко и дико рассмеялся и на коне подскакал к самому возу.
– Эй, Болеславова Христя! Эй, Христя полюбовница! Что же ты покинула своего пана? – закричал он.
– Христя полюбовница! – повторяли за ним остальные, окружив воз с бессердечным смехом.
– Христя, а где твой маленький? Угодил ли в преисподнюю? Или, быть может, к самому Змею-Горынычу?
– Христя полюбовница! – кричали все, показывая пальцами.
– Извести проклятую ведьму! – закричали некоторые.
– Раздавить поганую распутницу…
– Христя! Христя! – только и слышалось со всех сторон… Под ударами жестоких слов, под градом полных ненависти взглядов, несчастная свалилась как убитая, закрыла руками лицо, забилась на самое дно повозки и опять стала кричать раздирающим голосом:
– Кровь! Кровь!
Сумасшествие вернулось. Мечась и дрожа, она закостенела с выражением безмерного страдания на судорожно искривленных губах. Когда на ее крик прибежал Мстислав, чтобы оградить ее от; оскорблений, то застал ее опять без чувств и почти без признаков жизни.
Ковда же безжалостные люди увидели его, то вместо того, чтобы внять мольбам и просьбам мужа, стали подымать его на смех. Мстислав бросился на них, как одержимый, и дело едва не дошло до кровавой схватки. Но главари сжалились над ним и, отобрав оружие, оставили лежать посреди дороги. Сами же, ускорив шаг, продолжали путь. Но и тут не обошлось без смешков и прозвищ, и срамных слов, предназначенных для Христи.
Когда толпа отъехала, старуха с трудрм привела несчастную в чувство. Жизнь почти оставила ее: она лежала в корчах, с пеной у рта и неподвижными глазами. А по мере того, как возвращалась жизнь, возвращались беспокойство, кровь и сумасшествие.
Мстислав, у которого во время рукопашной схватки у подводы вырвалась и убежала лошадь, пешком провожал Христю дальше к матери. И ему казалось, что он идет за гробом.
Когда показался господский двор усадьбы Гура, окруженный частоколом, Мстислав пошел вперед. Там хозяйствовал другой зять вдовы; Христина мать жила при нем.
С тех пор, как дочь опозорила ее дом, Сулиславова [23]23
«Сулиславова» значит «жена» (или вдова) Сулислава (отца Христи).
[Закрыть]не хотела ее знать. В Гуре было пусто. Сестра Христи еще лежала, не вставая, после недавней болезни, а Сулиславова вела хозяйство за нее и зятя. Большие крытые ворота были заперты; во дворе царила тишина.
Мстислав пробрался во двор через боковую калитку и застал мать на крыльце за пряжей. Увидев и узнав его, она бросила кудель, сама упала на землю, взмахнула руками и, вскочив, собралась убежать. Мстислав ее остановил.
– Матушка! – позвал он. – Умилосердись! Спаси меня и Христю…
Услышав имя дочери, старуха всплеснула руками, остановилась и воскликнула:
– Ошалел ты, что ли?
– Везу к вам Христю, мою несчастную Христю, едва живую. Она убежала одна из замка, где ее держали силой. Я нашел ее среди поля, бедную, больную…
Сулиславова, перепуганная, не зная, что делать, опять было пустилась наутек, но одумалась и возвратилась. Глаза ее наполнились слезами, сердце матери одержало верх.
– Вот ее везут, дорогая матушка, со стыда она еще не смеет на меня взглянуть… Она больна, несчастна, сжалься! Сжалься!
Но видя, что мать еще колеблется, прибавил:
– Чем она виновата? Чем?
Уже скрипнули ворота, которые кто-то открыл настежь, и во двор медленно въехал воз, на котором лежала бледная, еле живая, Христя. Мстислав скрылся за углом. Воз остановился у крыльца, а Сулиславова уже не пыталась убежать; по щекам ее струились слезы.
Старуха бережно подняла обессилевшее тело больной, а рукой осторожно откинула с лица платок. Христя открыла испуганно глаза и сейчас же хотела опять закрыть их, увидев и узнав мать, протягивавшую к ней руки.
В ее мозгу опять что-то перевернулось; жизнь показалась сном, а возвращение к сознанию действительностью.
– Матуся ты моя! – сказала Христя.
– Дитятко мое!
И голова несчастной опустилась на плечо старухи, а веки смежились, как перед сном.
– О! Какой ужасный сон! – шептала она. – Я в Гуре! Я ведь в Гуре!..
И Христя беспокойно оглядывалась по сторонам.
– Не правда ли, ведь это Гура? Здесь нет злых людей? Только ты, матуся, да сестра, да я… а все то, что было, сон, наваждение!
Сулиславова, плача, поддакивала своему дитяти; осторожно, медленно ее сняли с воза.
Теперь только мать могла хорошенько рассмотреть ее. И что только приключилось с ее Христей! С ее красавицей, кровь с молоком, цветущей, свежей Христей, перед которой склонялись короли!! Лицо у ней сделалось бледное и желтое, как небеленый холст; губы посинели, как лепестки увядшей розы; глаза ввалились. Она вся дрожала как осиновая веточка, и не могла держаться на ногах.
– Гура! – повторяла она тихо. – О, какой ужасный сон, матуся!
Голова ее опять склонилась на плечо матери. Она тихо плакала, чтобы выплакать все горькие, накопившиеся слезы. И Сулиславова также молча плакала. Но вот горячая материнская слеза капнула на лицо дочери. Христя с криком метнулась в сторону, и опять раздался тот же вопль:
– Кровь! Кровь!
Она в ужасе стала расталкивать обнимавших ее женщин, пока снова не услышала голос матери. Устремив на нее глаза, она приникла к ней и, успокоенная, зашептала:
– Сон, матуся, сон!
Стоявшая рядом баба также потихоньку повторяла:
– Сон, наваждение…
То же говорила мать, поглаживая Христю по холодному лицу.
Так провели ее в укромный уголок и уложили спать. Мстислав уселся на покути, облокотился на руки и замер, как верный пес на страже. Он не хотел и не мог оставить Христю, а подойти не смел.
Христя не была ни сумасшедшая, ни вполне вменяемая. Вернувшись в Гуру, она точно вернулась в детство. Просто душным, старым бабам было непонятно, что с ней сделалось. Говорили о чарах, о дурном глазе. Послали за другими бабами, чтобы поворожить, заговорить, снять лихо, вернуть здоровье и сознание.
Мстислав, который недавно еще так порывался идти вместе с другими против короля, вдруг ослабел и упал духом. Он либо сидел на лавке в соседней комнате, либо дремал, облокотившись о стол, следя и выжидая, что-то будет с Христей. Он много раз пытался подойти к ней, но она при его виде закрывала глаза и обмирала от ужаса, хотя слова его были ласковы и нежны, и он ухаживал за ней, как за ребенком.
Мать также прогоняла его, и он должен был уходить в переднюю избу и сидеть там в уголке на лавке, слушая младенческие речи Христа.
А в Кракове, в замке, с каждым днем становилось все безлюдней. Бегство Христа раздражало короля и угнетало; он приписывал его поповским козням и измене. Он ходил по опустевшим комнатам, заглядывал в темные углы, иногда впадал в неописуемую ярость, а тогда избивал и умерщвлял все, что попадалось под руку.
Со дня убийства не проходило дня без огорчения… что не утро, кого-нибудь не досчитывались. Король посылал то за тем, то за другим… не приходили, и вокруг не осталось ни одной души, за исключением горсточки придворных, дружины и небольшого числа ратных людей для защиты замка.
Его гордость не мирилась с очевидностью войны, объявленной ему всей страною, своему законному властителю. С другой же стороны, не уступали также из-под замка собравшиеся полчища земских людей и рыцарства, не хотевших иметь его на королевстве. Он же не уступал им Вавеля. Часто, назло своим противникам, король выходил или выезжал из замка в одиночестве; медленно проезжал через их стан, дразнил их своим видом и, безоружный, как бы вызывал на бой. Тогда, увидев его, люди отворачивались, притворяясь, что не видят; когда звал, делали вид, будто не слышат; когда спрашивал, не отвечали. А робкие обращались в бегство. Никто не покушался на него, но всякий избегал.
Что ни день, то становилось хуже.
Костелы все позакрывались. Не было ни благовеста, ни молитвы; алтари стояли без ксендзов; народ, крещеный, принявший христианство, в особенности в городах, тщетно домогался исповеди, венчаний, похорон. Ксендзы закрывали перед паствой двери.
Король попытался, было, послать уполномоченных в Познань, в Гнезно, в Плоцк, в Вроцлав, [24]24
Бреслав.
[Закрыть]требуя, чтобы съехались епископы. Все отвечали, как один, что не хотят иметь дела со святотатцем и убийцей и подставлять головы под меч. Таков был общий смысл отказов, составленных то в мягких, то в резких выражениях.
Король скрывал свой гнев под злобною усмешкой, пожимал плечами и вел прежний образ жизни, не обращая ни на что внимания. Только в замке с каждым днем все более пустело, и даже чернь было трудно зазвать едою и питьем.
При короле осталась только кучка верных болеславцев, решившихся пожертвовать собою, ради данной клятвы. Также обе королевы и их придворные русины. Замок был отрезан от всего мира, как остров среди океана. Под конец никто уж не хотел даже говорить с обитателями замка; не смели сесть с ними за стол, ни подать руку.
Бессильная ярость короля разбивалась о молчаливое, холодное упорство всей страны. Никто не нападал, но и никто не хотел знать его. Бесконечно долго, в молчании, исполненные ужаса, тянулись дни на Вавеле: дни без завтрашнего утра. Болеславовы придворные страшились за участь короля и хлопотали за него. В то время епископом Вроцлавской епархии был Ян Ястшембец, старший сын Одолая. Буривой, посоветовавшись с братьями и не доложив королю, собрался в Вроцлав к епископу. Он мало знал дядю по отцу, но верил кровным узам и надеялся найти у него защиту и совет. Отправляясь в путь, он оделся по-иному, чтобы люди не догадывались о его придворном звании. А так как многие знали его в лицо, то пришлось пробираться в Шлензк [25]25
Силезия.
[Закрыть]лесами и проселками, что очень удлинило путешествие.
Только выбравшись на волю вольную, он увидел, как трудно спасти короля. Все были против него; духовенство вселило ужас даже в сердца простонародья, на которое рассчитывал король, и запугало чернь. Никто не собирался защищать человека, душа и тело которого были во власти сатаны.
Рыцарство и земские люди всюду брали верх, сеяли ужас, никто не смел заикнуться против них. Многие еще помнили времена, наступившие после изгнания Казимира, когда все государство пришло в смятение, покрылось развалинами и погорелищами. Опасались их возврата, а потому в тревоге и в молчании ожидали какого-то конца. Никто не смел поднять голос за короля, хотя, быть может, многие его жалели.
Уже росла молва о чудесах, совершавшихся у гроба мученика, об орлах, охранявших его изрубленные члены, о свете, исходившем по ночам из его могилы.
Буривой, таясь и укрываясь, чтобы не знали, ни кто он, ни зачем едет, прибыл, наконец, измученный и истомленный ко двору дяди. Здесь он заявил о своем родстве с епископом. Но толку было мало: его не скоро допустили.
Епископ Ястшембец был уже старик, ветхий годами, с длинной седой бородою; он опирался на костыль, но голова еще была свежа. Он унаследовал вспыльчивый нрав Одолая, значительно смягченный христианским воспитанием. Порывистость отца превратилась в сыне в неумолимую строгость.
Молчаливый клирик провел Буривого после продолжительного ожидания к епископу. Комната была занавешена от света, а старец сидел поодаль от окна, в кресле, обложенный подушками. Когда Буривой появился на пороге, епископ поднял на него выцветшие глаза, глядевшие из-под нависших седых бровей, и спросил скрипучим голосом:
– Ты из тех, которые были с королем?
– Из тех, которые при нем, – возразил Буривой со вздохом.
– Не подходи! Стой дальше! – крикнул епископ. – Не дерзай отойти от пооога! Что тебе здесь надо? Все вы прокляты вместе с королем! Не могу ни знаться с тобой, ни говорить. Прочь!
– Ваше преподобие, дозвольте…
– Впускать тебя не следовало, – продолжал кричать епископ, стуча о ручку кресла, – зачем сейчас не бросил короля? Епитимью отбыл? С церковью примирился? Убийцы, святотатцы!
– Как мог я бросить короля, – молвил Буривой, – когда все открещиваются от него и от нас, и мы нигде не можем найти спасения.
– Спасения! Нет спасения для безбожников, для убийц, погрязших во грехах, – сказал епископ. – А где же сам убийца?
– В замке, в Кракове.
– Значит, упорствует во злобе! Убийца своего и нашего приснопамятного брата! Облитый кровью, разлагающийся от разврата Каин!
Буривой смолчал. Епископ пронизывал его суровым взором, но, казалось, был не прочь помиловать его. Буривой, не зная, что сказать, спросил:
– Что должен сделать король, чтобы заслужить помилование?
– Разве может быть отпущено такое преступление? – вскричал ястшембец. – Святотатство! Отцеубийство! Только римский архиепископ, наш глава, может наложить на него епитимью… не легкую…
Буривой молча слушал, а епископ продолжал:
– Епитимья… с вервием на шее, босой, с зажженною свечей, годами пусть стоит у церковных врат; пусть отдаст церкви все достояние свое и уйдет из края. Ибо, осквернив себя кровью отца церкви, он не может быть помазанником Божиим.
Буривой весь вздрогнул. Епископ пристально следил за ним глазами.
– То же ждет и вас, его приспешников, бывших с ним. Ты был при том? Поднял руку?
Буривой не отвечал. Охваченный страхом и раскаянием, он низко опустил голову, как виноватый.
Его молчание было достаточно красноречиво.
Епископ протянул иссохшую, худую руку и указал на дверь, уставясь на Буривого дрожащими, безжалостными пальцами. Буривой не уходил.
– Чтоб духу твоего здесь не было! – кричал старый ястшембец обрывающимся голосом. – Vade retro! Vade retro!! [26]26
Отыди!
[Закрыть]Прочь! Отрекаюсь от родства с тобою! Прочь!
– Отче! – отозвался Буривой, обливаясь холодным потом. – Я уйду, но я здесь не ради себя, а ради господина моего. Скажите, что он должен сделать?
– Так полюбился вам, значит, этот изверг? – закричал ястшембец. – Так крепко держитесь за эту гниль, обреченную геенне огненной! Ага! Вы знаете, что связаны с ним преступлением! Туда же вам дорога, вместе с ним, в пасть дьявола….
– Спасите! – умоляюще воскликнул Буривой.
– Пусть во вретище идет в Рим. Пусть там у ног папы, святейшего отца, припав к стопам его, вымолит прощение! А королевство пусть оставит: пока он оскверняет эту землю своим присутствием – не дождаться ей ни бескровной жертвы, и благословения: плевелами порастет, в пустыню обратится, огонь пожрет ее, как Содом и Гомору!
Гнев клокотал в груди епископа. Буривой не смел сказать слова и хотел уже уйти, когда ястшембец его окликнул:
– Мне жаль тебя, – сказал он, – ежели раскаетесь ты и твои братья, я назначу наказание и выхлопочу прощение. Останься за оградой моего двора, за вратами, я обдумаю твою судьбу.
– Отче, – ответил Буривой, – смиреннейшую приношу вам благодарность. Но я еще в судьбе своей не волен и должен вернуться к господину своему.
Услышав слова Буривоя, епископ, трясясь от гнева, вскочил с кресла:
– Прочь, нераскаянный! Прочь, неисправимый, прочь бесстыдник! Ты возвращаешься к греховности своей, как пес к блевотине! Прочь, чтобы ноги твоей здесь не было, с глаз моих долой!
Епископ стал неистово бить в ладоши и, вытащив костыль, стучать им о пол в страшном гневе. Вбежал перепуганный церковник.
– Убрать этого язычника! За ворота вытолкать! Пусть не оскверняет порог моего дома и подворье! Прочь!
У епископа от гнева захватило голос; он упал в кресло, а клирик, слегка придерживая Буривого за рукав, вывел его, согласно приказанию, за ограду епископского дома. Вслед за ним вывели также лошадей, выгнали на улицу и закрыли ворота на засов. Выгнав Буривого, рассвирепевший старец созвал людей и запретил давать племяннику ни хлеба, ни воды, даже если тот будет умирать голодной смертью.
Очутившись на большой дороге, у ворот, Буривой, надеявшийся хотя временно найти приют у дяди, совсем не знал, как одинокому оставаться на чужбине. Правда, при дворе епископа проживал его братан, Павел, которого старый ястшембец взял на попечение, чтобы подготовить к духовному званию. Но теперь Буривой должен был расстаться с мыслью не только добраться до него, но даже получить о Павле какие-либо сведения.
Правда, он пытался расспросить людей. Но когда был выгнан за ворота, а прислуга через окно увидела, что он опять стучится, то никто не захотел с ним разговаривать.
Старый ястшембец долго после того не мог придти в себя. Павел, робкий, задерганный послушник, узнал от него о судьбе Буривого, но не посмел ни разыскать его, ни говорить о нем, как о человеке, подпавшем церковному проклятию. Оно разрывало семейные узы.
Буривой направился в город поискать убогого ночлега, чтобы немного отдохнув, возвращаться в Краков.
Тем временем по Шлензку уж ходили слухи об ожидавшемся приходе чехов, которые будто бы готовятся завладеть беспанскою землею на правах давнишних завоевателей. Снова угрожало раздробление государства и разруха.
Буривой, самый расторопный из всех братьев, на другой же день опять вскочил в седло и поехал в Краков, решившись утаить от короля все, что слышал от епископа. Обратный путь он сделал теми же проселками, избегая встреч и больших дорог, ночуя в лесах и пущах.
Вернувшись на Вавель, он застал здесь все по-старому; только горсточка болеславовых приверженцев еще более растаяла, а сам король был охвачен какой-то жаждой удовольствий, похожей на отчаяние, назло всему миру. Столько дней не видя Буривого, король, заметив его опять в кучке приближенных, даже не осведомился, где он был, что делал, а лишь пристально и долго посмотрев ему в глаза, отвернулся и ушел.
Гордый король никогда не вспоминал о том, что ему грозило, какими был окружен опасностями, он не хотел говорить о них, притворялся, что не видит. Окружал себя толпой; королевской пышностью, сыпал на все стороны сокровищами и, по-видимому, совсем не думал о завтрашнем дне. С дружиной говорил об облавах на зверя, о конях, о соколах, о женщинах, о войнах; вспоминал прошлое и не касался настоящего. Если кто осмеливался молвить слово о текущем, получал в ответ грозный взгляд и вынужден был замолчать. Только по выражению королевского лица можно было догадаться, как терзало его то, что он таил в душе. Он пожелтел, состарился, стал желчным, а когда старался быть веселым, свирепел. Малейшая вина приводила его в ярость.
Вечером, в день возвращения, Буривой вместе с остальными пошел в королевскую опочивальню, а когда все ушли, он остался у дверей. Король, заметив его молчаливое упорство, допив по привычке на сон грядущий кубок меду, резко обратился к Буривому:
– Чего тебе?
– Всемилостивый государь, – ответил Буривой, – пора подумать о своих невзгодах.
– Нет! – воскликнул король. – О невзгодах болтают бабы! Мужи должны уметь смеяться и брать верх.
– Разрешите говорить, всемилостивый государь, – отозвался Буривой.
– Ну, говори, если чешется язык, – молвил король, – говори, да не заговаривайся.
– Не прикажете ли ехать в Венгрию, привести немного подкреплений?
– Я? Просить подмоги у чужих в домашнем деле? – вспылил король. – Что мне угрожает? Стоят, глядят, не смеют шевельнуться. Надо созвать народ, кликнуть клич по деревням, а не сзывать чужих.
– Всемилостивый государь, простой народ уж не пойдет. Поздненько!
Король в гневе напустился на Буривого:
– Все-то вы бабы, трусы, безмозглый сброд! Ничего не умеете! Не самому же мне таскаться от хаты к хате!
– От хаты к хате потаскались уж ксендзы и запугали сельский люд…
Болеслав опорожнил кубок и лег в постель. Он переменил предмет разговора и стал расспрашивать о числе земских людей и рыцарства, расположившихся станом у подножия Вавеля. Буривой не мог дать точного ответа, но испугался, проникнув мыслью короля, вполне способного с горсточкою верных людей броситься в сечу против целых полчищ.
Вся дружина и рать, бывшие при короле, едва насчитывали несколько сот вооруженных. А земские люди и рыцарство, стоявшее в предместьях и в окрестностях столицы, собрались многотысячными полчищами, самим же Болеславом обученными ратному делу; и оружие было у них хорошее. Они окружили Вавель чутким и бдительным кольцом, терпеливо ожидая отъезда короля и нисколько не сомневаясь, что рано или поздно одолеют его, хотя бы измором.
Долго молчал король, притворяясь, что заснул. Потом вдруг вскочил, схватил пустой кубок и велел его наполнить.
– Сделать вылазку и искрошить их, тогда успокоятся! – крикнул он.
На это Буривой уж не смолчал.
– Всемилостивый государь, – сказал он, – если даже мы их побьем, начав войну, которой они начать не смеют, весь край восстанет против нас, а тогда не унести нам ног отсюда.
– Неправда, – крикнул Болеслав, – не одолеют и ничего со мной не сделают! Одно имя мое нагонит страх! Разбегутся от меня как зайцы, если мы смело навалимся на них. Неправда! Народ подымется, когда увидит, что я веду войну с изменниками!
Буривой собрался было возражать, но король заставил его умолкнуть: он не выносил противоречия, стал браниться и осыпать его упреками, называть дружинников трусами, которых надо усадить за прялки; однако, перестал говорить о вылазке.
На другое утро, как бы в предвидении продолжительной осады, послали по окрестностям за живностью и продовольствием, а король лично смотрел валы, частоколы и ворота. Он был грозен и суров, но возбужден и деятелен. Буривой не отваживался больше говорить с ним и избегал встречаться.








