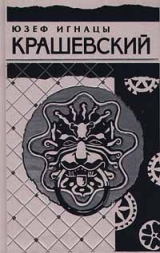
Текст книги "Болеславцы"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Владислав побледнел, затрясся и бросился к ногам епископа. Станислав из Щепанова попятился, желая избежать прикосновения Владислава.
– Отче! – воскликнул он. – Умилосердьтесь над ним и над всеми нами!
– Сам он, сам не захотел сжалиться над собою и над вами, – гневно возразил епископ, – его просите, пусть покается!
Герман, как бы почувствовав удар, вскочил, пристально взглянул на неумолимого епископа, и пястовская кровь вскипела. Он выпрямился, и лицо приняло почти угрожающее выражение.
– Как священнослужитель, вы, преподобный отче, конечно, лучше знаете, что делать, – промолвил Владислав, повысив голос, – я же, как христианин и брат короля, осмелюсь вам напомнить, что готовящееся столкновение не пойдет никому на благо: ни церкви, ни вам, ни стране, ни духовенству. Если вызвать короля на бой, он будет страшен в своем гневе и безмерен в злобе.
– Церковь не боится ничьей злобы и ничьих насилий! – перебил епископ. – О ее твердыню разбиваются удары и падают на тех, кто кощунственно посягает на ее святыню.
– Значит нет спасения? – воскликнул Владислав.
– Есть, – молвил епископ, – одно единственное: пусть король смирится. Пусть пешком, покорностью и всенародно, как кающийся грешник, придет и встанет перед той самой дверью, которую приказал взломать во время чина святого возношения; пусть принесет покаяние, и Рим умилосердится.
Владислав молчал; он знал лучше кого-либо иного, что невозможно будет склонить короля к такому шагу. Через некоторое время епископ прибавил:
– Как только проклятие свершится, а лучше до того, уезжай отсюда, княже, удались, беги! Всякое общение с королем, подпавшим анафеме, обрушится на вашу голову, на головы всех, которые будут с ним!
Епископ стоял поодаль от князя, как бы желая показать, что свидание окончено, и он свободен. Но Владислав продолжал медлить, колеблясь между чувством страха и желанием неосуществимого посредничества. Взглянув на стоявшего вдали епископа, неприступного в своем величии, он убедился, что попытки склонить его на милость были бы напрасны. Чем дальше, тем грознее становилось выражение лица и осанки священнослужителя.
– Итак, приговор ваш окончательный? – шепнул князь тихо.
– Свершится так, как я сказал, – ответил епископ, – ибо говорил не я, а устами моими глаголила церковь. Иди, князь, на Вавель, взгляни на взломанные врата церкви и помолись, чтобы Господь Бог не отомстил за оскорбление своей святыни всему роду и нисходящим поколениям.
Владислав схватился за голову и, уже не пытаясь подойти к стоявшему поодаль епископу, медленным шагом удалился.
Король прямо из костела поехал на охоту. Дворовый люд, желая подслужиться, поминутно посмеиваясь, заговаривал о том, как взламывали церковные врата, как одержали верх над бискупом Епископом., как, будто, струсил окружавший его клир. Другие, посмелее, громко угрожали самому епископу, взводили на него клеветы, измышляли бессмысленные сплетни. Неразумные приспешники не замечали, что Болеслав хмурится в ответ на их глумления. Король не отвечал, не потешался над их выходками и даже, по-видимому, впадал в гнев при одном упоминании имени епископа. Легкомысленная молодежь праздновала победу там, где король разумно видел только первый шаг к борьбе.
В тот же день, среди охоты, внезапно, при ясном небе разразилась буря, с вихрем, громом, молнией и градом; а когда кучка болеславцев спряталась под дуб, стоявший на опушке леса, огонь небесный упал с неба и на глазах всех обратил дерево в щепы и воспалил его.
Охота была также неудачная; сокола отказывались взлетать, собаки, точно потеряв чутье, бродили как шальные, зверь невредимо убегал из-под самых ног.
Буривой, сначала издевавшийся, вдруг умолк, а Доброгост, нагнувшись к его уху, прошептал:
– Король сегодня грозен: не вспоминайте про епископа. Верно знает, о чем говорят в народе.
– А что же говорят такое?
– А что сегодня будут проклинать его в костеле.
– Вот велика беда! – откликнулся Буривой. – Мало ль кто кого клянет!
– Ого! – возразил Доброгост. – О таком церковном проклятии ужасы рассказывают… Будто проклятый делается зверем, вильколаком, должен хорониться от людей, иначе ему смерть…
Буривой недоверчиво пожал плечами, но на лицах обоих виден был страх, который они напрасно пытались утаить.
– А кто с ним будет дружить, тем грозит та же участь, – прибавил Доброгост.
– Не тебе бы говорить… – перебил брат.
Пока король с дружиной охотились под Краковом, на Скалке у епископа собралось гостей больше, нежели обычно. Съехавшееся отовсюду духовенство окружало дом и расположилось во дворе усадьбы. На лицах всех лежало выражение тревоги; многие, не скрываясь, плакали и ломали руки. Епископ ходил среди них бледный, молчаливый, но отнюдь не поколебленный боязнью и страхом, охватившими его приближенных. Несколько престарелых прелатов пытались со смирением склонить его к смягчению приговора, но епископ обрывал их или переходил на другие темы в разговоре. Сам же старательно подготовлял все то, ради чего собрал окрестный клир.
На столах лежали развернутые книги… некоторые с любопытством заглядывали в них и пятились со страхом. Наступал вечер, когда все соборяне вошли в небольшой костел на Скалке. На алтаре, как перед всенощной, ярко горели свечи, и медленно плыл в воздухе церковный звон, точно сзывая на молитву. В костеле было сумрачно и тихо, как перед отпеванием покойника. Вслед за епископом все духовенство покорно вошло в ризницу и стало облачаться в праздничные ризы и скуфейки. Епископ надел митру и взял в руки жезл…
Уныло гудел колокол, а люди, привлеченные богослужением в такой необычный час, тревожно, с любопытством, теснились в притворе и в костеле.
Здесь царствовала тишина. Сквозь окна доносилось только щебетанье ласточек и воробьиное чириканье; а последний заблудший в костел луч солнца через какое-то верхнее окошко золотистою тесьмою перерезал пополам внутренность святыни.
У дверей толпа росла; шепотом передавались на ухо друг другу разные догадки, когда со стороны ризницы послышалось шарканье ног, и вошли двое мальчиков-церковников, один с книгою, другой с крестом; позади них шествовал епископ.
Станислав из Щепанова был бледен; осанка была величественна и исполнена достоинства; он все время беззвучно повторял слова молитвы. За ним длинной вереницей шли попарно священнослужители, в рясах, с зажженными свечами, свесив головы на грудь. Они шли, не глядя на народ, точно погруженные в молитву или в горестные мысли. Так дошли они до алтаря и стали, по шесть человек с каждой стороны архипастыря, поднявшегося на ступени амвона.
В эту минуту невидимкою протиснулся в толпу возвращавшийся сам друг в замок и привлеченный роковым предчувствием на погребальный звон колоколов какой-то мужчина, закутанный в темную епанчу. Многие, видевшие его в замке, узнали королевского брата Владислава и стали показывать на него пальцами.
Люди расступались перед ним, но князь уклонился и тревожно высматривал себе место в притворе, где мог бы притаиться незамеченный. Он, видимо, был недоволен, что его узнали, закрывал лицо, высматривал уголок потемнее, а спутнику велел заслонить себя от слишком любопытных взоров.
Колокол продолжал звонить медленно, редкими унылыми ударами и неизменно тянул одну прерывистую, как рыдание, жалобную ноту.
Шепот толпы замолк. Епископ трижды ударил посохом о ступени алтаря и, раскрыв книгу, стал, по-видимому, читать про себя слова молитвы. Потом повернулся лицом к алтарю и гробовым унылым голосом запел: "Тебе Бога хвалим".
Все духовенство запело вместе с ним… Странное то было, захватывающее пение. И напев, и слова были те же, но звучали они иначе, по обстоятельствам. Теперь в них слышалось страдание и колебание, терзания души, тревога… Некоторые из священников утирали слезы, голоса их обрывались…
Колокол звонил жалобно, как на упокой. Самый обряд, значения которого толпа не понимала, преисполнял ее ужасом; и хотя предстоящие не знали конечной цели совершавшегося на их глазах священнодействия, они все же чувствовали его грозный, роковой, могучий смысл.
Пение окончилось, и на мгновение вновь водворилась тишина; епископ с той же книгой обратился лицом к пастве. Лик его был грозен, как лик судьи перед произнесением страшного приговора. Даже стоявшие вдали чуяли грозу и невольно напирали друг на друга, пятясь вглубь церкви. Почти весь народ инстинктивно скучился в притворе… И вот, возвысив голос, епископ стал читать торжественно, метая громы:
– Проклят Болеслав, Казимиров сын, король; проклят со всеми сообщниками и советниками; со всеми, которые радовались, видя его деяния; знали о его поступках и не удержали его и не кричали о беззакониях его.
Да будет проклят Болеслав под кровлею своей и во дворе своем, и во граде, и во веси, и на нивах; да будет проклят, когда сидит, стоит и ест, и пьет, работает и спит. Да будет проклят, да не останется на нем живого места, ни здоровой части тела; да будет проклят от головы до ног; да вытечет утроба его, да пожрут черви его тело. Да будет проклят наравне с Ананием и Сапфирой; да будет проклят вместе с Авироном и Дафаном, которых пожрала земля; да будет проклят с Каином братоубийцей. Да будет жительство его обращено в пустыню, а сам он вычеркнут из книги живота. И пусть память о нем сотрется и исчезнет навеки.
Да будет проклят на страшном судище Христовом вместе с дьяволом и ангелы его и пусть погибнет на веки вечные, если не опомнится!
Страшные слова проклятия епископ произносил медленно, а голос его ширился и рос, по мере нарастания силы и объема заклинаний. Окончив, он бросил перед собою на пол свечу, которую держал в руке. И в то же мгновение все духовенство, окружавшее епископа, также стало бросать оземь свечи, громко возглашая:
– Аминь! Аминь! Да будет тако!
Громыхание свеч о церковный пол казалось вспышками небесного огня… Народ еще далее попятился… В притворе, позади толпы, раздался из угла пронзительный, исполненный душевной боли крик, а за ним как бы звук упавшего на землю тела. Глаза всех обратились туда, где небольшая кучка людей окружила лежавшего в глубоком обмороке человека, которого ближайшие старались привести в себя.
В костеле, чем дальше, тем более сгущался мрак; на полу, дымя, догорали брошенные свечи; епископ, простояв еще малое время, склонившись над книгой, по которой служил чин проклятия, дал знак отнести ее опять под спуд, сам же, преклонив колена перед алтарем, степенным шагом вернулся в ризницу а за ним все духовенство.
Свершилось то, о чем было возвещено заранее!
И, все-таки, смысл обряда остался бы, быть может, непонятным собравшейся толпе, если бы у дверей притвора не были поставлены два клирика, по одному у чаши со святой водой и противоположного столба, которые, слово за словом, медленно, объясняли народу значение каждого проклятия.
Едва епископ удалился, как среди толпы раздались плач и стоны, и горестные вопли, и крики ужаса. Страх охватил присутствовавших. Одни метались, стремясь уйти из церкви, другие, рыдая, бросались на колена или ложились крестом на землю… Им казалось, что вместе с королем проклятие постигло всю страну; что оно, как буря, пронесется над землею, уничтожит, испепелит и обратит в развалины весь край.
Погребальный звон все еще раздавался. Крик и плач в костеле стали привлекать прохожих горожан, земских людей, простонародье… Из непосредственной близи костела и соседних с ним домов весть, распространяя невыразимую тревогу, росла и ширилась, как зарево пожара. Из уст в уста передавался слух:
– Король подпал проклятию!.. Мы без короля!
Смысл и значение случившегося для большинства сословий были темны; однако, они почуяли тайную угрозу, ощущали силу, для которой не было ни меры, ни названия, и проникались чувством ужаса.
Иные твердили с плачем, будто проклятие тяготеет не только над виновником, но и над всеми его родичами; что оно распространяется на всех, чем-либо связанных с подпавшим церковному проклятию, имевших какое-либо к нему касательство, служивших ему или исполнявших его волю. Каждая пядь земли, которой он касался, тем самым была проклята… Поля прорастут бурьяном, мор уничтожит все живое, колодцы высохнут, реки выйдут из берегов и зальют селения, огонь небесный падет на землю, а земля разверзнется и поглотит проклятое отродье.
Женщины падали в обморок, прижимая к груди младенцев; мужчины бросались ниц на землю и плакали, рыча как звери: весть о проклятии, разносившаяся по городу, предместьям и окрестным селам, преисполняла всех тревогою и, казалось, предвещала светопреставление. Со стоном и рыданиями передавали ее друг другу разбегавшиеся по большим дорогам люди. Несмотря на темноту, собирались огромными толпами и осаждали костел и дом епископа; в страхе ложились на ступенях запертого храма, ища на них убежища, стеная и заносясь от плача…
Никто не смел войти в свой дом, боясь, что крыша рухнет на голову; с опаскою приглядывались к чернеющему небу, в глубине которого ярко сияли сверкающие звезды, точно омытые дневною бурей…
Была ночь, когда король, возвращавшийся с охоты, окруженный веселою дружиной, подъехал к подножью Вавеля. Там, по-прежнему, толпами стоял народ, рыдая и оплакивая свою долю. Одного взгляда на необычное среди ночи людское скопище было достаточно: король почувствовал, что произошло нечто небывалое. Он пришпорил коня, желая поскорее узнать от первых встречных, что случилось. Но при виде его в толпе раздались неистовые вопли; народ шарахнулся, сначала сбился в кучу, потом рассыпался и с криками и визгом стал разбегаться во все стороны.
Послушные велениям короля, болеславцы напрасно пустились вдогонку за убегавшими; всяк старался уклониться от общения с ними, ускользал и прятался. Народ скакал через заборы и канавы, хоронился во рвах, укрывался по домам, ибо всем было внушено, что единое слово с подпавшими проклятию может навлечь проклятие на голову неосторожных. Переполох широкою волной охватил город, предместья и окрестные селения.
Король и его спутники долго не могли понять, в чем дело. Но заразительное чувство страха, боязнь грозившей всем беды стали исподволь охватывать и дворню.
Повсюду, где только видел глаз, и хватал слух, разбегались во все стороны, крича и охая, толпы народа. Невидимая сила ширила тревогу; она росла и крепла, наполняя воздух единым нераздельным стоном… Среди ночных безмолвия и тьмы рычание целого народа было исполнено таким безмерным ужасом, что король, не знавший страха, почувствовал, как у него по коже пробежал мороз, и стали дыбом волосы. Он не нашел иного объяснения, как то, что враги врасплох напали на его город, что надо ополчаться, собирать рать и идти в бой. Ему чудились уже не то чехи, не то немцы, и с уст сорвалось проклятие.
Гневно пришпорив лошадь, король во весь дух помчался вверх по замковой горе. В ограде, посреди дворов, кучками стояли заплаканные женщины, встревоженная челядь. Все было впопыхах, в расстройстве, полно слез и стонов. И здесь появление короля произвело то же впечатление, как на народ: все разбежалось и рассыпалось; женщины бросались на землю, удвоился крик и стоны. Болеславцы соскочили с коней и окружили короля, который, гневный, шел к своим хоромам. Лицо его пылало злобой, глаза метали молнии.
Первые, которых он увидел при входе в дом, были его престарелая мать, остолбеневшая над лежавшей в обмороке королевой, и сын Мешек, который, стоя на коленях, весь в слезах, покрывал поцелуями смертельно бледное лицо и сведенные судорогой руки матери… Рядом стоял полуобезумевший Владислав. Увидев брата, с гневом ворвавшегося в комнату, Владислав невольно сделал несколько шагов назад… Итак, все убегали от него?!
Болеслав постоял мгновение среди окружавших его разрухи и сумятицы, не зная, что делать; рука его дрожала на мече и трепетно сжимала рукоять. Он впивался взорами в толпу, глаза скользили по ошалелым лицам; пытался смеяться, но из уст невольно вырвалось языческое сквернословие. Вокруг него держалась только кучка болеславцев; встревоженные, они, по-видимому, ждали приказаний. Но король, смерив их глазами, внезапно повернулся и один вошел в свои хоромы.
Никто не открыл ему тайну зловещей загадки; но ключ к ней витал в воздухе: Болеслав знал, что на него обрушилось проклятие епископа. Среди двора разрозненными кучками собрались люди, не зная, что делать. Наиболее испуганные хотели бежать из замка, бросив все свое имущество; другие блуждали из угла в угол, колебались, не знали, на что решиться: не смели ни уйти, ни остаться с королем, и с отчаяния заламывали руки.
В дверях своих покоев, распустив волосы, бледная, ломая руки, стояла Христя. Она едва дышала и в полуобморочном состоянии, одна, всеми брошенная, то заливалась плачем, то цеплялась за стены, то сумасшедшими глазами следила за толпой, сновавшей вокруг дома, заполонившей двор. Ее служанки сидели на полу, причитали и рвали на себе волосы, как плакальщицы. Беспорядок рос на Вышгороде с каждою минутой; все расползалось; чувствовался недостаток в людях; а те, которые остались, потеряли головы. Никто не слушал приказаний, и мало кто осмеливался отдавать их.
Кто-то выпустил любимую королевскую кобылку, а может быть и сама она вырвалась из денника. Привыкшая к хозяину, она подошла под окна королевских хором, где ее нередко лакомили хлебом, и стала громко ржать, точно из сочувствия людскому горю. Громко выли дворовые собаки, взбудораженные стонами людей…
Король долго не выходил из своих покоев. Глубокой ночью утомление внесло немного спокойствия; люди разошлись по разным закоулкам, позабились, поулеглись… Королевский замок стоял темный и пустой, и точно вымерший. Только королевская дружина молча бодрствовала по избам; перепуганная, но верная своему повелителю, она готова была ринуться по его знаку.
Стража у дверей также стояла по местам. Но король никого к себе не требовал. После вторых петухов он один вышел из опочивальни, в которой провел ночь.
С взъерошенными волосами, в одном нижнем платье, король молча прошел мимо привратника и медленным шагом направился во двор, как бы на прогулку. Из боязни прогневить его, никто не осмелился сказать слово, да и сам король ни на кого не взглянул. В комнатах было душно; он стремился на воздух, чтобы отдышаться. Так прошел он через безлюдные дворы в сопутствии одних только верных псов, которые то догоняли его, то останавливались, точно сомневаясь, провожать ли им хозяина. Король шел, сам не зная, куда и зачем; шел, чтобы идти, двигаться, дышать, а не костенеть и цепенеть в бездействии.
Ночь была темная; но посреди мрака резко выделялись дворцовые постройки, как бы дремавшие под кровом ночи. Утомленный бесцельной прогулкой, несколько раз обойдя все переходы и проезды, король, наконец, остановился, чтобы рассмотреть, куда забрел. Перед ним высился костел и двери, выломанные по его приказу. Створки были вновь поставлены на место и накрепко закрыты; однако, на почерневшем дереве резко выделялись следы взлома, белевшие сквозь темень ночи.
Незажившие раны на теле святыни. Король поднял взор, пристально взглянул на двери и остановился, скрестив руки, напротив окованных железом створок. Он погрузился в думы.
Не об эти ли изломанные запертые двери суждено разбиться его силе и могуществу? Вот, он разгромил их, а они воскресли, окованные новыми железными болтами, и опять встали ему поперек пути!
Не в силе отвести глаза король долго простоял в молчании; гневный, почти невменяемый. Он, мечтавший сравниться и затмить своего великого тезку, [15]15
Болеслава Храброго.
[Закрыть]вспомнил его Щербец и Золотые ворота, [16]16
Намек на взятие Киева.
[Закрыть]сравнил его войны со своими! О, как далеко было ему до славы предка! Явился человек, который один на один дерзал вызывать его на бой и помыкать его могуществом! Неужели он, раздававший венцы и возводивший на престолы, потерпит такое умаление?
Рассветало, когда король медленным шагом вернулся в замок, не столько, может быть, успокоенный, сколько утомленный.
Люди просыпались, полные вчерашних впечатлений, и со страхом встречались друг с другом, как будто ночью изменилось все, и они сами сделались другими. Молча заглядывали они друг другу в глаза, неуверенные, колеблющиеся, в сомнении, может ли вчерашняя жизнь продолжиться сегодня. Многие, опасливые, уже с вечера тайком ушли с королевского двора; другие ускользнули утром.
В обычный час на Скалке раздался колокольный благовест к обедне, но замковый костел был пуст и заперт.
Королевская дворня ожидала приказаний. Король потребовал ее несколько позже, нежели обычно. Болеславцы и дворцовая челядь были на своих местах. Войдя, они застали короля одетым, при оружии, с лицом грозным, бледным, но спокойным, благодаря сделанному над собой страшному усилию. Посыпались, немедля, приказания, расспросы, как обычно… и ни слова о вчерашней суматохе и тревоге.
Накануне, по пути домой, король отдал приказание: наутро вновь ехать на охоту в ближайшие окрестности. Он повторил сделанные с вечера распоряжения и приказал всем быть немедленно готовым ехать на охоту в лес. Брат Владислав должен был сопутствовать, а потому сейчас послали за его конями, сокольничими и псарями. Буривой направился к хоромам, в которых разместился Владислав, но его покои опустели: князь еще в ночи, тайком, уехал со всей своей дружиной.
Об отъезде Владислава не решились даже доложить королю. Но тот, увидев Буривого, возвратившегося молча, догадался и больше не вспоминал о брате. Только перед самым выездом он прошел окольною дорогою к княжескому терему, открыл дверь и заглянул в пустые комнаты, где в беспорядке были разбросаны постели. Злобно усмехнулся и, не говоря ни слова, направился к лошадям, ожидавшим его среди двора.
Он был сам не свой: смеялся, заговаривал с дружиной, несколько раз отдавая приказания, возвышал без нужды голос, вел себя шумно и крикливо. Потом обвел глазами замок, имевший такой немой, безлюдный вид… дал коню шпоры и первым вскачь пустился по дороге, ведущей от замка к Висле. Предполагалось переправиться и ехать в потусторонние леса.
День был ясный и погодный. По чистому небу плыли мелкие перистые облака; воздух был насыщен прелестью весны. Предутренний рассвет такой же, как всегда, успокоительно подействовал на всех, встревоженных бедою, случившеюся накануне. Король также воспрянул духом, и свойственный ему задор вернулся.
Вчерашние события показались ему сном, лихорадочным бредом, самообманом, дикою фантазией: Бог, по-прежнему, продолжал расточать миру свои блага.
Солнце взошло, яркое и теплое, в воздухе веяло весной, ветер нес благоухание полей, запах свежей листвы и цветов, открывавших венчики… Пахло пашнею, росистым утром…
В предместьях города не замечалось ни усиленного движения, ни чего-либо сверхбудничного. Жизнь, казалось, вошла в обычную колею.
– Видишь! – сказал Буривой Доброгосту, следуя за королем. – Видишь, ничего не случилось… и не случится. Малодушные сбежали… и со стыдом вернутся… А что какой-то дерзкий поп вздумал всенародно проклинать нас, так разве Бог должен непременно его слушать? Ведь то король, наш помазанный и венчанный повелитель!.. С ним не так-то легко справиться, а попа мы проучим!
Доброгост был далеко не так радужно настроен, как брат, он посмотрел на него, покивал головою и повел совсем иные речи.
– А сколько разбежалось за вчерашний день народа! Мне сдается, что когда вернемся с охоты, опять не досчитаемся доброй половины! Если так пойдет и дальше, кто, под конец, останется при короле?
– Мы! – резко ответил Буривой. – Мы! Кто хочет отойти, скатертью ему дорога, обойдемся без него! Но пусть смотрят в оба: король им этого не спустит! Я знаю его лучше, чем ты. Слышал, как он сегодня во все горло кричал и хохотал, какой был радостный? Ну, так вот: нет хуже, когда он так беснуется! Не хотел бы я быть на месте тех, которые теперь проштрафятся!
Доброгост молчал.
Переправившись на пароме через Вислу, они встретили в нескольких сот шагах от берега каких-то поезжан. Были то владыки и земские люди, в большом числе тянувшиеся к Кракову.
Сначала они прямо шли большой дорогой, навстречу дружине короля; когда же подъехали поближе и могли узнать, среди дружины, Болеслава, то, видимо, смутились, сбились в кучу и остановились в замешательстве. Потом круто повернули влево и проселком пустились через пашни, явно избегая встречи.
Цель их была совершенно очевидна и понятна.
Король обернулся к своим и кивнул Буривому:
– Валяй наперерез! – закричал он гневно. – Догони и посмотри, что за люди!
– Всемилостивый государь, – ответил Буривой, – незачем за этим ездить. Я и так вижу, кто они такие по оружию, коням и доспехам. Едут Лелива, Крук и Бжехва с челядью.
Король разразился резким смехом.
– Едут за советом к другу своему, епископу. Пусть едут и хорошенько посоветуются: ни ему, ни им недолго жить.
Несмотря на смех и презрительные речи, король был в высшей степени взволнован и поколеблен в духе. Сначала хотел высокомерно проехать мимо, потом заколебался и придержал лошадь, думая подозвать к себе. Опять проследовал дорогою поближе и велел трубить в рога на сбор.
Гулко заиграл рожок…
Ехавшие приостановились и, по-видимому, совещались. Когда же король гневно стал махать рукой, требуя к себе, вожди оставили холопов в поле и подъехали одни.
Лелива, Крук и Бжехва были в шлыках и не подумали снять их перед королем. На полпути они остановились и дальше не хотели ехать.
Тогда король, велев дружине стоять на месте, сам поскакал навстречу. Подъехав вплотную к непокорным, он грозно засверкал на них очами. Но те невозмутимо остались на конях, не спешились и не оказали королю обычных знаков уважения.
Болеслав прекрасно знал в лицо всех троих, но, тем не менее, спросил:
– Что за люди?
Лелива, поразмыслив, отвечал:
– Мы вотчинники на землях наших. Я – Лелива, а этот Крук, который служил чашником при покойном короле… а тот Бжехва.
– А меня не знаете? – окрикнул их король.
– Вчера знали, – смело ответил Лелива, – а сегодня тебя не знаем.
– Хотите, чтобы я напомнил?
– Мы на все готовы, – буркнул Крук. Король молча смотрел на них, не находя слов.
– Иначе говоря, не хотите со мной знаться? – повторил он грозно.
Лелива опять подумал; другие же молчали, предоставив ему объясняться с королем.
– Не хотим, потому что ты отрекаешься от своей матери, – медленно сказал Лелива.
– Какой матери?
– Пресвятой церкви нашей и ее служителей. Король насмешливо взглянул на говорившего.
– Этому попы вас научили! – воскликнул он. – А я и попов научу, и вас, почитать отца! Я отец вам, а мать в супружестве повинуется отцу, а не верховодит. Поняли?!
Владыки ничего не отвечали.
Видно было, что у короля накипело на душе, ибо он, обычно не склонный к разговорам, страстно желал протянуть беседу.
– А вам какое дело до моей ссоры с тем попом? Что вам до церкви? Ваша повинность земская, а не поповская! Слышали?!
Лелива снова, помолчав, ответил веско и степенно:
– Мы не язычники; приняли святое крещение и присягнули на верность церкви.
– А мне вы разве не присягали?
– Кто подпал церковному проклятию, тот не может требовать покорности, – возразил Лелива.
Слова были сказаны с большим хладнокровием и сознанием важности момента, которым король мог противопоставить только обычный смех. Но глаза его сверкали, как у дикого зверя, и он все время держался за опояску меча, точно порываясь обнажить его.
– Прочь! С глаз моих долой, если хотите уйти целыми, – вспылил он. – Вон! Поп ответит и за вас, и за себя; он вас, недоумков, подбивает к ослушанию! Прочь!
И король показывал рукою в сторону.
Лелива, Крук и Бжехва стали медленно поворачивать коней и поехали, даже не кивнув головою и не оглянувшись. Король остановился на мгновение, как вкопанный, следуя за ними взором. Потом, дав шпоры, пустил лошадь вскачь, и весь двор ринулся за ним следом.
Проезжая мимо отряда земских людей, болеславцы угрожающе махали в их сторону руками; одни грозили кулаками, другие обнажили даже мечи. Горсть земских людей не показала страха и, в свою очередь, взялась за оружие. Так они разъехались, преследуя друг друга бранью и ругательствами, а король мчался дальше.
В замке, после отъезда короля, все притихло. В покоях обеих королев стоял, как накануне, неумолчный плач, и слышались молитвы. Бабушка и мать успокаивали перепуганного Мешка, которому не смели и не умели объяснить случившегося, ни того, что грозило в будущем. Обе твердили лишь одно, что ни в Киеве, ни на Руси им не пришлось бы претерпеть того, что здесь. Чуть свет, королева послала одного придворного за стариком ксендзом, читавшим у нее молитвы и обучавшим королевича закону веры. Но утром его нигде не нашли, и никто не мог сказать, что с ним случилось.
Он был бенедиктинский монах, весьма уже почтенных лет, родом итальянец, поселившийся еще при первых князьях в Тыньце. Потом, когда в Маславовские времена монастырь сожгли, он удалился в Краков. Старичок научился говорить по-польски и давно вернулся бы к своей монастырской братии, которую Казимир снова вызвал в Тынец, а Болеслав в Могильню, если бы не королева. Она привыкла к старому монаху и оставила при себе для сына.
Не сроднившись с краем, в котором прожил много долгих, тяжелых лет, отец Оттон вел в замке одинокий образ жизни. Если не молился, то отдавал все свое время занятию искусством во славу Божию, так как прекрасно умел писать святые иконы для костелов. Ранним утром он служил в костеле тихую мессу, [17]17
Когда все возгласы произносятся про себя, мысленно.
[Закрыть]потом проводил несколько часов с Мешком, а с духовенством знался мало. Епископа же видывал только издалека, не имел к нему касательства и не старался войти в милость.
Теперь Оттона искали по всему дворцу и долго не могли найти. Комнатка его стояла настежь, но не пустая. В ней было еще полно золоченых досок, на которых он писал лики святых, лежали черепки с красками и кисти, листы пергамента и книги. Не было похоже, чтобы он покинул замок. Наконец, посланец королевы случайно встретил его по дороге в город, бледного и перепуганного, и стал усиленно просить немедленно пожаловать в покои королевы.
Старичок, всегда довольно молчаливый, заколебался и, по-видимому, не знал, что делать. Тревожно осмотрелся по сторонам, однако, наконец, ленивым шагом пошел за провожатым, хотя было ясно, что идет очень неохотно.
Увидев его у порога, молодая королева вскочила со скамьи и побежала навстречу. Мешко, также очень полюбивший старичка, вприпрыжку подбежал к нему, протягивая ручки. Потом обнял, улыбаясь, обрадованный чрезвычайно. Лицо отца Отгона немного прояснилось; он заплакал, гладя Мешка по белокурым волосам и прижимая его к себе.
Тогда королева Велислава шепотом велела сыну уйти. Ребенок не сразу, неохотно и медлительно исполнил приказание; держась ручонкой за рясу бенедиктинца, он тянул его за собой…








