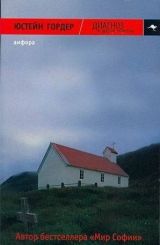
Текст книги "ДИАГНОЗ и другие новеллы"
Автор книги: Юстейн Гордер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
ЕННИ НЕ В СИЛАХ БЫЛА видеть ни пасхальную романтику, ни креветок, ни кофе. Она не в силах была даже думать.
Она огляделась в зале, битком набитом спешащими людьми. И увидела теперь то, на что никогда прежде не обращала внимания. Она открыла для себя всех этих людей в кафе. И теперь видела их с такой молниеносной остротой, выхватывая взглядом одного за другим.
Казалось, будто она знала каждого – узнавала его. Словно они были членами её собственной семьи. Словно были той же самой плоти и крови, что и она сама.
Ближние…
Каждое лицо говорило само за себя, рассказывало свою историю.
«Бедные люди, – думала Енни. – Они переживут меня, но жить они не будут».
Она почувствовала, как в ней начинает расти своего рода гордость. Одновременно она испытывала сострадание ко всем людям, да, ко всей жизни вообще.
– Енни!
В ней что-то дрогнуло. Внезапно её вырвали из потока непривычных мыслей…
– Ха-ха! Как давно мы не виделись! Как ты провела Пасху?
Атака велась из-за угла! Это была её подруга из Сёрейде. Чертовски по-пасхальному загорелая. С тёмными очками в светлых волосах.
Ещё одна случайность…
– Ты была дома?
Сири села за столик и положила ладонь на её руку. На запястье сверкал золотой браслет.
– Да… в этом году я осталась дома…
– Но у тебя ведь тоже были каникулы, да?
– Ну да, а у тебя?
– Мы ездили в Финсе. Вернулись вчера. Я и Рагнхильд. Мы… Мы, вообще-то, большей частью жили в её хижине…
– В её хижине?..
– Я знала, что ты задашь этот вопрос.
– О чём же? Разве я о чём-то спросила?
– Ты что совсем скисла, Енни? Почему ты вообще осталась дома?
– Ты сказала, что большей частью жила в хижине у Рагнхильд.
– О да, это правда. Нет, но потом мы, стало быть, встретили одного лектора и одного врача…
Сири подняла глаза к небу.
– А они-то жили в гигантской хижине… с сауной, понимаешь… и всем прочим. Так что мы пожили немного и там.
– Значит, у тебя вышло пасхальное приключение?
– Енни! Ты что, нездорова?
– Я…
– Забудь об этом… Горожане кажутся такими бледными, когда спускаешься с гор. Но это проходит… Послушай, несколько дней там было так тепло, что мы загорали в одних трусиках от купального костюма. Посмотри!
Она только что не вывернула на себе весь свитер наизнанку.
«Золото и блеск!» – подумала Енни. Внезапно она поняла, что означает слово «тщеславие». Со времён гимназии она помнила, что в каком-то старинном стихотворении слово это часто употреблялось вместе со словом «преходящее». О, тщеславие! О, преходящее! [40]Слова-близнецы. Разве это не две стороны одной медали?
«Пасхальный секс», – подумала Енни.
Хотя секс не был единственным содержанием её жизни, всё же он, пожалуй, составлял значительную её часть. Она испытывала не только наслаждение, занимаясь им. Несколько раз оргазм давал ей ощущение того, что она становится единым целым не только с другим человеком, но со всем на свете. Она вспомнила, как беседовала об этом однажды с Юнни. И вот он показал ей снимок скульптуры Бернини «Тереза из Авиллы» [41]. Религия и эротика Познание, словно оргазм. Избыток жизни… шквал…
Секс. Она снова и снова наслаждалась вкусом этого слова. Теперь всё равно оно абсолютно ничего не значило. Теперь всё было иначе. Теперь всё было словно креветки и кофе, на которые она не могла смотреть.
– О чём ты задумалась, Енни? По-твоему, я не вижу: что-то случилось?
Енни глотнула кофе. Он был холодным, как кола, и напоминал по вкусу питона.
Долгие годы Сири была лучшей подругой Енни. Теперь казалось, будто она её больше не знала. Сири – жила, да, она жила. Как Енни перед Пасхой. Для Енни жизнь стала мыслью. Мир – чем-то, что было у неё в голове. Идеей, голым представлением.
– Разве мир – это Тиволи [42], Сири? Увеселительный парк?
– А что? Ты стала религиозной?
– Возможно…
– Погоди…
Сири подбежала к стойке. Через мгновение она вернулась с чеком на хлебец и кофе. Енни снова закурила сигарету.
– Вот как ты вдруг заговорила! Прямо и откровенно! Тебе что, нанесли на Пасху визит мормоны? Да? Ты всегда была слишком слаба, Енни. Тебе никогда не следовало вступать в сомнительные дискуссии.
– Неправда.
Это прозвучало как раз перед тем, как расплакаться. Но она боролась со слезами.
– Что такое? Это ведь твой кофе, разве нет? И почему ты не ешь?
– Потому что у меня рак. Рак, Сири, слышишь ты это? И к тому же очень серьёзная стадия. Меня кладут в Радиологическую клинику завтра. Может, осталась ещё пара месяцев…
С лица Сири спала маска. Енни стало почти жаль её. Теперь они были одинаково обнажены.
– Бедная Енни! Милая, дорогая Енни… Почему ты не сказала об этом сразу?
Подруга взяла обе её руки в свои. И вся история вышла наружу. Словно вырезанная из еженедельной газеты.
ЭТО ОТНЯЛО полчаса времени… Рассказать то, что произошло за четырнадцать суток! Енни просто потрясло, как трезво и подробно отдавала она отчёт обо всём происшедшем. Вплоть до мучительных деталей. Говорила, словно о ком-то другом, а не о себе самой.
Подруга так и сидела, крепко обхватив руками её запястья. И тут Енни увидела это сама. Как бледны были её руки в этом пронзительном освещении! Они были белы как снег.
– Мы не вечны, Сири! Это касается и тебя тоже… – Она глубоко заглянула ей в глаза.
– Во всяком случае, то, что ты больна, касается и меня. Не могу ли я что-нибудь сделать?
Енни ещё раз закурила сигарету и покачала головой.
– Ты… теперь я поеду с тобой в Осло. Я могу освободиться на несколько дней. Нехорошо, если ты поедешь одна…
– Спасибо! Но это путешествие я должна совершить одна. Тебе, Сири, надо попрощаться со мной сейчас. Возможно, это больно. Но я должна попрощаться сама с собой. С этим городом, с жизнью. Тебе тоже придётся когда-нибудь это сделать…
– Енни… подожди, Енни… я так хочу…
– Нет! Это касается вовсе не нас двоих. Мне пора идти, Сири.
Гордость. Такая стойкая теперь, словно столб.
Она поднимается, надевает плащ и вытаскивает белый чемоданчик из-под стола.
– Хочешь французскую булочку с креветками? Или пасхальную булочку? Это – тебе!
– Погоди…
– Будь здорова, Сири!
Она поворачивается и выбегает на улицу. Бежит от сострадания подруги.
Будто тем самым вырывается на свободу из рук всего мира.
СИДДХАРТХА
ОНА ШЛА, блуждая по улицам. Ненадолго остановилась и стала смотреть на открытые страницы газет в витрине «Бергенских известий».
Она вздрогнула, прочитав передовицу на первой полосе. «ЧУДО: Я ЖИВУ!» Свыше шести колонок. Словно это было сообщение специально для неё. Эпизод из бытовой драмы. Полицейский, который, как сообщалось, не воспользовался пистолетом, избежав безрассудства.
Но чудо было то, что она – жива Енни не надо было избегать подобного безрассудства, чтобы осознать как чудо то, что она ещё жива Чудом вообще было: что-то ещё существует.
Мистерия жизни, думала Енни. Загадка жизни… Загадка рака.
Что, если она – будто чудом – вдруг станет совершенно здорова? А если был поставлен неправильный диагноз?
О, нет! Енни не была мечтательницей. Енни была инженером-химиком. Енни была реалисткой. Она не верила в чудеса.
Популярный весенний шлягер Венче Мюре и Яна Эггума «Мы живём!» звучал в её ушах. В последние дни она как нарочно слышала его по радио много, много раз.
«…За жизнь должны мы сражаться до тех пор, пока в жилах наших течёт кровь…»
А за что ещё стоило сражаться?
С БЕЛЫМ ДАМСКИМ чемоданчиком в руках – то в правой, то в левой – она, тяжело ступая, поднялась наверх к театру.
«ДАМЫ В САУНЕ». Грандиозная постановка сезона. Она даже не подозревала, о чём идёт речь, но звучало всё это по-дурацки. Словно распутство Сири в сауне лектора в Финсе.
Театр. Он был связан с Юнни. Теперь он преподаёт драматическое искусство в Тронхейме.
«Жизнь – это театр, – неустанно повторял он, держа сигарету в одной руке, а бутылку – в другой. – Нас впускают на сцену, мы сходим с неё».
Наверняка эти слова он от кого-то слышал.
ЕННИ ПОРА было уезжать из города. С чемоданчиком в руках она с трудом поднялась наверх к монастырю и наблюдала оттуда за мысом Норднес [43]. Там она села на скамейку и смотрела через озеро на остров Аскё [44].
ДВЕ ТЫСЯЧИ лет тому назад был распят еврей-бунтарь. Наверняка он был человеком уникальным. Но церковь учила, что он Сын Божий. Трудно свести концы с концами. С тем, что Бог сначала создал людей по доброй воле. А когда люди воспользовались этим, Он так разгневался на них, что вынужден был увидеть, как Его родного Сына распяли, ибо Он не мог их простить.
Не это ли было посланием свыше ей – Енни Хатлестад – на Пасху 1983 года? Если она и вправду думала, будто распятие Иисуса стало пеней за то, что Адам и Ева злоупотребили Божьим даром, то она была спасена от гнева того самого Бога и избежала вечной погибели…
В такого Бога у Енни веры не было.
Енни не была религиозна. Енни была больна. Но болезнь ещё ничуть не поразила её разум. В последние дни она прослушала по радио больше дюжины молитв. По понятным причинам она внимала им с открытой душой. Словно это был краткосрочный курс истории христианства. Или как целый повторный курс, если быть более точной. Это явно было важно для тех, кто искушён в Библии; важно показать: они-де знают весь урок, они-де правоверны по всем статьям. Но когда всё христианское учение – от Адама и Евы до «Откровений» Иоанна – возвещают за пять или десять минут, оно кажется таким беззащитным и в своей любви, и в разуме тоже! Так что утешить Енни здесь, где она сидела с чемоданчиком между ног, глядя на Норднес и на паром, идущий к острову Аскё, это не могло.
ЕННИ ВДРУГ вспомнила нечто иное. Ей пришло в голову нечто экзотическое, нечто из другого небесного ведомства, нечто конкретное и возвышающее, гораздо более подобавшее больному раком инженеру-химику.
Ей вспомнилась красивая история о княжеском сыне Сиддхартхе, жившем в своё удовольствие до тех пор, пока у него внезапно не открылись глаза на страдания мира…
Не так давно Юнни дал о себе знать, прислав длинное письмо из Стокгольма, где он видел балет, поставленный по легенде о Будде. И Енни тут же помчалась в библиотеку за книгами о буддизме. Она не была абсолютно уверена в своих помыслах, в том – сделала ли она это ради Юнни или насущного интереса ради.
Будда не был ни Спасителем, ни Сыном Божьим. Он был человеком, как она – Енни.
Когда он родился, отцу его предсказали, что сын станет либо властителем мира, либо тем, кто отречётся от него, стало быть, как раз наоборот… Последнему суждено было свершиться, если ему выпадет на долю пережить нужду и страдания в мире. Дабы сыну избежать этого, отец попытался охранить его и всячески старался, чтобы тот не познал мир вне стен княжеского дворца. Он окружил его радостями и удовольствиями.
Но Сиддхартха попытался выбраться за пределы своего роскошного плена. За стенами дворца узрел он старца, немощного мужа и разлагающийся труп… Встреча с согбенным старцем открыла Сиддхартхе глаза на то, что старость – судьба, настигающая каждого из людей. Вид хворого и страждущего мужа заставил его спросить себя, возможно ли защититься от болезни и страданий. А труп напомнил юному принцу, что всем людям суждено умереть, и даже наисчастливейший человек подвержен тлену.
После этих удручающих картин Сиддхартха увидел аскета с просветлённым лицом. Его осенило, что жизнь в богатстве и наслаждении – пуста и бессмысленна. И он спросил самого себя: есть ли в этом мире нечто, свободное от старости, болезни и смерти?
Сиддхартху охватило сострадание к своим ближним, и он почувствовал призвание указать людям путь, свободный от мук… В глубоком раздумье вернулся он обратно во дворец и той же ночью, освободившись от своего беззаботного существования, отправился в бездомность.
Через шесть лет странствующий аскет Сиддхартха сидел однажды под смоковницей у реки Нераняра. И здесь – именно здесь – он достиг прозрения. После тридцатипятилетней жизни, проведённой словно во сне, Сиддхартха пробудился к познанию того, что в страдании мира виновата жажда жизни. И тогда он стал «буддой», тем, кто пробудился, «пробуждённым».
Енни снова узнала в нём себя. К тому же она была в том возрасте, что и Будда. Разве не она жила в позолоченной клетке довольствия, надёжно защищённой от страдания, смерти и излишних раздумий? Разве не она жила как лунатик все эти свои тридцать шесть лет? Разве не до бесчувствия пьянила её жажда жизни? И разве теперь не она на пути к тому, чтобы пробудиться от долгой спячки?
Будда не только пробудился к познанию того, что всё в мире – страдание, ибо всё проходит. Он пробудился к осознанию того, что есть и нечто другое. Нечто вечное, нечто непреходящее. Нечто, подъятое над этим бренным миром, нечто, подъятое над временем и пространством. Нечто, доступное лишь тому, кто сможет задушить в себе жажду жизни…
Будда достиг «другой широты». Он преодолел соблазны мира и стал «архатом», «почтенным» [45]. Он видел мир с точки зрения вечности. Он достиг нирваны.
ЕННИ НЕ БЫЛА ФИЛОСОФОМ. Енни была реалисткой. Её мировоззрение определялось атомами и молекулами. Оно состояло из планет, солнц и звёздных туманностей. В будни она имела дело с реактивами и мензурками.
Если что-то не вписывалось в её мировоззрение, то потому, что всё могло подвергнуться анализу и делиться на более мелкие части. Но так далеко мысли её заходили редко… Поверхностный взгляд, брошенный ею на учение Будды, позволял всё же предчувствовать своего рода единство.
«Должна существовать некая единая связь, – думала Енни. Она сидела, глядя на Пуддер-фьорд. – Должно же быть нечто, что я могла бы осознать сама и увидеть свою судьбу со стороны?»
Что такое «нирвана»? Что было это вечное, это непреходящее, пережитое Буддой? Была ли это только мысль? Идея? Или это было нечто реальное?
ПЕРЕД НЕЙ НА МЫСУ прогуливалась молодая мать – лет двадцати пяти – с малышом двух-трёх лет.
У Енни детей не было. Но когда-то она сама была ребёнком. Так – ну точно так играла она когда-то со своей матерью. Возможно, именно на этом самом месте. И так будут мать и ребёнок играть на мысу Норднес долго-долго и после неё.
Енни показалось, что в этом портрете матери и ребёнка она видит эстафету поколений.
Казалось, что, сидя на этом месте с белым чемоданчиком у ног, она была не только самой собой. Казалось, будто она была и той матерью тоже. И этим маленьким ребёнком. Казалось, будто она пребывала среди окружающих их деревьев. В траве, по которой они ступали. В пении птиц. Да, в скамейке, на которой сидела она сама…
Нирвана…
Это не могло быть чем-то недостижимым, возвышенно-небесным. Это должно было иметь нечто общее с тем, что происходило с ней здесь и сейчас – с этим пространством и с этим временем. Потому что Будда достиг нирваны под смоковницей у реки Нераняра…
И ВОТ ОНА УВИДЕЛА паром, идущий к острову Аскё, как раз на половине пути между мысом Норднес и островом Аскё. На борту находилось, наверное, несколько сотен человек. Но отсюда паром выглядел словно игрушечное судно на фоне модельного ландшафта.
Сотни человек, тесно сгрудившиеся на одном судне, поднятые одним паромом, несомые одной силой.
Енни забавлялась мыслью о том, будто она тоже была на борту этого парома Будто она стояла на палубе далеко в глубине фьорда, – а там забавлялась мыслью о том, что видела себя на мысу Норднес и смотрела вслед себе самой.
В какой-то миг она обнаружила: она запуталась и не в состоянии определить, где находится. Она на борту парома, но в то же время и на мысу Норднес. И на вершине Ланноса [46]в горах Мьёльфьелль, и в Осло, и – у сестры в Санивикене, и в Радиологической клинике…
Если бы только отрешиться от времени, она находилась бы во всех этих местах. Она бродила бы по Луне. Она была бы повсюду.
Енни вспомнила, как она летела над Европой в 1975 году. Люди были так далеко от неё, что она их не видела Но она повсюду замечала их следы. Она видела города и небольшие участки пахотной земли. Словно мелкие клеточки жёлтого, зелёного и серого цвета. Греция, Югославия, Австрия, Германия, Дания. И древняя Норвегия. Но с высоты десяти тысяч метров она не видела никаких границ между странами. Зелёная Европа…
Она словно видела сейчас картины земного шара, снятые с Луны. Или нечто в глубине мирового пространства. Голубой глобус.
Если смотреть с такого расстояния, вся жизнь на этой планете – тесно связана между собой. Как живой организм. Удивительное дело. Игра живых вещей в пустом пространстве.
Кто обратил внимание на Енни и её судьбу, когда картина одним щелчком была снята с Луны? Какое значение имела одна муравьиха среди многих миллиардов муравьёв?
И всё же – в своём сознании она странным образом охватывала весь мир.
Когда умру, думала Енни, весь мир умрёт вместе со мной. В наследство к другим людям перейдёт совсем другой мир.
Её мир сейчас здесь. Через несколько недель или месяцев он исчезнет…
Прилетел воробей и сел рядом с ней на скамейку. Посидел немного, и всё оглядывался по сторонам. А потом улетел.
АПРЕЛЬ
ОДНАКО ПАРОМ на Аскё уже пришёл. Енни встаёт со скамейки, поднимает белый чемоданчик и начинает спускаться вниз к городу.
Апрель. Газоны и лужайки такие зелёные, что почти больно смотреть на них. На клумбах растут подснежники, крокусы и нарциссы. Голые берёзы словно окружены лёгким ореолом. А у некоторых появилась даже светло-зелёная дымка Через неделю их окутает зелёный плащ.
Апрель. Енни кажется непостижимым, как всего за несколько недель из чёрной и безжизненной земли тоннами, будто насосом, выкачивается зелень, живая материя.
Апрель. Она снова думает о Пасхе. О смерти и воскрешении из мёртвых. О посевном зерне, которому должно упасть в землю и умереть…
ЕННИ МЕДЛЕННО ПРОХОДИТ мимо Фредриксберга [47]и спускается вниз в старое деревянное строение между монастырём и Пуддер-фьордом.
Зелёные газоны и лужайки. Деревья. Старик с тростью. Щебечущий детский смех. Тяжёлое вечернее солнце прорывается сквозь завесу туч.
Енни впитывает в себя все эти впечатления.
Прощай! – жёстко и горько думает она. Прощай, Берген!
Прощай, живая Земля, прощай, Солнце на небе! Счастливого пути! Я покидаю вас, моё время истекло. Теперь меня не будет. Не будет ни неделю, ни две. Навсегда! Навечно!
Вдруг она понимает, что означает это слово: «Навечно!» Это происходит в долю секунды. Енни познаёт вечность. Это был мой мир. Целых тридцать шесть лет. Нет, миллионы лет. Она ощущает себя ни на один день не моложе Ульриккена [48]. Каким непостижимым был этот мой мир! Он был окрашен в мои цвета. Он был охвачен моим сознанием.
Возможно, существуют и другие миры. Другое место. Или другое время. Или то и другое. Но именно в этом мире ей дано было пребывать. В мире долин и фьордов, в мире пустынь, моря и джунглей. С лошадьми, и коровами, и козами, и слонами, и носорогами, и жирафами. С крокусами, подснежниками, с алтеей, с апельсинами, сливами и крыжовником.
…И с людьми – женщинами и мужчинами. Енни познала человечество. На близком расстоянии. Она была в близком контакте четвёртой степени. Она сама была человеком!
Мир!
Это здесь побывала она с кратким визитом. Как участник, как представитель, как наблюдатель.
Сколько часов у неё остаётся?
Но, пожалуй, это не так уж и важно, если она всё равно уже по пути отсюда?
Ну нет – это важно. Сколько часов жизни остаётся у неё? Сколько часов бытия!
Дай мне жизнь ещё раз! – думает Енни. Дай мне здоровое тело! Дай мне, верни мне мою юность обратно…
«Дай нам Варавву!» [49]
Это она – Енни – жертвенная овечка на эту Пасху. Это она несёт всё страдание мира на своих плечах.
«Если станет вовсе тихо ныне, мы услышим сердца стук… Если ж поползём или пойдём, будь мы даже заблудшие овечки – мы живём!»
ОНА БЫЛА ВНИЗУ на Энгене [50].
Будь это обычный вечер вторника, она, возможно, выбрала бы путь мимо кафе «У Весселя» [51], прежде чем поехать автобусом домой в Осане. Не исключено, она встретила бы кое-кого из знакомых, кого-то, с кем можно было бы поболтать…
Но это не был обычный вечер вторника. Она, впрочем, всё равно решилась на последний визит к Бесселю, но вовсе не для того, чтобы встретить знакомых. А для того, чтобы последний раз окунуться в живую стихию, прежде чем повернуться спиной к Бергену и уехать в Осло.
Она прошмыгнула мимо гардеробщика так, что избежала неприятностей, не сдав плащ и чемоданчик. С чемоданчиком в одной руке и сумкой в другой она проскользнула между столиками в задымлённое помещение. На этот раз она не высматривала знакомых. Этот миг, атмосферу, жизнь кафе она хотела ныне унести с собой.
То был великий день разговоров на тему: «посмотри, как я загорела». Однако попадались изредка и бледные лица. Они бы должны ощущать себя изгоями, словно принадлежат к этническому меньшинству. Было нечто ненормальное в том, чтобы разгуливать между столиками в кафе с чемоданчиком в руке в первый будничный день после Пасхи. Белый чемоданчик подчёркивал ненормальную бледность лица.
Енни к тому же была абсолютно трезва.
И от неё не пахло лыжной мазью или кремом для загара. Или парафином и берёзовыми дровами. От неё не пахло даже перекисью марганца.
Странно было смотреть, как люди, сблизив головы, перешёптывались и шушукались друг с другом, как они кудахтали и смеялись. Как кокетничали друг с другом и рассказывали друг другу весёлые истории. Как распускали свои павлиньи перья и хвастались. Было почти больно смотреть на них.
– Посмотри на кончик моего носа! Ещё у меня немного загорел живот… А разве ноги у меня не загорели? И вот мы встретили лектора и врача… которые жили в гигантской хижине… с сауной. Ну, ты понимаешь… и всем прочим… Несколько дней было так тепло, что мы могли загорать в одних трусиках от купального костюма.
Мелкие людишки, думала Енни, дрожавшая под своим плащом.
Несколько недель тому назад она сама была одной из таких. Теперь она себя не узнавала. Теперь её тошнило. Теперь она пребывала где-то в мировом пространстве.
Из страха встретить знакомых она поспешила выйти на улицу.
ЕННИ ПРОКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ путь между мотоциклами, стоящими перед отелем «Норвегия». Она пересекает наискосок Фестплассен [52]и направляется к автобусной станции.
Внизу у самой воды примостилась, занимаясь любовью, парочка. Зрелище не из приятных. Как они могут, думает Енни. Это производит впечатление изнурительного труда. Да и холодно. А выглядит это, несомненно, чуточку комично. Двое распростёртых у воды животных, которые когтят, и тискают, и гладят, и щиплют друг друга. Причина их вожделения в том, что они принадлежат к двум разным видам рода человеческого.
И всё же: она так хорошо их понимает! Она сама была человеком…
САМОЛЁТ УЛЕТАЛ не раньше чем через полтора часа. Но маршрутный автобус в аэропорт Флесланн отправлялся сейчас же. Фана – Мильде [53].
Впервые за день она физически почувствовала, что больна. Подземный коридор, ведущий в автобусный терминал номер восемнадцать, был бесконечно длинный. И ещё нужно было подняться по трудной лестнице. Да и в автобусе, где она изо всех сил пыталась удержать чемоданчик, пока рылась в сумочке, доставая деньги на билет, пришлось нелегко.
Она так много думала о смерти, что позабыла о своей болезни.
Теперь она почувствовала, как слаба…
– Извините, вы здоровы, фру [54]?
То был шофёр автобуса. С тех пор как она была застигнута врасплох Сири в кафе Реймерса, к ней впервые обращались с вопросом.
Енни почувствовала, как тёплая волна благодарности разлилась по её телу.
– Что? О, да-да, по-моему… здорова. Я всего лишь немного устала Спасибо. Мне очень жаль…
Охотнее всего она обняла бы его. Попросила бы о помощи, о сострадании. Или легла бы на капот двигателя и заплакала.
Она – возможно, впервые, будучи взрослой, – прожила целый день, не думая о том, как она выглядит. Пожалуй даже, рано утром она не подкрасила глаза.
Она чувствовала себя не только бледной и неухоженной. Должно быть, на её лице лежала печать страха, отчаяния, подавленности и смятения. Наивно было бы думать, что не все те мысли, с которыми она бродила по Бергену, были видимы всем и каждому.
Её охватило ощущение, которое она часто испытывала ребёнком. Ощущение того, что все, кто смотрит на неё, могут прочитать её мысли.
МИР
ЕННИ ВСЕГДА ЛЮБИЛА ездить автобусом.
Она любила сидеть у окна и смотреть, как мимо проплывают пейзажи. Горы, фьорды, дома, витрины магазинов, люди…
Как будто листаешь страницы книги.
Здесь она могла сидеть сама по себе и тайком – ни перед кем не отчитываясь – прислушиваться к людским беседам о погоде и ветре.
Самые важные часы раздумья в жизни Енни бывали во время дневных поездок автобусом между Осане и Бергеном. Если её мысли время от времени выходили за рамки житейской экономии и обычных дел, то это бывало в автобусе.
Это здесь она встретила восход солнца. Здесь пережила час сумерек. Это здесь однажды её осенила, словно какой-то парадокс, мысль, что человек – не вечен.
НА ЭТОТ РАЗ она села позади молодой матери с болтунишкой сыном шести-семи лет.
Он как раз достиг той поры в жизни, когда уже привык к действительности вокруг. Мир не был для него больше таким новым, будто с иголочки, и неисследованным. Ему по-прежнему предстояло узнать много неизвестного, но мир как таковой не был больше источником удивления. Он не был предметом постоянных открытий.
Впереди через несколько рядов на коленях у отца сидела двухлетняя девочка Она то дёргала папу за бороду, то вырывалась у него из рук, восторженно показывая пальчиком в окошко.
Это дитя было совсем другим существом, нежели семилетний мальчик. Малютка по-прежнему пребывала в магическом возрасте. Для неё мир был по-прежнему столь же абсолютно нов, как и на седьмой день Творения, когда Господь отдыхал. И крошечная девочка видела что мир – прекрасен…
Если бы шофёр автобуса внезапно поставил управление на автомат, а сам принялся бы парить над крышей автобуса, над головами пассажиров, она, возможно, показав на него пальчиком, сказала бы:
– Смотли, папа! Дяденька летает…
С отцом, этим адъюнктом [55]или социологом лет тридцати, абсолютно наверняка случился бы шок. Просто потому, что ему, прожившему тридцать лет или что-то в этом роде, никогда не приходилось переживать ничего подобного. Да, только лишь поэтому!
Теперь двухлетняя крошка показывала на машину «скорой помощи» с синими огнями и включённой сиреной. Машина проехала мимо автобуса по направлению к Сёрейде. Для девчушки это было чем-то неслыханным.
Папаша едва ли заметил, на что она показывала пальчиком. Он разделил переживания дочурки исключительно из педагогических соображений. Ему доводилось видеть машины «скорой помощи» и раньше.
Девочка едва успела сесть, как снова начала вырываться из рук отца. Теперь она, обезумев от восторга, показывала на лошадь, стоявшую перед большой конюшней.
– Гав-гав! – повторяла она.
– Лошадь, Камилла. Это – лошадь… а не собачка.
И он был прав.
Отец, пожалуй, почесал бы голову, заметь он из окна автобуса кенгуру. Но исключительно потому, что он много, много раз проезжал через Фьёсангер [56], даже мимолётно не зацепив взглядом кенгуру. Девчушка же, со своей стороны, захотела бы разразиться точь-в-точь тем же самым «гав-гав!».
Она была бы ничуть не больше и не меньше взволнована, увидев кенгуру. Её познания в зоологии были ещё очень поверхностны.
В сущности, она видела сейчас именно кенгуру. С кенгурёнком в маленьком кармане на брюшке у мамаши. Или слона. Розового слона. С золотыми и серебряными крыльями…
Маленькая Камилла пребывала в сказке. Точно так же побывал бы в сказке и адъюнкт, замелькай в воздухе детки-ангелочки.
БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫМ заключало в себе колоссальное обострение памяти. Енни вспоминала своё детство так пристально, что ей ничего не стоило почувствовать себя двухлетней крошкой, которая была так удивлена всем, что видела.
Казалось, она сама – Енни – впервые видела мир. Хотя видела его, скорее всего, в последний раз. Не были ли это две стороны одной и той же медали? Как и малютка, сидящая там, впереди, она – Енни – стояла у крайней черты мира.
Енни выглянула из окна автобуса.
Трава была такая зелёная, горы – такие высокие, ночное небо – такое ослепительно синее, а люди и животные – такие живые…
Казалось, будто мир выпорхнул всего несколько крохотных минут тому назад из рукава фокусника.
Высоко-высоко на склоне холма простиралось ещё несколько снежных пятен. Словно последний привет прошлого года, словно привет от жизни…
Енни никогда больше не увидит, как несётся вниз снежная лавина. Пробил её последний час.
Снег!
Енни вспомнила, как впервые увидела что-то белое на холме. Увидела самое первое зимнее утро мира. Толстый ковёр крупнозернистого инея словно холодной пеленой окутал всё, что было вокруг.
– Сахал! – воскликнула она тогда.
Она поднялась в своей маленькой четырёхколёсной коляске и принялась вовсю размахивать руками.
– Сахал!
Это было прежде, чем она почувствовала вкус блаженства. Она видела тогда лишь облитый сахаром ландшафт.
МИР – ЗАГАДКА, думала теперь Енни. Но по мере того, как мы вырастаем, мы привыкаем к загадке. Так что в конце концов тайна отступает. Мир становится чем-то надёжным, достойным доверия. И следует подавить своё возмущение и хорошенько поразмыслить, дабы отказаться от иллюзий, будто мир – нечто непонятное, будто он нечто непостижимое. Необходимо заглянуть в самые глубины сознания, дабы пережить ощущение: мир – чудо…
Разве это не смешно?
Единственное истинное чудо – то, которое все видят. Но это и есть то единственное, о чём никогда не задумываешься.
Это нечто, с чем все люди согласны. Но это нечто никогда не становится темой беседы.
Самое тёмное, скрытое – ясно как день. Самое сокровенное, тайное – то, что мы все переживаем каждый день – без исключения. Здесь, на земном шаре во Вселенной, мы просыпаемся. Шар этот – волшебный. С озёрами, и лесами, и горами. И с лёгкими брызгами жизни всех величин и всех форм.
Здесь, на Земле, материя обретается повсюду. Здесь она вихрем кружится меж камней и деревьев. Здесь она движется косяком в реках и озёрах. Здесь она хлопает крыльями в воздухе меж небом и землёй. И всё больше и больше: материя на этой мистической планете осознаёт своё собственное существование. Она разводит руками и говорит: «Добрый вечер! Я – здесь, люди!»
Всё равно так случается. Случается то, что мы привыкаем ко всему, что видим вокруг, словно это нечто само собой разумеющееся. Нам кажется, что жизнь на этой планете – самая разумная форма жизни. Только дронты [57]и динозавры – экстраординарны. Потому что давным-давно их на свете нет…
Уже так поздно, учась в третьем или четвёртом классе, Енни удивлялась тому, что люди в Китае не сваливаются с планеты. Она задумывалась также о том, кем бы ей хотелось быть, не стань она инженером-химиком. Что она знала, в конце концов, о «законах природы»? Законы природы! Где они теперь?








