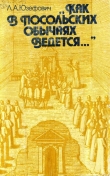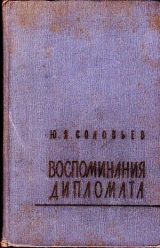
Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Юрий Соловьев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
______________________
* К тому же политический вес России на Балканах в 1905 г. сильно уменьшился из-за военных неудач на Дальнем Востоке.
______________________
При нашем первом свидании Николай по обыкновению разыграл роль человека, преданного России и ее царю. В разговоре он заметил: "Для меня существуют лишь приказания русского императора; мой ответ всегда одинаков: "Слушаюсь"". Между прочим, князь Николай всегда старался кстати и некстати, говоря о своей дружбе с Россией, ссылаться на тост Александра III. В нем царь назвал Николая Черногорского своим "единственным искренним другом". Будучи достаточно умным, чтобы понять, что этот тост был направлен в сущности не по его адресу, Николай добавил: "Я, конечно, понимаю ту политическую обстановку, при которой тост был провозглашен, но все же эти слова я не могу забыть".
Через несколько недель после моего приезда в Цетине эта столица была снова занесена снегом. В течение почти целой недели всякое сообщение с внешним миром было прервано, и, как в осажденном городе, цены на продукты стали быстро расти. Только такие горные жители, как наши два каваса, могли спускаться с Черной горы в Каттаро с почтой (они ее доставляли затем через Триест в наше венское посольство). По обыкновению вся черногорская армия была послана на работу, и через несколько дней сообщение было восстановлено. Но пребывание в Цетине становилось для меня невмоготу. Пользуясь единственным оставшимся все время открытым путем, я на три дня вырвался оттуда под предлогом посещения своего "соседа", нашего вице-консула в Скутари. Путь туда лежал через Скутарийское озеро, куда вело живописное шоссе среди скал темно-серого, почти черного цвета. Эта страна вполне заслуживает свое название. Озеро я переплыл на маленьком пароходишке, на котором в мою честь был поднят русский флаг. В Скутари меня встретили с обычными турецкими почестями в виде караула на пристани и т.д. Наш консул настоял на том, чтобы я посетил местного генерал-губернатора – толстого турецкого пашу, с которым мы вели обычный в таких случаях ни к чему не обязывающий официальный разговор. Скутари как город необыкновенно привлекателен не только по своему живописному местоположению на берегу озера и мягкому климату, но и по красоте своего населения, отличающегося к тому же необыкновенно ярким нарядом. При этом все албанцы вооружены до зубов и носят кожаные пояса с патронами. Казалось, что среди населения в каждый данный момент может начаться перестрелка. Наш консул, как и все наши консулы в Турции, ходил постоянно в форме – это было, однако, не всегда удобно: ношение формы придавало нашим представителям характер местного начальства и как бы обусловливало знаки почтения со стороны населения. Я обратил внимание на то, что консул на улице сплошь и рядом прикладывал руку к козырьку фуражки, чтобы вызвать поклоны местных жителей. Эти неестественные взаимоотношения между нашими консулами в Турции и местным населением, находившие объяснение в расширенном толковании царским правительством консульских прерогатив на Востоке, вызвали в Турции последовательное убийство двух русских консулов.
К счастью, мое одиночество в Цетине скоро прекратилось. Приближалась весна. Ко мне приехала из Афин семья, а также постепенно съехались и почти все мои коллеги-дипломаты. Из них я с особою радостью встретил графа Серсэ, французского посланника, и его жену, с которыми расстался около Восьми лет назад в Пекине, где Серсэ был первым секретарем. Легко понять, как сближает пребывание на таких постах, как былой Пекин или Цетине, где среди дипломатов устанавливаются действительно дружеские отношения. Вскоре вернулся и двор, т.е. князь Николай и его два сына княжичи Данило и Мирко. Первый из них, проживающий потом во Франции, женат на немке герцогине Мекленбург-Стрелицкой; второй был женат на очень красивой сербке, урожденной Константинович. Началась, насколько это было возможно в Цетине, обычная дипломатическая жизнь, хотя и в миниатюрных размерах. Нашим деканом был очень симпатичный турок Февзи-паша, проживший уже одиннадцать лет в Цетине. Он любил рассказывать об этом испытании. Оно было особенно для него тяжело, так как "блистательная Порта" с трудом давала своим дипломатам отпуска. Февзи исчезал из Цетине втихомолку, сговорившись предварительно с министром иностранных дел, что он его не выдаст. Секретарем турецкой миссии был мой коллега по Афинам Джевад-бей (будущий недолговечный посол ангорского правительства в Париже). Австро-венгерским посланником был барон Кун фон Кунен-фельд – с ним я встретился потом в Лиссабоне, а секретарями – последовательно венгерец Кания фон Кания (будущий управляющий отделом печати венского министерства иностранных дел) и поляк Юристовский (состоявший позднее при польском посольстве в Париже). Итальянским посланником был граф Кузани (впоследствии посол в Вашингтоне). Его увлечением, между прочим, была верховая езда, и он расположил к себе князя Николая, объезжая его лошадей. Английского представительства в Цетине не было. Туда лишь изредка наезжал советник английского посольства в Риме. Наконец, были и греческий, и болгарский поверенные в делах: Антоно-пуло и упомянутый выше Ризов. Весь этот немногочисленный дипломатический корпус с большим трудом размещался в Цетине. За исключением австро-венгерской и нашей миссий, занимавших два самых больших здания в городе, остальные представительства ютились в обыкновенных тесных черногорских домах, необычайно низких: зимой их так заносило снегом, что тротуары поднимались до уровня второго этажа. Канак (дворец князя), хотя и был несколько выше других зданий, но значительно уступал зданиям австро-венгерской и нашей миссий. Комнаты были так низки, что когда итальянский король прислал большие портреты, свой и королевы, то пришлось подпилить рамы, так как они не входили ни в одну комнату. Кстати сказать, Виктор-Эммануил III никогда не бывал до женитьбы в Цетине. Черногорию он посетил значительно позже, при праздновании пятидесятилетия царствования князя, затем короля Николая, а со своей женой он познакомился в Москве, на коронации Николая II, будучи еще наследным принцем. Об обстоятельствах этого брака мне впоследствии рассказывал бывший на коронации румынский король Фердинанд. По-видимому, со стороны князя Николая и его русских родственников было затрачено много усилий, чтобы наладить этот брак.
Что касается обоих старших сыновей князя Николая, то, по-видимому, по заданию отца они поделили между собой роли: княжич Данило выдавал себя за австрофила, а потому посещал главным образом австро-венгерскую миссию, а княжич Мирко был присяжным "сторонником" России и постоянно бывал у нас в миссии. Впоследствии, во время мировой войны, роли обоих принцев изменились, и в то время, как князь Николай, задумав мириться с центральными державами, открыл свой почти неприступный фронт на горе Ловчене, княжич Мирко был послан со специальной миссией в Вену, где и жил до своей смерти. Данило же обратился в антанто-фила и последовал со своим отцом во Францию. Во время войны можно было читать во французских газетах появлявшиеся время от времени сообщения о "переменах в черногорском правительстве". Оно продолжало существовать под Парижем в Нейи до Сен-Жерменского мира. Там я встречал во время войны и Иславина, последнего из наших посланников при черногорском короле.
Когда наступила весна, и в Цетине съехался дипломатический корпус, начались обычные приемы. Мы бывали друг у друга запросто. Как-то случилось, что все оказались между собой в очень хороших отношениях. Это было для Черногории редким явлением, и оно, конечно, князю Николаю не нравилось. Сплошь и рядом то, что он говорил конфиденциально итальянскому посланнику, последний передавал австрийскому, и наоборот. Не удивительно, что при этих обстоятельствах поле политической деятельности Николая необыкновенно суживалось. Это выводило князя из себя. Одним из способов помешать спайке дипломатического корпуса были неожиданные приглашения нас во дворец, как только князю доносили, что дипломаты собрались у кого-либо из коллег. От этих приглашений не принято было отказываться. Они носили крайне домашний характер и передавались нам одним из перядников (телохранителей) князя. Мы отправлялись все вместе во дворец, не закончив иногда роббера бриджа. Князь тоже играл с нами в карты, причем обыкновенно кто-нибудь из нас ему помогал, так как он играл довольно плохо.
В присутствии остальных дипломатов князь Николай обыкновенно считал нужным несколько изменять обычный при свидании с русскими дипломатами тон своих заверений о преданности России. Так, играя однажды в карты с французским и австрийским посланниками и со мной, князь шутя заметил: "Если я проиграю, то за меня платит Соловьев – Россия так часто за меня платила". По-видимому, это шутливое лишь на первый взгляд замечание имело целью доказать другим иностранцам, что "благодеяния" России мало связывают князя, так как он считает их чем-то обязательным. Во всяком случае это был один из примеров цинизма князя и признаком стремления князя после неудач России на Дальнем Востоке найти себе новых покровителей. Наоборот, с глазу на глаз князь Николай продолжал заверять меня в своей преданности России и ее царю. Он, между прочим, сказал мне однажды: "Ведь я настолько стал русским, что чувствую себя им больше, чем вы все, русские, взятые вместе". Мне оставалось лишь ответить, что я прошу его высочество считать меня немножко черногорцем. Действительно, разыгрываемый князем русский патриотизм позволял ему делать много такого, что шло совершенно вразрез с нашими политическими интересами. Например, на одном дипломатическом обеде князь предоставил первое место католическому епископу в Антивари. Последний произнес тост от имени дипломатического корпуса, изобразив из себя некоего несуществующего в Цетине папского нунция. Князь придумал это в угоду своим католическим соседям.
Раза два за время моего пребывания князь устроил для нас небольшие приемы с танцами. При этом он сам танцевал сербский национальный танец "коло" (вроде русского хоровода), где первый танцор ведет за собой остальных участников танца. Первым танцором был обыкновенно князь.
Из русских начинаний в Цетине был довольно прочно поставлен институт для черногорских девиц. Во главе его стояла очень энергичная русская женщина Софья Петровна Мертваго. Она уже более пятнадцати лет заведовала этим институтом, который, впрочем, был единственным в то время поставленным на широкую ногу учебным заведением в Цетине. Кроме него, была военная школа, тоже содержавшаяся на русские деньги*. СП. Мертваго поддерживала с миссией весьма близкие отношения. Я часто у нее бывал, причем убедился, насколько было сильно ее влияние на воспитанниц даже после окончания ими института. Не могу не вспомнить весьма характерный, но довольно комический эпизод.
______________________
* Она не находилась в мое время под непосредственным русским руководством. Общее наблюдение за ней осуществлял наш военный агент. После моего отъезда, однако, был вскоре назначен для черногорской армии особый русский инструктор. Вероятно, под его руководство и была поставлена военная школа.
______________________
Как-то раз ко мне в кабинет явился товарищ министра иностранных дел Мартинович. Он был очень взволнован и сообщил мне, что пришел жаловаться на одну из русских подданных. Оказалось, что он был влюблен в дочь министра иностранных дел Гавро Вукотича, бывшую институтку, и что, по его сведениям, СП. Мертваго будто бы не позволяет его невесте выйти за него замуж. К этому Мартинович прибавил, что, возмущенный этим, он при первой же встрече с Софьей Петровной плюнет ей в лицо. Я постарался успокоить Мартиновича, сказав, что, очевидно, он не владеет в данный момент собой, но что он, я уверен, никогда не исполнит подобной угрозы, в особенности по отношению к женщине. На это Мартинович возразил весьма неожиданно: "Госпожа Мертваго носит титул превосходительства, а потому я не могу ее считать за даму". Что касается сербского, а равно и черногорского обычая плевать врагу в лицо, то, как мне пришлось потом слышать от самих черногорцев, это довольно распространенное у них явление. Этим способом, например, они выражают свое недовольство рабочему, лениво выполняющему, по их мнению, свою работу. О применении ими таких способов воздействия рассказал мне один из чиновников Министерства иностранных дел – Грегович. Говоря об отношении черногорцев к женщинам, надо отметить, что последние выполняют обычно самую тяжелую работу и часто используются вместо вьючных животных. Мне как-то рассказывал наш военный агент полковник Н.М. Потапов, что на маневрах, когда требуется перенести какую-либо кладь, между черногорцами сплошь и рядом возникает спор, надо ли нанять "жено" или "осла". По большим дорогам и тропинкам в окрестностях Цетине молено было часто встретить черногорца, легко выступающего с одним лишь ружьем, а за ним его жену, гнущуюся под тяжестью непосильной ноши. В результате тяжелой работы черногорки очень скоро стареют, и среди женщин редко можно видеть красивые лица, хотя в общем их черногорский тип красив.
Из поездок по окрестностям Цетине мне запомнились две. Как-то удалось выбраться на два-три дня на Далматинское побережье, именно в Рагузу (по-сербски – Дубровник). Это необыкновенно живописный город, построенный почти целиком в XVI веке и сохранивший в значительной части первоначальный облик. Ратуша, собор, все дома главной площади, а также и городские стены сохранились почти в полной неприкосновенности. Поездки зимой на Далматинское побережье из Цетине представляли тем большую прелесть, что из зоны снега (Цетине расположено на высоте 800 с лишним метров) вы попадаете на лазурное побережье Адриатического моря с окаймляющими его апельсиновыми и лимонными рощами. Не удивительно поэтому, что Рагуза с ее комфортабельной гостиницей, часто посещаемой туристами, являлась для цетинских дипломатов землей обетованной, и обычно туда сбегали мои коллеги, не загруженные делами в Цетине. К сожалению, я не мог последовать их примеру, так как в русской миссии дел было достаточно много, и к тому же я был вынужден, будучи один, и редактировать свои донесения или телеграммы, и переписывать их, и зашифровывать.
Вторая поездка была совершена уже непосредственно по самой Черногории. Не довольствуясь знакомством с маленькой горной черногорской деревушкой – столицей (с 3 тысячами человек населения), расположенной в котловине среди бесплодных Черных гор, заслоняющих ее даже от солнца (захода его или восхода в Цетине никогда не видишь), я решился посетить два других черногорских города в довольно плодородной долине, а именно Подгррицу и Никшич. Со мной отправился наш милый старик драгоман Ровинский, пробывший десятки лет в Черногории и знавший ее, как свой карман. Было интересно присутствовать при его разговорах с местными жителями. Они с изумлением смотрели на него, когда он называл им все горные вершины, ручейки и т.д. Неподалеку от Подгорицы мы повстречались с князем Николаем, также совершавшим поездку по своей стране в удивительно не шедшем к нему тропическом шлеме, в коляске, окрркенной конными перядниками. Он остановился и вступил с нами в разговор наполовину по-французски, наполовину по-сербски (с Ровинским он говорил, конечно, по-сербски, причем называл его Павло, обращаясь к нему на "ты"). Разговор не был лишен известной живости. В это время пришло известие, что в Петербурге сделаны первые шаги в сторону конституции, вернее ее эмбриона. То был известный булыгинский проект. У меня остались в памяти слова, сказанные князем Ровинскому: "Не думаешь ли ты, Павло, что и мне пора дать своей стране конституцию?" Эти слова были сказаны тоном самодержавного властителя. Строй Черногории того времени был не столько патриархальный, сколько деспотический*. Действительно, некоторое время спустя, уже после моего отъезда, князь "даровал" Черногории конституцию. Это, однако, ему не помешало без суда заключить своего гофмаршала Радочича в тюрьму, продержать его годы в цепях, а затем назначить первым министром. Со своими министрами, впрочем, князь Николай обращался, как с прислугой. Они ему подавали платок, сметали пыль с сапог и т.п.
______________________
* В Цетине господарь был в миниатюре тем, чем был султан в Константинополе.
______________________
Из поездки я вернулся с более благоприятным впечатлением о Черногории. В долинах видел хорошо возделанные поля, трудолюбивое население и два хорошо обстроенных города – Подгорицу и Никшич. Каждый из них был раза в четыре больше, чем Цетине.
Мой черногорский инцидент
В начале мая князь Николай выехал из Черногории лечиться в Карлсбад, передав регентство старшему сыну, княжичу Данило, который исполнял в то время роль отъявленного австрофила. Не помню уже вследствие ли этого или по другим причинам (его, впрочем, почти всю зиму не было в Цетине) у меня с ним не только не установилось близких отношений, но даже произошел небольшой, но довольно неприятный случай. Среди многочисленных субсидий, поступавших черногорскому правительству и княжеской семье, значились 10 тысяч рублей, отпускавшихся русским царем княжичу Данило. Эти деньги пересылались по особой ведомости. В ней значилось, что чек на эту сумму пересылается "на известное его императорскому величеству назначение". Лишь в препроводительном отношении отмечалось, что эта сумма предназначается для княжича Данило. Получив перевод, я уведомил об этом адъютанта княжича. Однако ко мне в миссию явился не адъютант, а камердинер и передал на словах желание княжича получить деньги через него без всякой расписки. Я нашел этот образ действия со стороны Данило совершенно неприличным. Деньги лакею-немцу не отдал, а, вызвав к себе нашего драгомана Ровинского, попросил его отправиться немедленно к княжичу и передать ему деньги под расписку, что и было выполнено. Я не мог проверить, как передавали членам черногорского правящего дома царскую субсидию мои предшественники в Цетине, но, по-видимому, у черногорцев была тенденция смотреть на материальную помощь из Петербурга, как на своего рода дань. Это было нестерпимо фальшивой нотой в отношениях между Петербургом и маленькой балканской столицей.
Между тем с фронта русско-японской войны начали поступать все более и более тревожные сведения. Наконец, 28(15) мая 1905 г. пришло потрясающее известие о гибели всей нашей эскадры при Цусиме. Очень расстроенный этими сведениями, я ожидал, что как от княжича-регента, так и от черногорского правительства последуют знаки сочувствия и соболезнования, но лишь княжич Мирко и черногорский митрополит Никифор посетили меня. Последний, между прочим, предложил отслужить панихиду по нашим погибшим морякам.
Что касается княжича-регента, то он занял совершенно неожиданную позицию. Панихида была им запрещена, и, более того, княжич позволил себе в кругу многих лиц высказывать свое восхищение храбростью и искусством японского адмирала Того, командовавшего флотом под Цусимой, а через два-три дня после Цусимского боя все дипломаты получили приглашение на торжественное открытие здания табачной фабрики в Подгорице. Она была построена итальянским обществом, получившим незадолго перед тем табачную монополию в Черногории. Ввиду вызывающего характера всех последних выступлений княжича Данило я в вежливой, но довольно сухой форме отклонил это приглашение. Помимо того, в частном письме к министру иностранных дел я выразил воеводе Гавро Вукотичу надежду на то, что в дни русского национального траура братская черногорская армия не будет участвовать в торжестве, ничего общего с ее задачами не имеющем. Как я узнал впоследствии, взбешенный княжич Данило протелеграфировал тогда же своему отцу, требуя от него, чтобы он настоял на моем отзыве из Цетине. Действительно князь Николай, приехав в Вену, посетил нашего посла графа Капниста и предъявил ему нечто вроде ультиматума: "Или Соловьев должен быть отозван из Цетине, или же он, Николай, не вернется в свою страну". Несмотря на странность такого выступления князя, это согласовывалось как с его характером политика-поэта (в Цетине я видел его пьесу в стихах "Балканская царица"), так и с его приемами осуществления политических интриг. В результате я вскоре получил из Петербурга телеграмму, в которой мне предлагалось выехать по делам службы в Петербург, передав дела вице-консулу в Скутари Лобачеву как временно управляющему миссией.
Чувствуя себя совершенно правым и не сомневаясь, что так или иначе министерство не может не признать этого, я, не спеша, начал сдавать дела Лобачеву и умышленно пробыл еще несколько дней, чтобы дождаться возвращения князя. Будучи тонким дипломатом и, вероятно, несколько опасаясь за последствия своего выступления, князь Николай, вернувшись в Цетине, принял меня в прощальной аудиенции сдержанно, но любезно. Княжич же Мирко явился ко мне с критикой поведения своего брата, на что я, конечно, не реагировал. В то же время он пригласил меня с женой к себе на прощальный обед, причем к Мирко точно невзначай явился и сам князь Николай, долго рассказывавший о своем путешествии по Европе. Не лишенный чувства юмора князь между прочим живо описал случай, когда он вместе со своим адъютантом – оба были в штатском платье – перепугали чуть не до смерти своим видом француза, случайно разделявшего с ними железнодорожное купе. Этому было легко поверить, глядя на грузную фигуру князя, весьма живописную в черногорском одеянии, но совершенно не подходящую для европейского штатского костюма.
Это было мое последнее свидание с князем Николаем. Первый раз я его встретил, будучи еще вторым секретарем в Афинах, когда временно управлял нашей афинской миссией. Вместе с командовавшим нашей эскадрой адмиралом Скрыдловым я приветствовал его по случаю приезда. Князь находился проездом в Пирее на турецкой яхте "Иззеддин", которая отвозила его в Антивари из Константинополя, где он гостил у султана. Впервые я тогда встретился и с сопровождавшим его известным турецким дипломатом Турхан-пашой, будущим послом в Петербурге. В связи с этим характерна небольшая подробность. По случаю поездки князя я получил от него черногорский орден. Как мне после моего отъезда из Цетине сообщил французский посланник, князь Николай как-то выразил сожаление по этому поводу. Ему не пришлось выказать мне своего неблаговоления непожалованием при моем отъезде своего ордена. Отнимать же раз данный орден не в дипломатических обычаях: князь на это не решился.
Мне пришлось перед отъездом свидеться с княжичем Данило. СП. Мертваго, которая за два дня до моего отъезда принимала в институте княжича по случаю годичного акта, советовала мне уклониться от встречи с ним. Несмотря на этот совет, я, согласно обычаю, вместе с начальницей встретил княжича. Все прошло благополучно, и мы с ним мирно обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Через несколько лет в Париже я случайно столкнулся с Данило в одной парикмахерской. Мы сидели рядом. Я узнал его, и, по-видимому, он меня также. Несмотря на это, мы не раскланялись.
Вообще я был рад, что мое пребывание в Цетине не затянулось и что мне пришлось лишь на короткий срок познакомиться с живописной, но чересчур своеобразной цетинской обстановкой. Прожил я там немногим более четырех месяцев. Во всяком случае я был уверен, что в Цетине больше не вернусь и с представителями черногорской династии больше не увижусь. Сам же по себе мой инцидент был известным уроком для наших зарвавшихся балканских "протеже". К сожалению, хотя и более осторожно и под большим контролем, но русские субсидии продолжали им аккуратно выплачиваться вплоть до мировой войны. Эпилог известен. И покровительствуемые, и покровители были сметены войной и революцией.
Между Петербургом и Варшавой (1905-1906)
Из Цетине я выехал в конце мая через Фиуме и Будапешт. Хотелось познакомиться попутно с Венгрией, которую я совершенно не знал. Из Афин приходилось обычно ездить через Вену, где я провел немало недель.
В Будапеште пришлось задержаться из-за неправильно засланного туда сундука, но я об этом не пожалел. Благодаря любезному приему управлявшего нашим генеральным консульством Штральборна я познакомился не только со второй дунайской столицей, но и со всем местным консульским корпусом, состоявшим почти сплошь из дипломатов. Летом вся жизнь будапештских дипломатов протекала в двух роскошных клубах, в которых они ежедневно собирались почти в полном составе.
Один из этих клубов был расположен в большом парке, и летом там неизменно обедали консулы-дипломаты вместе со своими женами. В это время германским генеральным консулом был граф Ведель, один из выдающихся германских дипломатов, женатый на англичанке. В Будапеште мне пришлось убедиться, что мой инцидент в Цетине обошел всю европейскую печать и сделал мне некоторую дипломатическую известность. Это, впрочем, имело как хорошие, так и дурные стороны, накладывая на меня печать молчания, пока по существу инцидента не выскажется Петербург. Каждый дипломатический представитель по характеру своей деятельности является прежде всего орудием в руках пославших его.
Несмотря на незнание венгерского языка, я довольно легко передвигался по Будапешту, любуясь его красотами, и невольно отдавал предпочтение Вене, которая в то время все же была по сравнению со второй дунайской столицей, бесспорно, и политическим, и культурным центром бывшей двуединой монархии. Венгры (среди них я имел много коллег – австро-венгерских дипломатов) еще тогда поражали меня необыкновенно сильно развитым национальным чувством. Мне помнится, как мой коллега по Бухаресту граф Кун-Хедервари (впоследствии он стал министром иностранных дел Венгрии) увлек меня из Синайи в Брашов (в Трансильвании) на паломничество к памятнику Арпаду. Этот памятник был воздвигнут по случаю тысячелетия Венгрии почти на самой румынской границе.
Как я и ожидал, в министерстве в Петербурге меня встретили кисло-сладко, заявив, что временно я не должен возвращаться в Черногорию. Вместе с тем стало ясно, что моя дипломатическая карьера не кончена и что рано или поздно меня ждет новое назначение. В ожидании этого я продолжал числиться секретарем в Цетине и смог поселиться на все лето в своем майорате под Варшавой, куда вскоре из Цетине приехала и моя семья. Жена рассказала мне, что до самого ее отъезда черногорский двор и в особенности дипломатический корпус продолжали к ней быть очень внимательны. Между прочим, я вскоре получил от княжича Мирко толстый пакет с несколькими дюжинами вырезок из газет по поводу моего инцидента. Большинство этих вырезок было для меня благоприятно. Мне даже пришло в голову, что в этой кампании в печати принял некоторое участие и сам княжич Мирко, крайне недолюбливавший своего старшего брата и всячески желавший ему насолить. Подобное поведение княжича, впрочем, находило объяснение и в его роли присяжного русофила, которую он весьма добросовестно выполнял.
Пробыв в своем имении до октября 1905 г. и не получая никаких вестей из министерства, я стал несколько беспокоиться. К этому времени по всей России стали ощущаться раскаты первой революции, и выполнение моего намерения – выехать в Петербург – было задержано вспыхнувшей железнодорожной забастовкой. В течение десяти дней мы оказались отрезанными от внешнего мира. В Польше революция сказалась сильнейшим сепаратистским движением, которое отразилось и в самом Вышкове. Там три дня просуществовало польское революционное правительство, и, между прочим, все русские вывески были сорваны, но меня и моих домашних никто не тронул, и мне помнится, что по просьбе временного городского управления посада Вышков (в нем было 10 тысяч жителей – в три раза больше, чем в Цетине), я обратился к пултусскому уездному начальнику с просьбой не высылать в Вышков войск, что и было им выполнено. Действительно, дело обошлось без кровопролития. У меня в памяти остался сбор на церковную католическую хоругвь, на которую я дал десять рублей. В действительности хоругвь оказалась малиновым флагом с белым польским одноглавым орлом, но когда мой управляющий пришел мне об этом сообщить, то я просил передать, что раз эти деньги пожертвованы, я их обратно не возьму. На следующий день вокруг посада состоялся крестный ход по случаю провозглашенных 17 октября свобод. Вслед за католическим духовенством рядом с красным флагом еврейского Бунда несли упомянутый польский флаг. Затем шла местная пожарная команда с польскими малиновыми перевязями под предводительством знакомых мне с детства доктора, аптекаря и нотариуса в широких малиновых перевязях через плечо. Интересно отметить, что и мой сосед, польский помещик, не участвовал в процессии. Одной из причин такого его поведения было заявление, сделанное на собрании, на котором я присутствовал, что польский флаг должны нести не паны, которые не сумели его удержать в своих руках, а холопы, т.е. крестьяне.
Наконец, мне удалось выехать в Петербург, хотя и не сразу, потому что первая попытка не увенчалась успехом: из Гатчины пришлось возвратиться из-за забастовки на этот раз петербургского железнодорожного узла. В министерстве меня не ожидало ничего утешительного. Мне предложили принять назначение дипломатическим чиновником при главнокомандующем нашей армии на Дальнем Востоке генерале Линевиче. В это время армия уже расформировывалась, и мне не хотелось ехать на Дальний Восток, так сказать, после шапочного разбора. Одновременно я постарался убедить министерство, что мое увольнение дало бы повод князю черногорскому праздновать незаслуженную победу. Для меня, объяснил я, это в общем безразлично, раз я больше не еду в Цетине, но для нашего правительства, по-моему, едва ли подобный оборот был бы удобен, так как мой инцидент носил исключительно политический характер и ничего личного не имел. Все эти разговоры мне пришлось вести главным образом с директором Азиатского департамента Гартвигом и отчасти с товарищем министра князем Оболенским. Министр же, граф Ламздорф, меня не принял.
Как я узнал впоследствии, наше министерство, которое вообще совершенно пасовало перед придворными интригами, было не склонно открыто выступать в мою защиту и, по-видимому, по своему обыкновению желало выйти из неловкого положения, пожертвовав мной. По всем признакам против меня, т.е. скорей в защиту князя Николая и в особенности княжича Данило, в Петербурге действовали обе великие княгини-черногорки, с которыми графу Ламздорфу не хотелось ссориться.