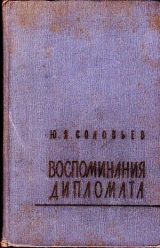
Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Юрий Соловьев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вообще не только на Дальнем Востоке, но и в Европе постоянно наблюдались весьма натянутые отношения между дипломатами и военными агентами. Это было проявлением на местах столь зловредной отчужденности между военной и гражданской бюрократией в царской России. Сам Извольский был на ножах с военным агентом в Японии Ванновским. В дипломатических кругах еще не была забыта и давнишняя борьба между нашим послом в Берлине графом Шуваловым и военным агентом князем Долгоруким, которого послу с большим трудом удалось выжить из Берлина. Интересно, что потом этот самый Долгорукий, будучи уже дряхлым старцем, был назначен послом в Рим при министре Извольском. И это после долгих разговоров о необходимости омолодить состав наших представителей. Впрочем, дуэль между Павловым и Раабенем имела под собой и романтическую почву.
Вернувшись в Афины в конце августа 1903 г., я снова вошел в обычную, несколько уже надоевшую колею афинской жизни и лишь издалека мог следить за надвигавшейся на Дальнем Востоке катастрофой. Судя по письмам моего брата, светский сезон зимой 1903 – 1904 гг. в Петербурге начался весьма блестяще, приемы сменялись приемами. Между прочим, при дворе был дан костюмированный бал, в котором весь двор и светское общество участвовало в костюмах времен Алексея Михайловича. В нем приняли участие в царских облачениях XVII века и Николай II, и Александра Федоровна. Известие о внезапном нападении японских миноносцев на наши суда на порт-артурском рейде пришло во время бала в Эрмитаже*.
______________________
* Через несколько дней мой брат уехал на войну, переведясь во 2-й Верхнеудинский казачий полк. С войны он не вернулся, так как умер от тифа.
______________________
У нас в Афинах война проявилась прохождением на Дальний Восток русских военных судов, которые неизменно посещала королева Ольга Константиновна. Помню ее разговоры по этому поводу с нашими офицерами. Она неизменно со своей милой близорукой, но несколько наивной улыбкой повторяла, говоря о японцах: "Ведь это же макаки". Почти половина офицеров, с которыми я познакомился и отчасти подружился в Афинах, погибли в Желтом или Японском море, под Порт-Артуром или Цусимой.
Вообще с нашим флотом в то время дело обстояло столь же неблагополучно, как и с армией.
Не могу здесь не рассказать о необыкновенной афере, затеянной из Петербурга в Греции к концу моего афинского пребывания и непосредственно связанной с нашим морским делом. Во время войны как японцы, так и мы старались пополнить свои силы покупкой военных судов за границей. Японцы купили два крейсера в Аргентине, а мы в свою очередь делали все возможное, чтобы приобрести несколько судов в Чили. Зимой 1904 – 1905 г. в Афинах появились два секретных агента: морского министерства и Главного управления по делам торгового мореплавания и портов. В то время во главе морского ведомства стоял великий князь Алексей Александрович, а во главе Главного управления по делам торгового мореплавания и портов – великий князь Александр Михайлович. Оба старались склонить греческое правительство, притом путем подкупа отдельных лиц, к предоставлению греческого флага купленному нами у чилийцев флоту, так как после объявления войны Греция не сделала заявления о нейтралитете. Комбинация состояла в том, чтобы чилийские суда после покупки их нами перешли бы временно под греческий флаг и лишь затем были включены в состав нашего флота.
Подобная комбинация сама по себе была уже довольно сложна, но, конечно, она могла бы быть, правда, с большим трудом, разрешена путем дипломатических секретных переговоров с самим королем или с главой его кабинета. Но окружавшим обоих "морских" великих князей дельцам подобный подход не сулил бы никаких выгод. Они избрали окольные пути. Были высланы секретные агенты: капитан первого ранга Брусилов, скрывавшийся под французской фамилией Бланкар и выдававший себя за француза, хотя он едва говорил по-французски, и секретарь великого князя Алексея Александровича настоящий француз Коттю, изменивший для пущей конспирации свою фамилию на Котюрье. Со стороны Александра Михайловича действовал некий американец Флинт, бывший когда-то гувернером в России. Наше Министерство иностранных дел, не желая, по-видимому, противодействовать великим князьям, дало нам эзоповскую телеграмму, предлагая содействовать обеим группам дельцов, но скрывая их переговоры друг от друга. Как ни серьезно было само по себе задание, но манера его выполнения носила характер настоящего фарса. Между прочим, главным действующим лицом в Афинах стал некий греческий банкир Георгиадис. Он вел переговоры с обеими группами, обещая им даже смену министерства. Это будто бы должно было облегчить осуществление шаткого плана "покупки греческого флага". Те же дельцы еще до Афин вели подобные же переговоры и в Константинополе. Они истратили уже там много денег, но ничего не добились. Положение миссии во всем этом было весьма двусмысленно. У нас не было инструкции из Петербурга взять дело в свои руки, мы должны были оставаться лишь передатчиками фантастических шифрованных телеграмм, посылаемых великокняжескими агентами. Последние давали грекам совершенно необыкновенные обещания, например уступали им находившийся еще в международной оккупации Крит и даже Македонию. Между прочим, мне запомнился мой разговор на площади перед королевским дворцом с помощником нашего морского агента в Константинополе, прибывшим на подмогу секретным агентам. Указывая на стоявшую перед дворцом карету первого министра Дельяниса, он выражал надежду на то, что декрет о предоставлении флага будет подписан и телеграмма об этом пойдет в Сант-Яго (столица Чили) своевременно. Это было-де необходимо, так как в этот день распускалась палата, а без нее продажа флота не могла состояться. Наш моряк учитывал даже и то обстоятельство, что в Афинах в этот момент было одиннадцать часов утра, а в Сант-Яго – только три часа пополуночи. Дело, конечно, кончилось ничем, но на нем нажилось несколько человек, в том числе и упомянутый выше банкир Георгиадис. Я встретил его на пароходе при моем отъезде из Афин в Черногорию, и он признался мне, что ему было выплачено предварительно за будущие услуги 400 тысяч драхм.
Как бы то ни было, греки не пошли на эту фантастическую комбинацию, но они соблюдали в течение всей войны благоприятный для нас нейтралитет. Вернее говоря, они для нашего удобства не сохраняли никакого нейтралитета. Русские военные суда стояли в Пирее без ограничения времени. Это было облегчено полным отсутствием дипломатических сношений между Японией и Грецией, где в то время дальневосточные страны вовсе не были представлены.
Той же зимой 1904 – 1905 г. мне пришлось довольно неожиданно для себя покинуть Афины. В начале декабря из министерства на мое имя пришла телеграмма с предложением принять назначение секретарем в Черногорию. В Афинах я был вторым секретарем, а потому это было повышение, хотя, признаться, я менее всего мечтал о назначении в Цетине. В Афинах я обжился, там родились двое моих детей. Жил я довольно широко. Сравнительно большие доходы от майората в Польше облегчили заграничную службу, неизбежно связанную в то время для женатых дипломатов с расходами по представительству. А для меня не было секретом, что Цетине был едва ли не самый захолустный пост не только в Европе, но, быть может, и во всем мире. Однако после шестилетнего пребывания в Афинах я счел нужным все же принять это назначение.
Таким образом, в январе 1905 г. я покинул Афины. Не могу не остановиться еще в последний раз на пребывании в этом городе, с которым связан значительный период моей жизни. Все иностранцы, попадающие в Грецию на более или менее длительный срок, обыкновенно резко разделяются на две группы. Одни находятся в постоянном восхищении от этой страны, причем смотрят на нее сквозь розовые очки классических воспоминаний, перенося на современных греков преклонение перед их предками. Другие, обыкновенно не обладающие достаточной классической подготовкой, видят в современной Греции лишь ее отрицательные стороны: отсутствие воды и растительности, подчас нестерпимую жару, бедность населения и т.д. Для второй группы пребывание в Греции – сущее наказание, а порой преувеличенное самомнение греков действует на такого рода иностранцев раздражающе. Во всяком случае тем, кому пришлось бы долгое время жить в Греции, нельзя не порекомендовать изучить греческий язык, который во многом сохранил красоту древнегреческого, а также заинтересоваться археологией. Одним из ее центров являются, бесспорно, Афины.
В мое время там уже существовал ряд археологических институтов всех национальностей. Во главе "Французской школы" стоял будущий хранитель Лувра Омоль, во главе Немецкого археологического института – известный ученый Дерпфельд, который вместе со знаменитым Шлиманом произвел раскопки Трои, а затем работал на острове Корфу при раскопках, начатых там Вильгельмом И. Кроме этих двух главных археологических институтов, в Афинах работали английские, американские и итальянские археологи. Русского института не было, но предполагалось основать афинское отделение Константинопольского археологического института, во главе которого стоял профессор Успенский. Мы уже получили для этого отделения в дар от греческого правительства земельный участок. В 1901 г. в Афины приехал русский богач и меценат Нечаев-Мальцев. Целью его посещения было заказать большое количество слепков с образцов древнегреческой скульптуры и архитектуры для будущего музея Александра III в Москве, ныне музея изящных искусств.
Вместе с Мальцевым я ездил, между прочим, в Олимпию. Мы провели там целый день, осматривая в сопровождении археологов развалины древнегреческих дворцов и храмов. Затем я объехал почти все места паломничества любителей греческой старины: Дельфы, Микены и т.д. Кроме того, на находившемся в распоряжении миссии стационере мы вместе с Ону посетили почти все греческие острова архипелага, например Парос, Антипарос, Милос, Санторин, Гидру, Специю, Наксос и т.д. Все эти острова, хотя и имеют скудную растительность, все же необыкновенно живописны, в особенности в мае, как раз в то время, когда мы были там. Острова расположены весьма близко друг от друга. В день можно посетить даже два острова.
Из более отдаленных мест я посетил остров Крит, куда плавал два раза на военных судах. Вместе с нашим генеральным консулом А.А. Гирсом (впоследствии директором Санкт-Петербургского телеграфного агентства, а затем посланником в Черногории) мы объехали верхом весь остров, причем навстречу нам выезжало все мужское население посещаемых нами деревень. Гире в качестве одного из консулов четырех держав, оккупировавших Крит, являлся там своего рода начальством. Мы, между прочим, посетили и необыкновенно интересные раскопки в Фесте и Кноссе. Первые производились итальянцами, а вторые – англичанами. В это время в археологических кругах весьма увлекались критскими раскопками микенской эпохи (1500 лет до нашей эры), составляющей промежуточное звено между египетской и греческой культурами. Кстати сказать, южная часть Крита, именно долина реки Мессары, представляет собой настоящий египетский пейзаж и очень плодородна.
Вообще это путешествие по Криту, необыкновенная красота природы его произвели на меня большое впечатление. Я тогда написал об этом путешествии первую в жизни корреспонденцию, помещенную в "Санкт-Петербургских ведомостях", издававшихся моим старым знакомым по Китаю Э.Э. Ухтомским. Ко времени поездки по Криту я уже довольно свободно говорил по-гречески, но гимназические классические воспоминания заставляли меня выражаться на чересчур литературном языке. Мне было намного легче, например, разговаривать с местным критским митрополитом, чем с нашими погонщиками; с ними гораздо лучше объяснялся Гире, усвоивший на Крите народный говор.
Что касается более дальних путешествий, то мне удалось во время пребывания в Афинах провести две недели в Египте, именно в Каире, где мы с женой были очень любезно приняты нашим дипломатическим агентом Кояндером и нашим представителем в кассе египетского долга Гельске. Зимний сезон в Каире был весьма блестящ и интересен, причем поражали как необыкновенная роскошь и комфорт больших английских гостиниц, в одной из которых мы жили, так и живописность города. К тому же зимой в Каире очень приятный климат. Интерес пребывания там увеличивался осмотром замечательных остатков египетской древней культуры в окрестностях Каира. Мне особенно запомнился Каирский музей. Подобного ему по богатству и по систематичности расположения выставленных предметов не найти нигде. Наша поездка в Египет была вызвана также желанием проводить мою сестру. Она ехала в Трансвааль через Египет в качестве сестры милосердия с отрядом русского Красного Креста, отправлявшегося в Южную Африку для оказания помощи бурам, которые вели войну с англичанами. Этот отряд работал там несколько месяцев, несмотря на затруднения, которые он испытал со стороны англичан и преданных им португальцев в Лоренцо Маркасе, единственном порту воевавших буров.
Из археологических находок, сделанных во время моего пребывания в Афинах, замечателен целый клад произведений древнегреческого искусства, найденный на морской глубине у берегов Пелопоннеса. Этот клад перевозился 2 тысячи лет назад триремами римского военачальника Суллы, который направлял награбленные в Греции сокровища в Рим. Триремы потерпели крушение, и клад был найден только в начале XX века ловцами губок. Некоторые из статуй, реставрированные французскими мастерами, украшают теперь Афинский музей.
Как говорилось выше, в январе 1905 г. я покинул Афины, при этом довольно стремительно. Из министерства пришли последовательно три телеграммы, требовавшие немедленного моего отъезда к новому месту службы. Причину этого я узнал лишь впоследствии. Как бы то ни было, я собрался в несколько дней, оставив временно семью в Афинах. После моего почти шестилетнего пребывания в Афинах как иностранцы, так и греки провожали меня очень любезно. На вокзале были почти все коллеги, а также гофмаршал греческого двора и много греков. Как полагается перед отъездом, я был принят, начиная от короля и королевы, всеми членами королевской семьи на прощальных аудиенциях, получив на память, помимо греческого ордена, ряд фотографий с подписями. Мой отъезд совпал с известиями о событиях 9 января в Петербурге. О них я узнал на прощальном завтраке у Елены Владимировны. На следующий день, откланиваясь королеве, я говорил с ней снова об этом. Я помню ее удивление, когда сказал, что России обязательно должна быть дана конституция. Это прощальное замечание, мне думается, сделало меня в глазах Ольги Константиновны почти революционером. Не могу не отметить здесь маленького факта – обратной стороны земного величия. Январь был очень холодным, а афинский дворец не имел в больших залах никакого отопления. В ожидании приема королевы мне пришлось бегать в зале, чтобы согреться.
Из Афин в Цетине (1905)
Из Афин я уехал в не особенно хорошем настроении. Я думал о новом местопребывании, которое, кстати сказать, мне в очень мрачных красках расписал недавно переведенный оттуда итальянский посланник Болатти. Это был, впрочем, очень нервный человек. Узнав, что я принял назначение в Цетине, он воскликнул: "Да вы сумасшедший!". Под этим впечатлением я и ехал в Цетине.
С самого начала мне не повезло. Пароход, на который я заказал место, делающий рейс между Корфу и Каттаро (далматинский порт на самой южной оконечности былых австрийских владений на Адриатическом море), потерпел крушение у албанского побережья. Как я узнал в Корфу, следующий пароход отправлялся лишь через восемь дней. Между тем у меня в кармане лежала телеграмма министерства, требующая моего немедленного прибытия в Черногорию. В пароходном агентстве австрийского Ллойда мне сказали, что его пароходы совершают более или менее регулярно прямые рейсы и между итальянским портом Бари и Каттаро, а потому я решился продолжать свой путь на том же пароходе до Бриндизи (порт на юго-восточной оконечности Италии, южнее Бари). Из Бриндизи, на мое счастье, отправлялся через два часа после прибытия нашего парохода лондонский экспресс, перевозивший индийскую почту, доставляемую быстроходными почтовыми пароходами из Порт-Саида. Через два часа после отъезда из Бриндизи я был в Бари. Как я уже говорил, эта зима была исключительно холодной. В Бари стоял необычайный для Италии мороз, а вместе с тем на море свирепствовала буря. Остановившись в "лучшей" гостинице Бари – "Кавур", я узнал, что пароход задерживается в ожидании окончания шторма. Таким образом, я застрял в захолустном тогда итальянском городе. В гостинице не было отопления, плохо притворяющиеся стеклянные двери моей комнаты выходили на открытый балкон, и я никогда в жизни не страдал так от холода. На просьбу как-нибудь согреть комнату мне принесли единственный имеющийся в гостинице аппарат отопления – небольшую жаровню. Я стал угорать. Пришлось от жаровни отказаться.
В ожидании парохода я пробыл в Бари около трех дней. За это время осмотрел все городские достопримечательности, вплоть до мощей Николая-чудотворца, которые католический патер показывал несколько странным способом. Посетитель должен был ложиться на пол и смотреть под алтарем в небольшое отверстие, освещенное предварительно опущенной туда лампадкой. Видны были лишь какие-то неопределенные суставы. Эти мощи – место поклонения как для католиков, так и для православных. Впоследствии, при моем втором посещении Бари в 1915 г., я видел там почти законченную постройкой русскую церковь и странноприимный дом для русских паломников*. В 1905 г. всего этого еще не было даже в проекте, не было и русского консула, назначенного в Бари значительно позднее. Наконец, пришел день, когда мне сообщили, что пароход уходит, но из-за плохой погоды неизвестно, в котором часу. Мне советовали отправиться на пароход с вечера. Мола тогда в порту не было, и при приближении к пароходу нашу маленькую гостиничную каретку неоднократно окатывали волны. На судне я оказался единственным пассажиром. Долго не мог забыть опасного переезда, который я совершил, чтобы попасть в Каттаро. Туда мы прибыли поздно вечером. Как только наш пароход пришвартовался, в каюту ко мне явился необыкновенно рослый кавас (так назывались курьеры, отчасти телохранители, иностранных представительств и казенных учреждений на Ближнем Востоке) в живописном черногорском костюме, высланный мне навстречу нашим посланником из Цетине. Он сообщил мне, что ввиду снежных заносов выехать в Цетине на следующий день нельзя. Черногорская армия выслана для расчистки пути, и через несколько дней можно ожидать, что путь будет свободен.
______________________
* Церковь и дом принадлежали нашему Палестинскому обществу.
______________________
Каттаро – великолепный естественный порт в глубине залива того же имени – представляет собой маленький городок. Гостиницу заменяла небольшая харчевня. Я снова застрял на два дня, развлекаясь одинокими прогулками по живописным берегам Каттарского залива и разглядывая снизу горную дорогу в Цетине. Она подымалась на Черную гору тридцатью семью изгибами – это был путь к месту моего "изгнания". Наконец, мое "предварительное одиночное заключение" кончилось. Кавас Иово сказал мне, что можно ехать. Я отправился с ним в путь в наемной старой, дребезжащей коляске, запряженной тремя лошадьми; моим испытаниям еще не наступил конец. Почти на самой вершине горы, у черногорской границы, отмеченной двумя столбами с черногорским и австрийским гербами, лежала с австрийской стороны на шоссе глубокая полоса снега, делающая невозможным наше дальнейшее продвижение. Австрийцы еще не успели очистить путь. Кругом не было видно никаких признаков жилья. Предусмотрительный Иово, однако, захватил с собой три лопаты, и мы в течение двух часов втроем с кучером усердно работали и отрыли себе в снегу траншею, через которую кое-как и проехала наша коляска.
Первой черногорской деревушкой был Негош – родина черногорской княжеской семьи, имя которого она носит. В нетопленой комнате крошечной гостиницы я кое-как пообедал, спрятавшись от холода почти в самый камин. В нем тлел скудный огонь.
Цетине (1905)
Наконец, вечером я попал в Цетине, где остановился в единственной "лучшей столичной" гостинице, называемой по-сербски локандой, а к 10 часам вечера уже входил в довольно уютный кабинет посланника А.Н. Щеглова в здании нашей миссии. От него я услышал, что он уволен в отставку и поэтому-то меня вызвали по телефону принять управление миссией. Впоследствии я также узнал, что причиной отставки Щеглова была его ссора с моим предшественником фон Мекком. Мекк был спирит. Впоследствии, выйдя в отставку, он разъезжал по Европе, читая лекции о спиритизме. В свое время в его сеансах принимали участие великие княгини-черногорки. Как известно, они рекомендовали Николаю II француза Филиппа, ставшего затем первым чародеем при русском дворе.
Так же, как и Щеглов, Мекк был уволен. Он освободил для меня место, назначение на которое обрушилось на меня, как снег на голову. Ссора между Щегловым и Мекком возникла по совсем пустячному поводу. Все это даже трудно понять без знания условий жизни в таком захолустье, каким было Цетине. Посланник и секретарь жили в одном и том же казенном доме. Миссия была только что отстроена и снабжена, по-видимому, к несчастью ее членов, довольно первобытным водопроводом. В результате холодной зимы или, вернее, как оказалось потом, из-за тряпки, брошенной в бак детьми слуги, игравшими на чердаке, водопровод перестал действовать. Мекк был лишен возможности брать ванну и стал требовать, чтобы для исправления водопровода был взломан пол в кабинете посланника. Щеглов запротестовал. Мекк в свою очередь обиделся и послал незашифрованную телеграмму в министерство, где просил об увольнении в отставку, указывая, что служить со Щегловым невозможно. Черногорцы, склонные ко всяким мелким интригам и падкие на скандалы среди дипломатов, показали эту телеграмму посланнику, а тот "для восстановления своего престижа" послал тоже клерную телеграмму в Петербург с просьбой об увольнении секретаря. В результате министерство, уволив Мекка, сделало внушение Щеглову о неуместности выносить сор из избы. Разобиженный посланник тоже запросился в отставку. Она была принята. При таких обстоятельствах я и попал в Цетине, где впервые мне пришлось самостоятельно управлять одним из наших заграничных дипломатических представительств. Дней через десять посланник уехал, передав мне дела миссии и оставив в моем распоряжении ее дом, двух кавасов и своего лакея, который перешел ко мне на службу. Единственным моим сотрудником был престарелый драгоман миссии. Это был долгое время проживший в эмиграции народоволец известный славист Ровинский. Его труды печатались в то время Академией наук. Ровинский был глубокий старик, совсем не от мира сего, а потому практически для дипломатической службы мало пригоден.
Миссия занимала вычурное здание, напоминающее театр в провинциальном городе. Оно было построено итальянцем – хорошим художником, но весьма плохим архитектором. Им были удачно расписаны стены комнат, но устроена такая крыша, что во время таяния снегов (а это периодически происходило в Цетине в течение всей зимы) сквозь крышу лились потоки воды на паркет приемных комнат. Для предохранения пола был расставлен целый ряд ведер. Все-таки в нижнем этаже жить было можно, и я из гостиницы перебрался туда. Кстати, о гостинице: это был самый обыкновенный весьма к тому же обветшалый черногорский дом, в нем, конечно, тоже протекала крыша, что было, по-видимому, одной из особенностей жизни в Цетине.
На следующий же день после приезда я познакомился со своим французским коллегой, поверенным в делах Прево. Он только что попал в Цетине прямо из Парижа и был еще гораздо несчастнее меня в своей черногорской ссылке. У него в комнате в гостинице развалилась железная печь, и он чуть не угорел. Затем его кровать была залита потоком грязной воды, просочившейся через потолок; наконец, у него украли несколько серебряных вещиц, несмотря на отмеченную в "Бедекере" черногорскую честность. Первое время Прево был моим единственным сотоварищем по изгнанию. Мы ежедневно совершали прогулки, а вечером играли в пикет. В конце концов он не выдержал и сбежал в Рагузу. Вторым коллегой, находившимся в это время в Цетине, был болгарский поверенный в делах Ризов, будущий посланник в Берлине. Он вскоре женился на дочери Вулетича, хозяина гостиницы. Последний был доверенным лицом князя Николая Черногорского. Гостиница в действительности принадлежала князю, а Вулетич был лишь его управляющим. К концу моего пребывания в Черногории я был вместе с французским посланником дружкой на свадьбе Ризова. Эта свадьба была сыграна согласно черногорским обычаям, и мы с французским посланником графом Серсэ были уполномочены, явившись в дом невесты, вручить "вено" – эмблематическую плату за невесту. Оно и было перед началом ожидавшего нас угощения передано в виде нескольких золотых монет, опущенных моим коллегой в стоящий перед ним стакан.
Ризов был весьма интересным человеком, большим русофилом. Он окончил университет в России, впоследствии в Болгарии участвовал в заговоре капитана Паницы, а после раскрытия заговора был приговорен к смерти. Ризов рассказывал, как, будучи уже болгарским поверенным в делах в Константинополе, он выхлопотал турецкий орден для прибывшего туда болгарского сановника, в прошлом прокурора, который требовал его смертной казни. С Ризовым у меня связано следующее воспоминание. Через несколько дней после моего приезда в Цетине пришло известие о смерти великого князя Сергея Александровича. Будучи революционером, Ризов за завтраком в гостинице воскликнул в присутствии кого-то из чинов черногорского Министерства иностранных дел, двух иностранных дипломатов и меня: "Какой ловкий удар!". Признаться, я был поставлен в несколько затруднительное положение: ведь я был представителем не только России, но и царского правительства. Я нашел выход, спокойно ответив Ризову: "Вы так любите Россию и так с нею сроднились, что я вполне понимаю, что у вас о каждом событии в России может быть свое особое мнение". Разговор на этом кончился, и я с Ризовым сохранил наилучшие отношения, причем он, будучи весьма хорошо осведомлен, доставлял мне постоянно весьма интересные сведения. Во время войны Ризов был болгарским посланником в Берлине и известен, по воспоминаниям посланника в Стокгольме Неклюдова, как лицо, посетившее его с мирными предложениями от имени не то болгарского правительства, не то германского командования. Неклюдов отнесся к Ризову с недоверием, между тем я уверен, что Ризов, будучи убежденным русофилом, действовал в этом случае вполне искренне. После Черногории я Ризова не встречал, но с его женой – в то время уже вдовой – встретился в Берлине. Будучи очень красивой и умной женщиной, она сумела создать себе там весьма хорошее положение. В ней никто не мог бы узнать дочки цетинского трактирщика.
Через несколько дней после моего приезда я был представлен Щегловым князю Николаю. Николай Черногорский, как и король Георг Греческий, к этому времени правил своей страной уже четвертый десяток лет. Это была необыкновенно живописная фигура. Николай был прирожденным актером. Он всячески старался произвести впечатление на окружающих, поражая их деланной простотой и добродушием. В действительности он был весьма хитрым и прошедшим через многие трудности политическим интриганом. К тому же он был корыстолюбив и старался всячески эксплуатировать своих "высоких покровителей" и прежде всего, конечно, Россию. Он прекрасно говорил по-французски, так как учился во Франции, но преднамеренно насыщал свою речь сербскими выражениями, подделываясь под тон и облик типичного черногорца. Князь постоянно носил черногорский национальный костюм, причем по-восточному обычаю не снимал и в комнатах своей небольшой шапочки – по-сербски капицы. Любимым занятием Николая была политика. Он ссорил дипломатов друг с другом, чтобы поочередно получать сведения об их коллегах. Для него было крайне неприятно, если дипломатический корпус был между собой дружен. Политика князя Николая вертелась в то время между тремя полюсами: Россией, Австро-Венгрией и Италией. В действительности реальные интересы имели в Черногории лишь Австро-Венгрия и Италия. Они боролись за свое влияние на Адриатическом море как в Черногории, так и в соседней с ней Албании. Конечно, сама по себе Черногория с ее 250 тысячами жителей и в значительной части бесплодной почвой ни для кого не могла быть особо лакомым куском. Но географическое положение Черногории между Далмацией и Албанией при наличии восточной границы с крайне в то время важным для Австро-Венгрии оккупированным ею Новобазарским санджаком делало из княжества для двух соседних государств – в одно и то же время и союзников, и врагов – значительный политический центр.
Что касается России, то к началу XX столетия Черногория имела скорее символическое значение "верного вассала" на самом отдаленном от нас побережье Балканского полуострова. Тем не менее петербургский двор и министерство продолжали вести традиционную политику покровительства Черногории, предоставляя ей двухмиллионную ежегодную субсидию, большая часть которой должна была идти на содержание черногорской армии. Князь Николай поддерживал в Петербурге убеждение, что его армия, численный состав которой, по его словам, мог в случае войны быть доведен до 50 тысяч человек, будет для России полезной в случае войны с Турцией и в случае столкновения с Австро-Венгрией. Эта иллюзия, которую он внушил в Петербурге, была для князя Николая весьма удобной; он ежечасно хлопотал об увеличении русской субсидии, которой, кстати сказать, долгое время почти бесконтрольно распоряжался. Влияние князя Николая в Петербурге было закреплено замужеством двух его дочерей – Милицы и Анастасии Николаевны. Из них первая была замужем за великим князем Петром Николаевичем, а вторая – сначала за герцогом Лейхтенбергским, а затем за великим князем Николаем Николаевичем, будущим главнокомандующим русской армией. С обеими своими дочерьми, вышедшими замуж в России и внешне в достаточной мере обрусевшими (они кончили петербургский Смольный институт), но оставшимися черногорскими патриотками и большими интриганками, Николай поддерживал постоянную переписку, обмениваясь даже шифрованными телеграммами. Третья дочь князя Николая была замужем за итальянским королем Виктором-Эммануилом III, а старшая, Зорка, в бытность мою в Цетине была женой будущего сербского короля Петра Карагеоргиевича. Все это родство, конечно, делало из Цетине немаловажный центр придворных и политических интриг. Несколько лет спустя это сыграло большую роль при возникновении первой Балканской войны. Как известно, она была начата черногорцами. Нечего говорить, что роль России в Черногории при всей ее внешней значительности была в действительности не только дутой, но и чреватой весьма неприятными для нас осложнениями*. Сам по себе князь Николай не внушал никакого доверия, и от него можно было в каждый момент ожидать всяких сюрпризов. Вскоре после первого моего свидания с Николаем он уехал на зимнее пребывание в Реку на Скутарийском озере. Приняв управление миссией, я зажил хотя и в полном почти одиночестве, но сравнительно спокойно. В это время года почти все дипломаты разъезжались. Мои обязанности, однако, не позволяли последовать их примеру, хотя они и ограничивались свиданиями с министром иностранных дел, которым был тогда воевода Гавро Выкотич, и передачей военному министру за отсутствием нашего военного агента, поступавших из Петербурга субсидий. Для этого военный министр являлся в миссию, и ему передавалось одновременно по нескольку сот тысяч австрийских крон, которые пересылались из Австрии, так как в Черногории банка не было. Помнится, что эти передачи для меня были неприятны, так как я не мог отрешиться от мысли, что деньги эти тратятся нами совершенно понапрасну.








