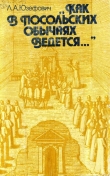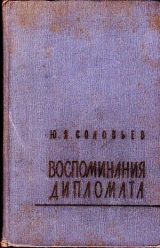
Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Юрий Соловьев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Оказалось, что еще в июле наше министерство после назначения в Цетине нового посланника – Максимова (являвшегося в течение многих лет первым драгоманом в Константинополе, а впоследствии посланником в Бразилии) воспользовалось его приездом туда, чтобы по-своему постараться урегулировать мой инцидент с черногорским двором. В своем донесении по этому поводу в министерство Максимов сообщил, что при первом свидании с князем Николаем он заговорил с ним о желании министерства, чтобы я вернулся в Цетине. Само собой разумеется, князь протестовал против этого самым резким образом, утверждая, что я проявлял в течение моего управления миссией "диктаторские" замашки и что, несмотря на желание министерства, он никогда не согласится на мое возвращение в Черногорию. В крайнем случае он обратится с письмом к Николаю II. Он подчеркивал, что моя размолвка с его старшим сыном стала достоянием европейской печати и что я являюсь "черногорским ненавистником". В том же приблизительно смысле говорили про меня и княжич Данило, и министр иностранных дел Гавро Вукотич (донесение Максимова от 6 июля 1905 г. за N 40). В действительности, как для меня с самого начала было ясно, но чего не могли или не хотели понять в петербургских канцеляриях, вызывающее не по отношению ко мне, а по отношению к российскому правительству поведение черногорского двора было следствием общей политической обстановки. Наши неудачи на Дальнем Востоке заставили князя Николая усомниться в правильности его ориентации на Россию и в возможности России и впредь оказывать Черногории поддержку. Как раз (интересное совпадение) в день Цусимского боя князь Николай находился в качестве официального гостя в Берлине, где был принят Вильгельмом II совместно с японским принцем Арисага, путешествовавшим в то время с женой по европейским столицам. Тонкая лиса, князь Николай нашел, впрочем, нужным сделать визит нашему послу в Берлине графу Остен-Сакену. Он заявил, что очень доволен оказанным ему в Берлине приемом, но не может не отметить одной бестактности по отношению к нему: на всех торжественных приемах его сажали рядом с японской принцессой Арисага. В связи с этим не могу не привести подробностей возобновления дипломатических отношений между Германией и Черногорией. В 1882 г. был впервые назначен германский представитель в Цетине, а именно генеральный консул Теста. Князь Николай, обиженный, по-видимому, тем, что германский представитель в Цетине не имел дипломатического звания, а также недовольный германским правительством, лишившим, по его мнению, Черногорию на Берлинском конгрессе возможности расширения границ в сторону Албании, стал весьма грубо обращаться с германским агентом. В результате последний был отозван, заместитель ему назначен не был, а князь Бисмарк дал, кроме того, всем своим представителям приказание повсюду игнорировать Черногорию и ее представителей. Так продолжалось до 1905 г., когда князю черногорскому удалось через своего зятя – итальянского короля уговорить Вильгельма II принять его в Берлине. Перед тем Вильгельм II при частых поездках на остров Корфу каждый раз отклонял предложение князя встретиться где-либо на Адриатическом море. Наконец, после посещения князем Николаем Берлина германский посланник был назначен и в Цетине.
Было ясно, что вызывающее поведение княжича Данило в отношении меня как представителя России отражало общую черногорскую политику в поисках новых покровителей. Их она думала найти в Тройственном союзе. Сближение с Берлином как с главным членом Тройственного союза регулировало и облегчало для Черногории вечное балансирование между Веной и Римом, ведшими в то время борьбу за преобладание в бассейне Адриатики, именно в Албании и в соседней с ней Черногории.
Одно, чего черногорские политиканы не учли, – это чересчур явное совпадение поворота их политики с нашим поражением под Цусимой. Это придавало их выступлению особенно одиозный характер. Иначе могли отнестись к цетинскому инциденту лишь в затхлых стенах петербургских канцелярий и придворных передних. В европейской печати цетинскому инциденту было придано сразу политическое значение, но в нашей о нем до ноября 1905 г. молчали.
К этому времени, после октябрьского манифеста и последовавшего за ним взрыва революционного движения, положение графа Ламздорфа, на которого – правильно или нет – пала ответственность за неудачную русско-японскую войну, пошатнулось. В петербургских газетах стали искать повода для открытия кампании против министра иностранных дел. К немалому моему удивлению, этим поводом послужил инцидент в Цетине, осложненный в ноябре довольно неожиданным увольнением меня в распоряжение министерства. Если у министерства и был расчет, что после шести месяцев можно окончательно замолчать этот инцидент и обратить меня в козла отпущения, то это не удалось. "Новое время" в ряде передовых статей обрушилось на министерство по поводу его стремления свалить на меня собственные недочеты по внешней политике. Между прочим, 5 декабря 1905 г. "Новое время" писало в передовой статье: "Недавно опубликованный нами инцидент с Ю.Я. Соловьевым, б. нашим дипломатическим представителем в Цетине, усугубляет наши опасения относительно того, что Министерство иностранных дел ничему не научилось и ничего не забыло". 11 декабря та же газета писала: "Налицо неоспоримый факт, что через несколько дней после цусимского разгрома содержавшиеся на русские средства черногорские батальоны принимали участие в празднествах: неопровержимо то, что княжич Данило, сын владетеля, находящегося наполовину, если не совсем, на иждивении русской казны, сиречь русского народа, счел приличным пить за здоровье адмирала Того как раз в тот момент, когда вся Россия обливалась слезами и краснела от стыда, читая известие о неслыханном поражении. Всякое правительство, всякое министерство, сколько-нибудь уважающее если не честь родины, то по крайней мере самого себя, не могло бы стерпеть ничего подобного, независимо от того, сделал ли г. Соловьев свое представление по приказанию из Петербурга или по личной инициативе". Министерство пыталось отстреливаться в газете "Русь", издаваемой сыном Суворина Алексеем, находившимся на ножах со своим отцом, но это лишь подлило масла в огонь.
Мне памятно в связи с этим следующее обстоятельство. Не желая оставить без отчета инсинуацию "Руси", что весь черногорский инцидент – мое личное дело, я отправился к товарищу министра князю Оболенскому и показал ему проект моего письма в редакцию "Нового времени". Я заявил, что никакого личного столкновения у меня в Цетине никогда не было. Оболенский согласился на помещение этого письма. Вернувшись весьма поздно, в третьем часу ночи, в Европейскую гостиницу, где я жил, я нашел там записку товарища министра, в которой он меня просил не помещать письма. К сожалению или нет, но письмо мое уже было послано. Это я ему на следующий день и объяснил, после того как письмо появилось в "Новом времени".
Как бы то ни было, после газетной полемики многое выяснилось, и уверенный, что князю Николаю с его присными даже при слабости нашего министерства не удастся затушевать характер того, что произошло в Цетине, я вернулся в Вышков, предварительно получив по Министерству иностранных дел место чиновника особых поручений для дипломатической переписки при варшавском генерал-губернаторе. Это позволяло мне жить у себя в майорате, где я начал перестройку моего дома и приступил к ряду хозяйственных начинаний.
Деятельность моя в Варшаве была весьма немногосложна. Я участвовал в парадных приемах. Это мне дало возможность несколько ознакомиться с официальной обстановкой в Варшаве. В мою обязанность также входило заверять документы для заграницы, выдаваемые нашими судебными учреждениями, а равно удостоверять для представления в наши учреждения визы иностранных консулов на разных документах. Среди иностранных представителей в Варшаве я встретил одного или двух из моих бывших коллег. Кстати, о варшавских консулах. В 1905 – 1906 гг. положение русской власти в Польше было сильно поколеблено революцией. В Варшаве было неспокойно, несмотря на военное положение. В частности, для генерал-губернатора Скалона было небезопасно появляться на улице из-за возможного всегда покушения. В связи с военным положением, при котором движение по улицам было иногда до крайности ограничено, австро-венгерский генеральный консул Угрон (будущий посланник в Белграде) был остановлен и оскорблен кем-то из военных чинов. По предписанию из Петербурга, Скалон посетил его, чтобы принести ему официальные извинения. Действовавшие в то время в Варшаве организации учли факт, что если будет нанесено оскорбление иностранному представителю, то генерал-губернатор непременно поедет к нему с визитом. Через некоторое время неизвестный в военной форме подошел на улице к германскому вице-консулу барону фон Лерхенфельду и дал ему пощечину. Скалону пришлось ехать, и притом по определенной улице, так как другой доступ к германскому консульству был закрыт из-за ремонта мостовой. Расчет оказался верен: Скалон отправился с визитом, и из одной квартиры, выходящей на улицу, была брошена бомба, убившая двух казаков из конвоя генерал-губернатора и контузившая его самого в голову. Невольный виновник этого Лерхенфельд женился вскоре на племяннице генерал-губернатора баронессе Штакельберг (дочери печальной памяти "генерала с коровой", проигравшего сражение при Вафангоу). Вскоре Лерхенфельд был назначен германским консулом в Ковно, но после начала войны по подозрению в шпионаже он на долгое время подвергся одиночному заключению. За это в виде репрессии немцы заключили таким же образом моего старого знакомого консула в Кенигсберге З.П. Поляновского. Не знаю, как отразилось заключение на Лерхенфельде, но Поляновский, которого я встречал впоследствии в Швейцарии, от нервного потрясения остался на всю жизнь не вполне нормальным.
Я воспользовался своим пребыванием в Варшаве, чтобы порыться в обширных архивах генерал-губернаторства и, между прочим, натолкнулся там на документы, объясняющие сохранение двух дипломатических чиновников при генерал-губернаторе. После восстания 1863 г., когда была окончательно ликвидирована польская автономия и намечена замена наместника генерал-губернатором, была упразднена и особая дипломатическая канцелярия при наместнике в Царстве Польском. Наместничество, однако, было сохранено на некоторое время. Во главе его стоял в 70-х годах XIX века граф Берг, и обязанностью двух сохраненных чиновников бывшей дипломатической канцелярии являлось ведение переписки на французском языке между наместником и государственным канцлером. При этом чиновникам предписывалось по возможности воздерживаться от сношений с иностранными консулами, чтобы не давать повода считать, что в Варшаве сохранен хотя бы признак самостоятельного органа по иностранным делам. В Варшаве доживал век и мой престарелый коллега, брат известного скрипача и композитора Венявский. Как я выяснил, его обязанности ограничивались почти исключительно встречей иностранных гостей, проезжавших через Варшаву*.
______________________
* На основании архивного материала я представил в министерство записку, где доказывал, что при подобных условиях должность чиновников особых поручений по дипломатической переписке в Варшаве следует упразднить. Это и было сделано после моего перевода в Бухарест.
______________________
Во всяком случае подобная работа не могла удовлетворить меня даже ненадолго. К весне 1906 г. я снова выехал в Петербург, представился там новому министру иностранных дел А.П. Извольскому и сразу же был определен в ожидании нового заграничного назначения на работу при излюбленном детище нового министра – газетной экспедиции, которую предполагалось развернуть в бюро печати. Извольский, как он любил вспоминать, сам начал службу в газетной экспедиции и придавал ей большое значение.
Перемены в министерстве, сказавшиеся с назначением министром Извольского, были весьма значительны. Как видно из воспоминаний графа Ламздорфа, увидевших свет лишь в 1926 г., верхи министерства до созыва I Думы отличались необычайной затхлостью и главным образом отрывом от активной дипломатической работы. Как Ламздорф, так и его товарищ Оболенский провели всю жизнь в стенах министерства, принадлежа к небольшому кругу лиц, близких к бывшему министру Н.К. Гирсу. Строго говоря, министерство до 1905 г., как с досадой замечали некоторые наиболее выдающиеся его представители, было своего рода "собственной его величества канцелярией по иностранным делам". Хотя царь и не был министром, но ежедневное представление ему почти всех заграничных донесений лишало министерство инициативы. Последняя проявлялась лишь в устранении некоторых неприятных донесений с царских глаз или же в сообщении тому или иному лицу о "высочайших пометах". Я убедился в этом по собственному опыту. Различные замечания царя на полях донесений заграничных представителей порой сообщались соответствующему дипломату, порой же от него скрывались. Сообщались они лицам, приятным руководящей верхушке министерства, и скрывались от других. Лично я познакомился с рядом таких пометок на моих донесениях лишь позднее, только случайно, благодаря "нескромности" некоторых из моих министерских благожелателей или же гораздо позже из архива. В мемуарах Ламздорфа проскальзывает, что он был удовлетворен своей ролью закулисного наперсника министра, дававшей ему возможность быть вершителем судьбы коллег, находящихся на заграничных постах. К тому же, справедливо или нет, но в петербургском обществе Ламздорф и все его любимцы пользовались определенной репутацией по своим противоестественным половым вкусам. Это накладывало еще более затхлый отпечаток отверженности на всю эту сметенную в начале 1906 г. министерскую верхушку.
Назначение Извольского вызвало много надежд на оживление деятельности министерства и на приспособление его к новым политическим условиям, созданным революцией и созывом Государственной думы*. Действительно, Извольский на первых порах задался целью перевернуть все министерство, но это ему удалось в весьма малой степени. Вскоре ему пришлось сыграть роковую роль во внешней политике бывшей империи. Это вызывалось свойствами его тщеславного характера, поддававшегося влиянию придворных интриг, несмотря на желание вести личную политику. Как бы то ни было, первые шаги Извольского в министерстве вызвали большие надежды. Между прочим, он совершенно переформировал вторую, так называемую газетную, экспедицию, отличавшуюся перед тем совершенно исключительной ведомственной затхлостью. Он устранил долголетнего управляющего этой экспедицией добрейшего, но совершенно бесцветного Нивэ и установил тесный контакт ее с Санкт-Петербургским телеграфным агентством, поставив во главе экспедиции и агентства А.А. Гирса. В политическом отношении выбор этот оказался впоследствии очень неудачным, но на первых порах газетная экспедиция заработала с усиленной энергией на новых началах общения с прессой. Кроме того, Извольский вместе с Гирсом задался мыслью сообщать Николаю II все то, что появлялось о русском правительстве и его политике в иностранных и русских газетах, будь оно приятно или неприятно. Извольский надеялся, что этим удастся привить Николаю конституционный образ мысли. Было время открытия I Государственной думы, и мне помнится, с каким лихорадочным усердием у нас изготовлялись для царя извлечения из речей думских ораторов, например Родичева. Ознакомление с ними, по мнению Извольского, должно было повлиять на Николая в желательном смысле. Во всех департаментах министерства работа стала начинаться гораздо раньше, и сплошь и рядом министр принимал доклады с восьми или девяти часов утра. В области нашей внутренней политики Извольский близко стоял к кругу лиц, которые стремились составить министерство с участием общественных деятелей. Как известно, попытка эта окончилась неудачей.
______________________
* Кроме того, Извольский сделал карьеру на заграничных постах в противоположность Ламздорфу, не покидавшему всю жизнь министерства.
______________________
Живя в Петербурге один, без семьи, я часто бывал в клубах, в особенности в Английском и во вновь основанном клубе политических и общественных деятелей. В них со времени открытия Думы велись оживленные разговоры на политические темы, а в последнем делались и периодические доклады по вопросам внутренней и внешней политики. Там постоянно приходилось встречаться и с новыми "народными представителями". В моей памяти остались разговоры, которые я вел весной 1906 г. с графом Гейденом, М.А. Стаховичем и несколькими другими кандидатами в министры из представителей общественности.
Для меня было непонятно, как эти общественные деятели могли отказываться от министерских портфелей из-за узкопартийных, тактических соображений в момент, когда их появление у власти могло бы, по их по крайней мере мнению, быть полезным стране.
Благодаря тому что во главе министерства стоял Извольский, надо признать, что впервые в министерских кабинетах и канцеляриях начали гораздо живее относиться к окружающим событиям. По мысли нового министра, был задуман целый ряд назначений и перемещений с целью разрушить то средостение, которое существовало издавна между нашей заграничной дипломатической службой и канцеляриями и департаментами самого министерства. К сожалению, медовый месяц министерства Извольского продолжался весьма недолго, и из его многочисленных проектов осуществились весьма немногие, и то значительно позже. Между прочим, по предложению министерской комиссии, в которой мне пришлось позже участвовать, вместо канцелярии и Первого департамента, бывшего Азиатского, были учреждены политические отделы: первый – западноевропейский и американский, второй – Ближнего Востока, третий – Среднего Востока и четвертый – Дальнего Востока. Одновременно все должности в этих политических отделах были приравнены к дипломатическим рангам. Таким образом, начальники отделов получили название советников, а бывшие делопроизводители Первого департамента стали называться старшими и младшими секретарями. Это на первый взгляд формальное переименование должностей имело тот смысл, что давало возможность министру передвигать личный состав своего ведомства за границей и в центре по одной и той же шкале должностей. Таким образом, в каждом отделе мог набираться состав лиц, знакомых с условиями той или другой страны.
Вся реформа Министерства иностранных дел затянулась, однако, на многие годы, вплоть до мировой войны. Она полностью никогда не была приведена в исполнение, именно в части, касающейся заграничной службы. Через Государственную думу была проведена лишь небольшая часть общего законопроекта. Повышены были оклады для министерских должностей, но оставлены без изменения заграничные штаты, долго, но безуспешно пересматриваемые. И на этот раз, несмотря на, по-видимому, искреннее желание Извольского, пробывшего долго на активной дипломатической службе, не удалось поставить заграничную службу в одинаковые условия с министерской. Возобладала группа лиц, руководившая иностранными сношениями и дипломатическим аппаратом большой империи из кабинетов министерства. Из курьезов заграничной службы нельзя не отметить, что содержание советников и секретарей было в десять раз меньше окладов посланников и послов. В результате семейные секретари посольств и миссий не могли прожить на жалованье за границей, а потому министерство было вынуждено набирать этот состав исключительно из лиц, обладавших значительными личными средствами. На семейных членов посольств и миссий ложились значительные почти обязательные расходы по представительству; их, конечно, приходилось покрывать из своего кармана. Другой несообразностью было то, что должности первых секретарей в посольстве считались выше, чем должности первых секретарей миссий, а между тем последние в случае отъезда посланников исполняли обязанности поверенных в делах, а в посольствах эти обязанности падали на долю советников; первые же секретари оставались при всех обстоятельствах лишь заведующими канцеляриями посольств. В этом отношении только во время мировой войны произошла перемена, и в миссиях были созданы должности советников, назначаемых из первых секретарей посольств. Но весь законопроект, реформирующий заграничную службу, в дореволюционное время так и не увидел света.
Одновременно с реформой Первого департамента и канцелярий было намечено преобразование и двух весьма важных отделов министерства: именно отдела печати, преобразованного из второй экспедиции при канцелярии, и юридического отдела, зачатком которого являлась должность непременного советника министерства в лице долголетнего эксперта по вопросам международной политики профессора Ф.Ф. Мартенса. Последние годы его заменил профессор барон М.А. Таубе. Он и стал во главе юридического отдела, а его помощником сделался профессор барон Б.Э. Нольде. Все эти перемены, однако, очень долго не были оформлены. В то время когда я временно работал во второй экспедиции при канцелярии (бюро печати), она длительно и иногда мучительно переживала эволюцию. В отношении ее Извольский сразу предпринял, как было указано, лишь следующую меру: он уволил в продолжительный отпуск престарелого управляющего экспедицией Нивэ, а управление поручил заведующему Санкт-Петербургским телеграфным агентством А.А. Гирсу. Извольскому при этих предварительных реформах пришлось встретить весьма сильную оппозицию со стороны чиновников министерства. Между прочим, ему во многом противодействовал один из бывших ставленников графа Ламздорфа и его любимцев – А.А. Савинский. Последнему, однако, удалось вскоре сделаться необходимым и для Извольского, желавшего занять в петербургском свете выдающееся положение. Савинский приобрел там за долгое пребывание в министерстве большие связи. Лишь значительно позже Савинский покинул свой кабинет в министерстве, предварительно, однако, добившись назначения посланником в Стокгольм; затем он был переведен на ту же должность в Софию, где и оставался до объявления Болгарией нам войны. Так весьма болезненно проходила борьба между заграничным составом нашего дипломатического ведомства и чиновниками петербургских канцелярий Министерства иностранных дел. Что касается поста товарища министра (позднее, перед самой войной, после проведения через Думу первой части законопроекта о реформе министерства были учреждены вместо одной две должности товарищей министра), то Извольский назначил своим товарищем Чарыкова, посланника в Гааге, вместе с которым он учился в лицее. Эта комбинация продолжалась, впрочем, недолго: Чары-ков был переведен послом в Константинополь, а на его место снова попал один из чиновников министерства – А.А. Нератов, никогда за всю свою службу не занимавший ни одного заграничного поста.
Бухарест (1906-1908)
В связи с перемещениями в министерстве очередь дошла и до меня. Первоначально Извольский думал назначить меня первым секретарем в Мадрид, но "министерские комбинации" не позволили этого сделать; туда был переведен первый секретарь в Бухаресте С.А. Лермонтов, а я был назначен на его место. Как бы то ни было, последнее назначение представляло для меня значительное повышение. Оно меня удовлетворяло с точки зрения моего инцидента в Черногории: тем самым я признавался правым. Я с удовольствием снова уезжал за границу. Год с лишним моего пребывания не на заграничной службе доказал мне, что я не только сроднился с ней, но и не могу себя чувствовать на месте на какой-либо другой работе. Это было тем более показательно, что к этому времени я располагал значительными личными средствами, нисколько не нуждался в сравнительно небольшом содержании первого секретаря миссии и при необходимости мог нести дополнительные расходы по представительству.
В Бухарест приехал в сентябре 1906 г. Моим новым начальником был М.Н. Гире, старший сын бывшего министра иностранных дел. Прежде я встречал его лишь однажды (в 1898 г.), после моего возвращения из Китая, куда Гире был назначен посланником. Он пробыл там до 1901 г. и пережил осаду миссии во время боксерского восстания.
Гире был дипломатом старой школы, и притом с определенно канцелярским уклоном; имея (в последнее время) звание советника министерства, он фактически в течение семи лет являлся личным секретарем своего отца. Он великолепно знал все закулисные тайны министерства, но за границей выделялся лишь своей необыкновенной осторожностью, даже в разговорах с глазу на глаз. Впрочем, участвовать в разговоре сразу со многими лицами было для него довольно затруднительно из-за глухоты. При всем этом в Бухаресте он завоевал для себя и для всего состава миссии весьма хорошую репутацию, тем более что его предшественником там был Фонтон, живший в окружении двух француженок, что даже для легкомысленного Бухареста было слишком.
Во всяком случае русская миссия в Бухаресте занимала едва ли не первое место по политическому значению России в истории возникновения Румынии и по пограничному с ней положению. Что касается влияния на Румынию, то конкурировать с русской миссией могла лишь австро-венгерская, во главе которой стоял хотя и весьма светский и симпатичный, но недалекий князь Шенбург. Он был сравнительно молод и еще недавно в том же Бухаресте занимал пост советника миссии.
Наряду с этим совершенно особое положение и, надо сказать, весьма влиятельное, но главным образом в коммерческих кругах, занимал германский посланник, грубоватый, но очень умный дипломат бисмарковской школы фон Кидерлен-Вехтер, будущий германский министр иностранных дел. Он совершенно не церемонился с придворными и светскими кругами Бухареста. Кидерлен-Вехтер почти нигде не показывался, но был необычайно энергичен в развитии экономического внедрения Германии в Румынию. На него чуть не молились все германские и даже австрийские коммерсанты, имевшие дела в Румынии. Один из последних мне как-то очень наивно рассказывал: "Сегодня утром я представлялся князю Шенбургу, а затем завтракал с моим другом Кидерленом". Бесцеремонность Кидерлена в отношении румын достигала порой невероятных размеров. Корреспондент местной официозной газеты как-то жаловался мне на Кидерлена. "Почему, – спрашивал он, – Кидерлен назвал двух своих догов Стурдзой и Карпом, по фамилиям двух самых выдающихся наших государственных деятелей, и, выходя на улицу, громко зовет своих собак их именами?"
В 1906 г. в Бухаресте уже сороковой год царствовал Карл I, принц Гогенцоллерн-Зигмарингенский, ставший румынским князем в 1866 г., почти одновременно с воцарением в Афинах короля Георга I. Таким образом, мне пришлось иметь дело с третьим Из балканских властителей, процарствовавшим почти полстолетия. Подобно греческому Георгу I и черногорскому Николаю I, Карл I уже по одному этому не мог не быть весьма опытным и искусным правителем. Его роль была, пожалуй, еще труднее, чем двух его балканских коллег. Он попал в только что объединенное румынское княжество после отречения от престола его предшественника князя Кузы, в разгар борьбы за власть молдавских и валашских бояр. Из них каждый после свержения Кузы в течение долгого времени стремился занять место владетельного князя. В начале своего правления король (тогда князь) Карл проявил необыкновенную гибкость. Между прочим, один из его долголетних генерал-адъютантов был перед тем главарем офицерского заговора в Плоешти, едва не свергнувшего молодого в то время князя. При всем том Карл оставался в течение всего времени пребывания в Румынии по своим взглядам и убеждениям настоящим прусским офицером.
Когда я покидал Бухарест, король подарил мне свою книгу "Воспоминания о русско-турецкой войне". В ней он отзывался в общем довольно неодобрительно о русских – его покровителях и союзниках. Среди всех русских генералов он отдавал предпочтение графу Тотлебену, вероятно, потому, что тот был немецкого происхождения. Несмотря на то что после русско-турецкой войны прошло почти тридцать лет, недовольство русскими за исход войны и главным образом за потерю трех бессарабских уездов далеко еще не остыло как у короля, так и у румынских правящих кругов. Между прочим, необыкновенное самомнение последних заставляло их приписывать почти исключительно себе взятие Плевны. При осаде ее маленькая румынская армия под предводительством Карла вместе с нашими двумя полками взяла лишь один Гривицкий редут. Это не помешало румынским властям выбить медаль по случаю тридцатилетия падения Плевны. На ней значилось: "Взятие Гривицы – освобождение Болгарии". В Бухаресте к тому же времени было отпечатано много лубочных картин, напоминавших дни Плевны, под заголовком "Румыно-турецкая война". На них изображался князь Карл, отдающий приказания русскому главнокомандующему Николаю Николаевичу старшему. Мне неоднократно пришлось быть на продолжительных аудиенциях у короля Карла. Несмотря на преклонный возраст и болезненное состояние, он был необычайно интересным собеседником и отличался прекрасной памятью. Его разговоры сплошь и рядом носили характер экскурсий в глубь веков. Мне помнится его рассказ о первом посещении Франции. Он рассказывал о своей встрече с герцогом Омальским, младшим сыном короля Луи Филиппа, так, как будто все это происходило накануне.
Румынская королева Елизавета (по происхождению тоже немка, урожденная принцесса Вид) была также незаурядной личностью. Писательница, известная под именем Кармен Сильва, она за свой век написала бесконечное количество забытых теперь стихов и новелл и всегда умела окружать себя представителями литературы и искусства. Почти каждую неделю, по пятницам, у нее устраивались литературные и музыкальные вечера. Ее разговор в области литературы и искусства был необыкновенно интересен. Притом она всегда проявляла демократичность. Круг ее знакомых был гораздо шире, чем у остальных членов королевской семьи. Отличительной чертой королевы была чисто немецкая сентиментальность и порой своего рода институтская восторженность. Во время болезни короля она как-то поместила в газетах такие интимные подробности о своей семейной жизни, что многие убежденные монархисты спрашивали себя, желательно ли это с точки зрения поддержания королевского престижа. Кармен Сильва владела немного русским языком. Она ему научилась, когда жила в России в качестве гостьи или, вернее, фрейлины великой княгини Елены Павловны. В свое время, когда принцесса Дагмара Датская, будущая императрица Мария Федоровна, была невестой старшего брата Александра III, Николая Александровича, будущая королева Елизавета предназначалась в невесты Александру III, но не понравилась ему. Из области литературных симпатий мне помнится, как Кармен Сильва преклонялась перед Генрихом Гейне. Она резко критиковала Вильгельма II за то, что он, приобретя принадлежавший австрийской императрице Елизавете замок на острове Корфу, приказал убрать воздвигнутый там ею памятник Гейне. Бывший император считал его изменником по отношению к Германии. В общем в румынской королевской семье относились весьма критически к личности Вильгельма II. Здесь, между прочим, сказывалось и известного рода соперничество между двумя линиями Гогенцоллернов. Этим отчасти объясняется, что король Карл, несмотря на тяжелую внутреннюю борьбу, не выполнил своих союзнических обязательств по отношению к центральным монархиям в начале мировой войны.