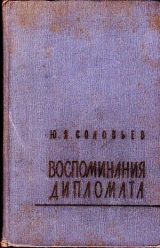
Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Юрий Соловьев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Калган – пограничный с Монголией китайский город. В конце прошлого века он имел все особенности маленького дореволюционного китайского административного центра. На площади города в деревянной клетке висела полуистлевшая голова казненного, вокруг которой летала стая ворон. Такие же головы я встречал и по пути в Калган на перекрестках дорог. Это были следы незадолго перед тем подавленного дунганского восстания. В Калгане по принятому порядку путешествия по Монголии я старался купить себе тарантас сибирского типа, куда укладываются чемоданы и покрываются тюфяком, на который затем ложатся, что очень удобно при продолжительности пути. Однако тарантаса мне найти не удалось и пришлось ограничиться крытой двухколесной телегой для багажа, впрочем, столь же удобной. Ко мне в Калгане был прикомандирован забайкальский казак-бурят, сопровождавший меня вплоть до конечной в то время станции Сибирской железной дороги – Зима (в 200 верстах за Иркутском). Проводник оказал мне неоценимые услуги, в особенности в приготовлении шашлыка, которым я почти исключительно питался, так как через два-три дня путешествия по Монголии не мог брать в рот взятых с собой консервов, которые мне казались необычайно пресными. Во время первых после Калгана переходов меня везли сравнительно медленно: это была местность, населенная дунганами, у которых, по-видимому, не хватало лошадей. Порядок путешествия был следующий: каждый день мы делали приблизительно от трех до пяти перегонов. Станцию образовывали небольшие монгольские кочевья, поселенные специально для почтовой службы. На каждой станции мы обыкновенно заставали уже заготовленным небольшой табун монгольских лошадей. Два конных ямщика брали к себе на седло поперечную перекладину, прикрепленную к оглоблям телеги. Остальные хватались за веревки, привязанные к этой перекладине, и наш небольшой конный отряд скакал по гладкой, как стол, степи. Другие ямщики гнали за телегой небольшой табун неоседланных лошадей, которые ловко засёдлывались уже в пути. Запасные ямщики заменяли своих товарищей на полном скаку. Уставшие лошади оставались в степи. Все они были тавреные, а потому так или иначе попадали со временем к своим хозяевам. Прибывая на станцию, я обыкновенно находил уже разбитыми две юрты и палатку, которые мне полагались по рангу. Ко мне приводили на показ барана, которого тут же резали, и затем мой спутник-казак готовил шашлык над костром из кизяка. Запах последнего, неотступно преследующий вас в Монголии, не слишком противен, хотя им и пропитаны все юрты. Для меня были очень приятны полная тишина и какое-то торжественное спокойствие, которым дышит степь. Вместе с тем в Монголии чувствовалась в то время полная безопасность. Свое единственное оружие – револьвер я так и не вынимал из чемодана. Для меня путешествие облегчалось тем, что я почти не пользовался телегой и проделал весь путь верхом. Очень часто со своим монгольским провожатым мы уезжали далеко вперед и скакали по степи, оставив далеко позади телегу с вещами и казаком. В течение одиннадцати дней я не видал ни одного строения и, не зная монгольского языка, не мог ни с кем разговаривать, кроме как со своим спутником-казаком.
На каждой станции меня встречал в парадном кафтане начальник кочевья, что являлось исконным монгольским жестом гостеприимства. Он протягивал мне обе руки ладонями вверх, на которые гостю полагается положить свои руки плашмя. Мне пришлось испытать и монгольскую честность. Я как-то, едучи верхом, выронил свои золотые часы и спохватился, лишь проехав много верст. Они мне были доставлены, хотя и растоптанные лошадиным копытом. По приезде в Петербург мне удалось их починить. В числе монгольских обычаев в то время был обмен табакерок-бутылочек с нюхательным табаком. Монголы их передают из рук в руки, и каждый или нюхает табак при помощи особой вложенной в бутылочку ложечки, или же по крайней мере подносит ее из вежливости к носу. Все русские, проживавшие в то время в Монголии, носили такие табакерки, что, по-видимому, облегчало сношения с местным населением. С монгольской медициной мне пришлось познакомиться на практике. На одном переходе я внезапно почувствовал себя так плохо, что, сойдя с лошади, не мог больше на нее сесть. Монгол, сопровождавший меня, стал весьма ловко массировать меня, после чего мне стало значительно легче, и мы благополучно продолжали свой путь. Что касается монгольских лекарств, то я убедился, что у монголов в большом ходу сахар как средство от глазных болезней. Я почти на всех станциях оставлял моим новым приятелям в подарок несколько кусков сахара. Много лет спустя, когда у меня болели глаза, я с успехом применял это средство, по-видимому, мало знакомое в Европе. К кирпичному чаю я вскоре так привык, что предпочитал его китайскому, которого у меня был целый запас. Кирпичным чаем мы пользовались и вместо денег – расплачивались им за небольшие услуги, оказываемые нам монголами. Помимо того, мой казак по принятому обычаю наделял начальников станций тремя серебряными рублями за зарезанного барана. При подобных путешествиях китайские чиновники обыкновенно ничего не платили, считая, что баран им полагается даром, а в случае, если он был им не нужен, то, наоборот, монголы должны были выплачивать китайцам его стоимость. Может быть, это одна из причин, почему монголы относились в то время к русским путешественникам с особой предупредительностью. В качестве мелочи мы иногда расплачивались и кусочками серебра от разбиваемого на куски рубля. Это приходилось особенно часто делать при переправах через реки, которые с приближением к Урге (Улан-Батор) стали попадаться чаще. Среди же пути, когда нам пришлось пересекать пустыню Гоби, местность была настолько безводна, особенно потому, что долго не было дождя, что почтовых лошадей на станциях не оказывалось, и перехода три нам пришлось сделать на верблюдах, впряженных в мою телегу. По всему пути нашего следования попадались скелеты лошадей, погибших вследствие отсутствия воды.
Мне удалось видеть живописное зрелище, представляемое конными монголами, вылавливающими своеобразными арканами (в виде жерди с петлей на конце) из табуна лошадей, нужных для нашего дальнейшего путешествия. Это, впрочем, случилось лишь два раза, когда посылаемый вперед конный монгол почему-либо не попадал заблаговременно на следующую станцию, где он должен был предупредить о заготовке лошадей. Среди ямщиков, выказывавших при этом, как и при самой езде, необыкновенную ловкость, попадались иногда и женщины. Большинство монголов было одето в ярко-красные или желтые кафтаны, и по вечерам в лучах заходящего солнца небольшая кавалькада представляла красивую картину. Поддаваясь настроению, ямщики затягивали хором заунывную песню, далеко разносившуюся по пустынной степи.
В Урге я пробыл два дня в гостях у нашего генерального консула Я.П. Шишмарева, по происхождению амурского казака. Ему было за 70 лет, но он был еще необыкновенно бодр, и мы вместе совершили по Урге и ее окрестностям несколько поездок верхом. Службу он начал переводчиком еще при графе Муравьеве-Амурском, во времена заключения известного Айгунского договора, по которому к нам отошла Приморская область. В Урге я встретился и с венгерским ученым графом Зичи. Его научная экспедиция в Монголию имела целью доказать общность корней венгерского и монгольского языков. Объясняется это, помимо появления монголов в XIII веке в Венгрии, вообще монгольским происхождением венгров. Из Урги в Троицкосавск путь был уже недалек – всего два дня переезда. Издалека Троицкосавск мне показался маленьким Парижем: в течение двенадцати дней пути я не видал других жилищ, кроме юрт, за исключением нескольких незамысловатых построек в Урге. Еще через два дня я был при скорой сибирской езде на перекладных уже на станции Мысовой, на Байкальском озере, откуда через несколько часов переезда на пароходе мы достигли "Лиственничной" на другом берегу озера, а затем снова на пароходе по прозрачным водам Ангары добрались до Иркутска. Сибирская железная дорога еще до него не доходила. Таким образом, мне представилась возможность познакомиться с этим городом во всей его сибирской первобытности – с невообразимой мостовой и наполовину проломленными дощатыми тротуарами. Из местных властей я ни с кем не повидался и лишь сделал официальный визит для получения подорожной местному генерал-губернатору генералу Горемыкину, брату одного из царских премьеров. В первый же день моего приезда в гостиницу, где я остановился, пришел один из местных жителей, оказавшийся директором местного отделения Сибирского банка, бывший ссыльный поляк Шестакович. Целью его посещения было желание найти для себя попутчика – явление в то время в Сибири обычное, так как опыт научил местных жителей, что путешествие в одиночку по сибирским дорогам небезопасно. К тому же путешествие вдвоем обходилось дешевле. Мой новый знакомый оказался весьма приятным попутчиком. Он прекрасно знал Сибирь, где прожил со времени польского восстания долгие годы, сделав при этом хорошую карьеру, хотя лишь второй год пользовался правом въезда в столицу. Как знаток Сибири, он за время нашего совместного путешествия успел рассказать мне очень много интересного, и я долгое время потом сожалел, что не записал его рассказов. На перекладных нам пришлось сделать лишь 300 верст до станции Зима, до которой в то время доходила Сибирская железная дорога. Ехали мы в его тарантасе безостановочно днем и ночью, но по ночам не спали, так как мой спутник, опытный сибиряк, советовал быть постоянно начеку, и мы оба держали в руках заряженные револьверы. По его словам, отлогие, но весьма продолжительные подъемы, называемые на местном наречии тянигусами, в особенности были опасны с точки зрения ночного нападения. Действительно, по сторонам дороги сплошь и рядом попадались деревянные кресты – память об убитых путешественниках. Время от времени мы проезжали мимо больших четырехугольных деревянных зданий, окруженных высоким частоколом. То были пересыльные тюрьмы, так называемые "каталажки".
На станции Зима мы застали поезд, готовый к отправлению, но так как он шел с частыми остановками, то в первый день мы сделали только 200 верст – приблизительно столько же, сколько мы делали на перекладных. На больших сибирских реках не было железнодорожных мостов, и наше путешествие осложнялось необходимостью переезда через реки на паромах. На переездах были установлены в то время две очереди, и меня, имевшего казенную подорожную, пускали в первую. После некоторых переговоров мне обыкновенно удавалось не расставаться и с моим спутником Шестаковичем. Западная Сибирь, в особенности Барабинская степь, произвела на меня очень сильное впечатление богатством растительного мира. К тому же Шестакович восторженно рассказывал вообще о Сибири, в особенности о Барнаульском округе.
Как бы то ни было, от Иркутска до Петербурга мы пробыли в дороге более двух недель, но я не раскаивался, что выбрал этот путь возвращения из Пекина. Иначе мне, вероятно, никогда не пришлось бы познакомиться с Сибирью. На Дальний Восток я во время дальнейшей службы больше не возвращался. Знакомство с Сибирью и Монголией, хотя бы и мимолетное, необходимо, чтобы отдать себе отчет о значении для России Дальнего Востока.
Афины (1898 – 1904)
В Петербурге я пробыл недолго. Чтобы поправить свое здоровье, расстроенное пекинским климатом, мне пришлось уехать лечиться в Германию. До отъезда я представился новому министру графу М.Н. Муравьеву. Это был неглупый, но весьма легковесный дипломат шуваловской школы. Между прочим, Муравьев был любителем мундиров. Он только что завел повседневную дипломатическую форму военного образца и принял меня, одетый генералом. Муравьев умер через два года от удара у себя в кабинете, получив сообщение о боксерском восстании.
Три недели в тихом уголке в окрестностях Дрездена почти восстановили мое здоровье. В санатории д-ра Гаупта лечили меня модной тогда гидропатией с применением в ванне электрического тока. Мне впервые пришлось пожить провинциальной германской жизнью. Она пришлась мне очень по душе по своему размеренному темпу, скромности и в противоположность жизни европейцев на Дальнем Востоке по английскому колониальному шаблону, не столько комфорту, сколько культурной насыщенности. Между прочим, после Китая, где я за три года не побывал ни разу в театре, дрезденская опера произвела на меня незабываемое впечатление, и я уже тогда решил при первой возможности попасть на службу в Германию. Это мне и удалось, но значительно позже. В Дрездене я бывал довольно частым гостем у нашего престарелого посланника барона Врангеля – он был большой коллекционер и, конечно, вследствие своего балтийского происхождения вполне сроднился с условиями немецкой жизни.
Вернувшись в Петербург, я узнал, что за время моего отдыха в министерстве было решено перевести меня в Афины. Сначала был предложен Бухарест, но я от него отказался. Попасть туда мне пришлось впоследствии уже в качестве первого секретаря. Одновременно меня ознакомили с телеграммой нового начальника в Афинах – М.К. Ону. Посланник требовал ускорить мой приезд туда ввиду увеличения работы миссии в связи с критскими событиями. Эта телеграмма пришла крайне не вовремя: вскоре после приезда в Петербург я сделал предложение и в январе должен был жениться. Как-никак, не желая отлынивать от службы, я решил ускорить свадьбу и уже в ноябре выехал с женой к месту нового назначения через Вену и Рим. Во время пути я по нескольку дней бывал в Вене, Цюрихе, Венеции, Милане, Риме и Неаполе. Все эти города я посетил в первый раз. В Риме мы задержались. Там я встретил своего старого знакомого Н.В. Чарыкова. Он был в то время министром-резидентом при папской курии, а секретарем у него был С.Д. Сазонов, будущий министр иностранных дел. Сазонов в то время был уже десятый год секретарем. Впоследствии, сделав необыкновенно быструю карьеру, он оказался министром иностранных дел в критические для России дни 1914 г. .Уже тогда он держался с большим авторитетом, и Чарыков (будущий товарищ министра иностранных дел, а затем подсол в Константинополе) как будто пасовал перед ним. Как с Чарыковым, так и с Сазоновым мне впоследствии пришлось служить в министерстве, а потому я буду говорить о них далее. Наше римское посольство при Квиринале, иначе говоря, при итальянском дворе, помещалось в старинном, нанимаемом нашим правительством палаццо на Пьяцца дель Пополо. Посол отсутствовал, и я его не видал. Секретарями были: первым – барон Корф, а вторым – граф Келлер. Из них второй был дядей первого и гораздо старше его. Дядя с племянником сидели в канцелярии вдвоем друг против друга. Она помещалась, что, как я уже говорил, случалось во всех наших посольствах, чуть ли не на чердаке. Впоследствии барон Корф был назначен посланником в Мюнхен, но скоропостижно умер в вагоне, подъезжая к месту своего назначения. Как говорят, это было самоубийство под влиянием шантажа.
В Афины мы попали через Бриндизи, остров Корфу и Патрас, откуда вдоль Коринфского залива идет железная дорога до Афин. Непрерывного железнодорожного пути в Европу в то время Афины не имели. Сообщение этой маленькой столицы с внешним миром поддерживалось пароходными линиями Бриндизи – Патрас или же Константинополь – Пирей. Бывали дни, когда в Афины вовсе не приходило европейской почты. В общем Афины в те годы были крайне неприглядны и необыкновенно пыльны. Даже после Юго-Восточной Италии этот город производил впечатление захолустья. Мы с женой чуть не плакали, когда поняли, что, быть может, надолго застрянем в Афинах. Это действительно и случилось, но мы спустя некоторое время стали смотреть на Афины уже другими глазами. Как это всегда бывает после первого неприятного впечатления, для нас начали постепенно выявляться хорошие стороны нашей добровольной ссылки, иначе говоря, дипломатической службы. Не могу здесь не отметить, что по странному стечению обстоятельств все мои последовательные шесть заграничных назначений переносили меня в города, где я никогда раньше не бывал, и мне приходилось к ним приспосабливаться. Мой новый начальник М.К. Ону был весьма интересным и оригинальным человеком. Службу он начал в качестве мальчика для поручений при канцелярии русского главнокомандующего во время венгерской экспедиции 1849 г. На него обратили внимание как на очень способного молодого человека, и он был взят в Россию, где и окончил гимназию, а затем Лазаревский восточный институт и стал большим знатоком не только турецкого, но также греческого и арабского языков. Начав службу студентом посольства в Константинополе, Ону, продвигаясь там по служебной лестнице, сделался первым драгоманом уже ко времени заключения Сан-Стефанского договора. Мне запомнился его рассказ о том, как он первым русским въехал в Константинополь в качестве парламентера. Наши войска остановились на берегу Мраморного моря. Среди телеграмм и писем, врученных Ону по приезде, была и телеграмма небезызвестной княгини Трубецкой с вопросом: "На когда назначено вступление русских войск в Константинополь?". Туркам содержание телеграммы было, конечно, известно. "Я никогда на эту телеграмму не ответил", – заканчивал этот рассказ Ону. Потом Ону был назначен, что бывало очень редко с драгоманами, советником того же посольства, а затем посланником в Афины, где и закончил свою карьеру. Он умер через два года после моего приезда в Афины. Ону великолепно знал Ближний Восток и в особенности Турцию и турок. Будучи сам по себе весьма умным человеком, Ону не обладал, однако, нужной для дипломата самоуверенностью и апломбом в обращении с европейскими коллегами. Что касается турок, начиная с высших и кончая низшими представителями султанского режима, то он умел говорить с ними необыкновенно авторитетно. На это давало ему право глубокое знакомство не только с Турцией, с ее обычаями и нравами, но и главным образом со всеми своеобразными чертами слуг падишаха. Женат он был на образованной, но необычайно скучной женщине – приемной дочери известного в свое время сподвижника князя Горчакова Жомини, француза по происхождению. Последний долгое время слыл за самого изящного редактора политических депеш при многолетнем государственном канцлере.
Ону в своей дипломатической деятельности часто прибегал к совершенно восточным приемам, но применял их с тонкостью и изворотливостью настоящего левантинца (под это понятие подходит все разноязычное и разноплеменное иностранное население прежнего Константинополя). Если Ону сплошь и рядом терялся на больших придворных и дипломатических приемах, зато он был блестящ в разговоре с одним или двумя собеседниками, делая иногда замечания, поражающие своей глубокой мудростью и точностью выражения мысли. Эти его способности, к сожалению, не были использованы министерством в полном объеме. Его недовольство петербургскими бюрократами сказывалось порой в весьма колких замечаниях на их счет. Говоря о трех последних наших министрах, Ону обыкновенно замечал: "Lobanov c'etait un monsieur" ("Лобанов был порядочным человеком"). Этим он выражал свое мнение о его двух последовательных преемниках: графе Муравьеве и графе Ламздорфе. Что же касается делового анализа политической обстановки, то не раз бывали случаи, когда вопреки ходячей и общепринятой оценке положения в петербургских канцеляриях и при дворе Ону одной своей телеграммой освещал по-своему и с необыкновенным даром предвидения исход того или другого события. Так, например, еще в 1897 г., за год до моего приезда в Грецию, господствующее в Афинах военное возбуждение считалось не только на Балканах, но и во всей Европе чуть ли не угрозой для европейского мира. Вернувшись из отпуска и приняв миссию от первого секретаря Ю.П. Бахметева (будущего посла в Вашингтоне), поддавшегося афинским придворным настроениям, Ону протелеграфировал в Петербург: "Двух недель войны будет достаточно, чтобы успокоить воинственных греков".
Действительно, через две недели войска турецкого главнокомандующего Эдхем-паши стояли, как принято выражаться, под несуществующими, впрочем, стенами Афин. Три года спустя, когда началась бурская война и когда ходячим мнением было то, что англичане очень скоро справятся с "восставшими бурами", Ону как-то заметил голландскому поверенному в делах ван Леннепу: "Через три года англичане будут утомлены". Мне это передавал сам ван Леннеп. При этом в его глазах сквозил какой-то наивный страх перед пророческим даром нашего старого посланника. Ону смотрел на свои посланнические обязанности с особой точки зрения: с высоты своего в самом деле незаурядного знания людей и политических отношений. Из его слов выходило, что наше петербургское министерство делает ряд ошибок, что местная власть крайне неразумна, а он призван регулировать и сочетать порой непримиримые противоречия двух борющихся между собой несознательных сил. На практике ему помогала его левантийская изворотливость. Мне помнится, в один из серьезных моментов развития критского вопроса Ону, который был в то время болен, поручил мне собрать подписи трех посланников, выступавших совместно с ним с нотой, адресованной греческому правительству. Это выступление должно было состояться после весьма продолжительных и трудных предварительных переговоров по согласованию текста ноты. Английский посланник, по-видимому, не желая восстанавливать против себя греческого короля, написал перед своей подписью: "С копией верно" (тождественная нота была уже предъявлена генеральными консулами в Канее верховному комиссару на Крите королевичу Георгию). Я вернулся к посланнику с вопросом, что делать дальше. Он вышел из положения, поставив свое имя над подписью англичанина. Таким образом, приписка последнего оказалась имеющей силу только для него одного. Остальные два посланника, французский и итальянский, подписались без приписок, и нота была вручена без нового обмена телеграммами с министерствами.
Не всегда, однако, деятельность нашего престарелого посланника встречала одобрение свыше. Характерна в этом отношении каламбурная пометка, сделанная на одном из его донесений Александром III: "А ну его".
Что касается придворных отношений, игравших в Афинах большую роль ввиду близости петербургского и афинского дворов, то они были для Ону весьма неприятны. Он, впрочем, умело скрывал то порой пренебрежительное отношение, которое проявлялось к нему весьма распущенными греческими принцами, опирающимися на интимные связи с нашей императорской семьей. По рассказам Ону, одним из самых тяжелых эпизодов в его жизни было назначение сопровождать Николая II, в то время наследника, при его путешествии на Дальний Восток в 1890 г.
Когда было решено отправить наследника в дальнее путешествие, возник вопрос: кто из представителей министерства иностранных дел будет его сопровождать? Предполагалось первоначально поручить это посланнику в Мюнхене графу Хрептовичу-Бутеневу, бывшему долгое время советником посольства в Лондоне и хорошо знакомому с английскими порядками. Подобное назначение было бы, по-видимому, удачным: наследник должен был посетить последовательно Египет, Индию и другие английские владения, а между тем вся его свита была составлена из лиц, стоявших далеко от международных отношений и даже не знавших английского языка. Почему-то, однако, это назначение не состоялось, и в последний момент к Николаю II был прикомандирован Ону. Как я уже говорил, именно он по своему складу не подходил к этой миссии. Действительно, он скоро попал в весьма неприятное положение, в особенности потому, что на наследника влиял королевич Георг Греческий, привыкший уже в Афинах не считаться с Ону. Молодые люди стали позволять себе всякие неприличные выходки по отношению к старику и в конце концов перестали слушать его советов. Между прочим, великие князья и принц, подстрекаемые морской молодежью и своей свитой, отправились в Александрии по всяким увеселительным заведениям, что не могло не произвести неприятного впечатления на население. Все представления Ону по этому делу остались безрезультатными. Затем во время морского перехода по Красному морю (это, впрочем, мне рассказывал не сам Ону) молодые люди начали относиться к Ону уже совершенно пренебрежительно, видя в нем неприятного гувернера. Одним из развлечений принца Георга было бросать грязную тряпку на голову старого посланника, когда он выходил из своей каюты. Вообще путешествие посланника на Дальний Восток, окончившееся, как известно, очень плачевно в Оцу, где японский полицейский ударил саблей Николая II по голове, было обставлено весьма неудачно. Характерна маленькая подробность, рассказанная Ону. В Бомбее, где наследник пробыл довольно долго, предусмотрено было посещение им одного из индийских махарадж. Эту поездку, как и другие экскурсии, путешественники совершали в штатском платье. Между тем при снаряжении их за границу не позаботились даже о снабжении их достаточным штатским гардеробом, и великие князья ездили верхом в обыкновенных пиджачных парах, с задиравшимися по колено панталонами. Это не могло не вызвать улыбок у англичан, из которых последний клерк любой конторы блещет в колониях корректностью своего костюма. После несчастного случая с великим князем Георгием Александровичем, сильно разбившимся при каких-то "играх" на палубе броненосца, Ону вместе с ним возвратился в Европу. Что касается принца Георга, то некоторым дополнением к тому, что мне рассказывал Ону, был рассказ английского посла в Мадриде сэра Артура Гардинга. Последний еще молодым человеком находился на службе в Индии и был прикомандирован сопровождать там русских великих князей. По его словам, принц Георг держал себя повсюду весьма самостоятельно, чтобы не сказать вызывающе. Он требовал, чтобы при встречах играли после русского гимна греческий, которого, кстати сказать, никто из музыкантов по всему пути их следования не знал.
Как бы то ни было, ко времени моего приезда в Грецию Ону с большим авторитетом, несмотря на придворные нелады, занимал место русского посланника в Афинах и декана дипломатического корпуса, мечтая, однако, перейти на другой пост. Действительно, отношения с двором были лично для него весьма тяжелы и неприятны, в особенности после греко-турецкой войны. Во время этой войны на Ону был возложен ряд неприятных для двора поручений.
Первым секретарем был А.А. Смирнов (будущий посланник в Каире). Он был недурным поэтом, но в общем не очень умным человеком, обуреваемым нестерпимым снобизмом, для которого афинская придворная среда представляла благодарную почву. Атташе при миссии был москвич СВ. Протопопов, весьма неглупый человек и большой оригинал, а военным агентом – полковник Калнин, латыш по происхождению, вскоре назначенный на ту же должность в Константинополь. Русская колония пополнялась престарелым генеральным консулом в Пирее (порт Афин) Троянским и русским секретарем королевы Философовым, весьма мало интересным человеком, проведшим всю жизнь на придворных должностях. Троянский был и русским делегатом в Международной финансовой комиссии, взявшей после греко-турецкой войны под контроль греческие финансы. Эта комиссия через несколько лет восстановила их равновесие, а также и курс драхмы, к большому огорчению большинства афинских дипломатов, получавших жалованье в золотой валюте и пользовавшихся разницей в курсе.
Как я уже говорил, придворная жизнь играла большую роль в афинском дипломатическом обиходе, в особенности для русской миссии. В противоположность Пекину, где иностранные дипломаты вели независимую жизнь, вне местных кругов, в Афинах вся наша жизнь вертелась так или иначе вокруг двора, причем это бывало подчас в достаточной мере тягостно. Королева Ольга Константиновна, по существу необыкновенно добрая женщина, не переставала считать себя русской великой княгиней, а потому вмешивалась в жизнь русской колонии, в особенности русской средиземноморской эскадры, которая постоянно заходила в Пирей, а часто там и зимовала. На ее судах давались бесконечные приемы в честь королевской семьи, на которых должна была присутствовать и русская миссия. Отношения последней как с часто сменявшимися адмиралами, так и с самой королевой были очень сложны. Между прочим, Ольга Константиновна, как дочь бывшего генерал-адмирала, постоянно вмешивалась в жизнь эскадры и порой бывала в весьма натянутых отношениях с ее командующими, как например с будущим морским министром адмиралом А.А. Бирелевым. По своей сердечной доброте она особенно баловала матросов, которые приглашались, к большому неудовольствию короля, пить чай во дворец, формально к горничной королевы, но в действительности к ней самой. Этим был недоволен и адмирал, утверждавший, что так подрывается дисциплина и матросы выходят из его повиновения. Нечего и говорить, что в то же время весьма частое пребывание русской эскадры в Пи-рее и сопровождавшие его почти ежедневные посещения королевой русских судов не могли не коробить необыкновенно чуткого национального самолюбия греков и были причиной постоянных осложнений. Это не только не поднимало русского престижа, но, наоборот, порой вызывало народные волнения.
Весьма характерно было в этом отношении скоро, впрочем, улегшееся восстание, направленное по своеобразному поводу главным образом против Ольги Константиновны.
Королева, будучи весьма религиозной, однажды задумала перевести на современный греческий язык Евангелие. Между тем три из Евангелий (Марка, Луки и Иоанна) были первоначально написаны по-гречески, а потому греки считали себя хранителями подлинного евангельского текста, хотя большинство из них древнегреческого языка и не понимали. Тем не менее перевод Евангелия на новогреческий язык был сочтен в Афинах за панславистскую интригу. В продолжение трех дней волнения не прекращались. Местный университет превратился в укрепленную цитадель, весь гарнизон был поставлен на ноги. На улицах шла стрельба, вызвавшая многочисленные жертвы. Но король Георг I, опытный, почти циничный правитель, царствовавший, как известно, более 40 лет, вышел из затруднения весьма ловко. Он пожертвовал всем своим кабинетом и вдобавок митрополитом Прокопием, известным русофилом. В результате через три дня волнения так же скоро улеглись, как и начались.
Этот политический прием проявления крайней уступчивости вообще весьма характерен для личности короля. По происхождению датский принц, брат русской императрицы и английской королевы, Георг I весьма ловко пользовался своими связями, чтобы царствовать в маленьком тогда греческом королевстве, насчитывавшем лишь 2,5 миллиона населения. Страдавшие мегаломанией греки не могли не сознавать, что "связи" короля им полезны. Со своей стороны, король, попав в 1862 г. в Афины после переворота, вызвавшего отречение короля Отгона (по происхождению баварца), заручился пожизненной пенсией трех держав-покровительниц – России, Англии и Франции. Каждая из этих держав обязалась выплачивать ему до самой смерти, даже в случае его вынужденного отречения, по 100 тысяч франков в год. Помимо того, король Георг, будучи весьма деловым человеком, составил себе значительное состояние, которое держал за границей. Таким образом, ему, как иностранцу, и притом непосредственно не заинтересованному в греческом вопросе, удавалось весьма ловко маневрировать среди столь легко возбуждающегося греческого населения. При этом он проявлял недюжинный такт, научился свободно говорить по-гречески и делал все возможное, чтобы угодить своим случайным подданным. Каждый год он уезжал в "продолжительный отпуск" во Францию, где вел весьма приятный образ жизни, отдыхая от трудов правления. Мне помнится, как однажды, когда мы стояли на платформе крошечного афинского вокзала в ожидании приезда какого-то высокопоставленного русского лица, король с улыбкой, как бы подтрунивая над своей столицей и показывая на начинающийся за вокзалом туннель, сказал мне: "Можно подумать, что мы в Лондоне". Это порой легкомысленное отношение к своей стране и столице в какой-то мере облегчало для короля его пребывание в Афинах, которое он с самого начала своего приезда не принимал всерьез. В делах внутреннего управления король ловко маневрировал между различными партиями, легко расставаясь со своими премьерами. Интересен его взгляд на обязанности конституционного монарха. Как-то раз он шутливо объяснил их одному из дипломатов. "Мои обязанности весьма легки, – сказал он по-французски, – обыкновенно первый министр, являясь ко мне с докладом, сообщает, что большинство палаты за него; в таком случае я иду гулять. Случается и так, что министр приходит и говорит мне, что большинство против него; в таком случае я ему отвечаю: "Идите гулять" (непереводимая игра слов: по-французски это равносильно русскому: "убирайтесь")".








