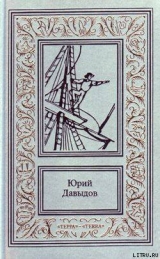
Текст книги "Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
9
Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича – злодейство, учиненное другом детства, Петрухой Дементьевым. Отписал он все, о чем рассуждали в лондонском доме братья Каржавины – непотребно поносили и государыню, и сенаторов, и митрополитов; бытие божие начисто отвергали; сетовали на покорность простого народа. Да еще и прибавил зазорное, несусветное: шпионствуют, дескать, в пользу французской короны.
По какой причине Дементьев макал перо в склянку с ядом? Годами дожидался Петруха обещанной подмоги. Получив, глядишь, и сработал бы морской часомерный механизм высокой точности. Слава! Награда! А Васёна не то чтобы безвозмездно, но и в долг, на срок не ссудил ни копейки. И Петрей обмакнул перо в склянку с ядом… Все понять – все простить? Э нет, любезный читатель. Нет! Бывает, конечно, и так – жил человек в России, сознавал, что почем, а уехал и призабыл, другим аршином стал мерить. Но Дементьев… Он очень хорошо, отчетливо и ясно понимал, как слово его отзовется.
Не глыбы Петра и Павла давили Василия Никитича – ужасное виденье: голодной смертью помирает Феденька на далекой чужбине.
10
Казалось бы, призови Каржавина да и увенчай тонко задуманное, хорошо расчисленное. Но медлил Степан Иваныч, г-н Шешковский: серьезная помеха обнаружилась. Экая досада! А виною всему дубина стоеросовая Золототрубов.
Золототрубов (тот, что арестовал Каржавина), составляя перечень изъятым бумагам, открытие сделал: письма из Лондона от Петра Дементьева и анонимное доношение, поступившее из того же Лондона, – одна рука! Прибежал к г-ну Шешковскому, рожа – будто леденец за щекой.
Служебное правило гласило: коли доноситель известен, следует допросить его очно. Теперь, стало быть, что же? Пришлось Степану Иванычу трудить иностранную коллегию, коллегии – российское посольство в Англии. А там не торопились. Положим, не ахти как легко отыскать какого-то часовщика в огромном городе: иголка в стогу. Но, сдается, не очень-то потом обливались: за долами слабеет глас Тайной канцелярии. Ждал г-н Шешковский, нетерпенью своему находя исход в других расследованиях.
Наконец, дождался: беглый раскольник Петруха Дементьев преставился в городе Лондоне! Слава те господи, прости и помилуй.
Казалось бы, зови теперь колодника, зови Васеньку. Скрой, что его благоприятель помер, стращай и своего добейся. Но Степан Иваныч поспешал медленно. Семь раз отмерь, один – отрежь.
Читатель, вероятно, не забыл, как г-н Шешковский уверял, будто от 7-го пункта не ежится. (Царицыного указа о смертной казни взяточникам.) Не лгал. По части мздоимства был еще чист, но, оглядываясь вокруг, завистью уязвлялся. Ка-акие куши срывают и генерал-прокурор, и губернаторы, и вице-губернаторы. Один высший сановник «вымучил денег до двух миллионов», повергнув народонаселение в «совершенное убожество». Другой жирел на восточносибирских хищениях. Третий сбывал за море казенный лес, нагружая сундук золотом заморской чеканки… А он, верный пес государыни, пробавляется лишь жалованьем. О детях надо иметь помышление али не надо? О благоверной Алене Петровне надо иметь помышление али не надо?
Так вот, задумав ступить на стезю ухватистых взяточников, Степан Иваныч боялся слевшить. Примеривался, пока не углядел стотысячника Васеньку. Все в точку сошлось. И давнее московское знакомство, и привычные Каржавиным барашки в бумажке, и возможность похерить страшное дело – доносчика-то Дементьева вынесли ногами вперед. А может, и головой, черт ведает, какие у них там обыкновения…
И все же, повторяю, г-н Шешковский поспешал медленно.
Каждую неделю гонял посыльного на Почтовый двор к приходу заграничной почты; тогда называлась «немецкой». Все письма от Ерофея Каржавина забирал себе. Прочитывал и злился: нет нужного известия. Такого, чтобы обуглило Каржавина, чтоб света не взвидел. А тут-то ему и милость, тут-то ему и дар небесный. А следствием – вековечная повинность Степану Иванычу, г-ну Шешковскому, добросердечному секретарю Тайной канцелярии.
Ерофей Никитич письма номером метил. Когда пришли 36-е и 37-е, друг за другом пришли, теплой волной омыло Степана Иваныча. Он эти письма разглядывал не без радостного удивления: господи, сколь фортуна к нему благосклонна. И умиленно прочел – назубок знал – акафист Иисусу сладчайшему.
Письма были как вопли. Сообщал Ерофей Никитич об ужасной болезни племянника. Медики и аптекари дерут три шкуры; хирург предлагает ломать лицевую кость. А он, Ерофей, без гроша.
– Эй! – крикнул Степан Иваныч. – Эй, кто там? Живо!
Письма отнесли в темницу. И свечу подали.
Василий Никитич, читая, рвал ворот рубахи, как в удушье.
Потом на колена рухнул: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Еще не опамятовался, а его уж волоком, волоком в канцелярию г-на Шешковского.
Сказано было:
– Внимай, Каржавин!
Колодник, уронив руки, головой мотал.
Сказано было:
– Не тебе, во грехах погрязшему, сострадаю. И не братцу твоему, улизнувшему за кордон. Единственно сострадаю отроку. Кончается агнец середь чужих людей. А тут вот цидулка латинская приложена, какая, значит, болезнь. Еду к лейб-медику, испрошу консилиума. Тебе передам, что объявят, а ты поскорее отпишешь своему Ерофейке. Еще раз говорю: единственно отроку сострадаю. И смотри мне, чтобы деньги выслал. Не скупись по вашему купецкому обыкновению. Что на свете гаже скупости, а? С родного батюшки пример бери. Помнишь небось, сколь охотно и любезно он суму выпрастовал. Знал, умница: себе же во благо!
Колодник, медленно поднимая руки, слушал г-на Шешковского и точно пенье ангелов слышал. В словах же о купецкой прижимке расслышал укор. Относящийся, однако, не к парижскому прозябанию своих кровных, а к своей собственной несообразительности.
– Да-с, не скупись, – вразумляюще продолжал секретарь Тайной канцелярии. – Мне, голубчик, ведомо, ты из ямщины норовишь выскочить, сего ради нужным людишкам пригоршни золота сыплешь. Выходит, хорошо понимаешь, все-е-е ты, братец, смекаешь. Так али нет? – Не мигая, пристально глядел он на Каржавина.
Столп солнечный осиял Василия Никитича. Он руки клятвенно воздел:
– По гроб…
11
И пошел Василий Никитич Каржавин на волю. За спиной крылья, в сердце песня. Легко шел, шалым шагом. Архангел-трубач на стремительной игле собора ласково кивал ему с горней высоты.
Небо над городом было аспидное. Душно и едко припахивало дальними лесными пожарами. А Василий Никитич улыбался так, словно витала над ним юная Аура, богиня нежного ветерка, взлетевшая из тростников на своем царственном лебеде.
Лодочник в белой рубахе налег на весла. Ялик уже достиг середины Невы, когда гроза грянула сухая, без ливня. Василий Никитич успел заметить – острым зигзагом ударила молния в крепость Петра и Павла. И вроде бы вспыхнуло там, задымилось. Почудилось даже, будто рушится что-то, тяжело, гибельно рушится.
– А! – вскрикнул Василий Никитич и в ладоши хлопнул: – Пришибло!
Но гроза хоть и небывалой ярости, а покорежила лишь шпиль крепостного собора. Что за притча? При любой грозе невредимы тайные канцелярии! Из сей притчи следовало: быть ему, Василию Каржавину, исправным данником Степана Иваныча, г-на Шешковского.
12
Он не остался глух к челобитьям своего данника.
С высоты трона простили Ерофею Каржавину «самовольное отлучение за границу», обещали службу в Петербурге. Пособили, конечно, ходатайства парижских академиков, но, право, ничего бы не стоили их просьбы, если бы г-н Шешковский дал надлежащий ход лондонскому доносу.
А Федору Каржавину разрешили остаться во Франции «до окончания начатых им наук». И определили студентом российской Коллегии иностранных дел, прикомандированным к нашему посольству.
Глава вторая
1
Лотта, ученица белошвейки, по-прежнему жила в ветхом, неопрятном доме на левом берегу Сены. И по-прежнему любила Теодора. Правда, Теодор переселился на улицу Сен-Жак – дядюшка Ерофей, прощаясь с Парижем, устроил племянника пансионером состоятельного букиниста г-на Гериссана. Правда и то, что г-жа Гериссан, ужасная злюка, отпускала Теодора только в коллеж. Но Теодор ради Лотты сбежал бы даже из Бастилии. Лотта гордилась Теодором – крестик в петлице: знак победителя в классных состязаниях, происходивших каждую пятницу.
Федор считался не просто успевающим, а преуспевающим. Он подавал сочиненья на сорбоннские конкурсы. Профессоры усматривали самостоятельность суждений и умелость изложения. Однако лаврами не венчали.
Лотта ошибалась, думая, что г-жа Гериссан никуда не пускает Теодора. Это не совсем так. Он бывал в особняке на тихой улице де Граммон. Обязанности нашего посла при версальском дворе отправлял Дмитрий Алексеевич, князь Голицын. Дидро говорил: князь не кичится значительностью своего положения и происхождения; не рассудочно, а душою верит в равенство людей всех состояний; из титулов чтит первый – титул человека… Серьезный дипломат был и серьезным ученым; его занимали физика, астрономия, политическая экономия. Дмитрий Алексеевич привечал отпрыска московских ямщиков: «Из сего молодого человека может быть со временем искусный профессор». Лестная аттестация была по душе Федору; он мысленно показывал кукиш сорбоннским метрам.
А в доме букиниста его не баловали.
Г-н Гериссан принадлежал к тем книгопродавцам, которые, слава богу, не переводятся, хотя и редчают: дорожил не столько красной ценой товара, сколько посильной помощью ученым мужам. Никому бы и в голову не пришло спросить в его лавке издания «Голубой библиотеки» – перелицовки ветхих рыцарских романов. Не могу, однако, утаить и позорное обстоятельство: букинист был из жалкого племени подкаблучников. Супруги боялся больше, чем вельзевула. Впрочем, что странного? В существовании вельзевула г-н Гериссан крепко сомневался; в существовании г-жи Гериссан сомневаться не приходилось. А Федор уподоблял хозяйку собаке г-на Вольтера – той, что рычала даже на собственную тень.
Тайком, не у себя, в Лоттиной комнатенке Федор писал родителю: свободные дни сижу дома, а с дядюшкой, бывало, осматривал библиотеки и кабинеты ученых; просил г-жу Гериссан заменить на моем черном камзоле шерстяную подкладку летней, но она этого не захотела; на деньги, присланные вами, купил книг по философии и физике, ботанике, хирургии, химии, остальные придется отдать г-же Гериссан; у нее сохраняется мой пенсион, но она никогда не дает мне отчета; словом, ничего не было бы лучшего, как избавиться от г-на и г-жи Гериссан.
И вдруг студент избавился от тирании.
Избавитель был высоколобый, плотный, плечистый. Книги выбирал тщательно, это нравилось букинисту. Держался с некоторой важностью, это нравилось супруге букиниста. Несмотря на молодость, состоял членом нескольких академий, это внушало почтение и букинисту и его супруге. Откажешь ли г-ну Баженову, желающему прогуляться со своим соотечественником? Извольте, мсье! Как вам будет угодно, мсье!
Берущие на поруки снисходительны; Баженов охотно отпускал Федора к Лотте. И, отпустив, провожал улыбкой завистливой. Право, он бы тоже отправился к возлюбленной. Увы, его солидность, его серьезность, видать, пугали Эрота, и этот шалун не решался натягивать свой гибкий лук.
Впрочем, Федор чем дальше, тем чаще устремлялся не к Лотте, а к Баженову. Он увидел Париж его глазами. Площадь Дофина прекрасна. Королевская площадь очень хороша? Несомненно. Но город, мой друг, надо зреть словно бы с высоты птичьего полета. Париж прелестен частностями. И плох в целом, у него нет капитальной идеи… Баженов импровизировал. Импровизации не витали над Сеной – витали над Москвой-рекой. Баженов был свободен в самом несвободном из искусств: оно требовало примирения, казалось бы, непримиримого – эфирной фантазии и грубого материала, вдохновения поэтического и вдохновения геометрического.
Слушая Баженова, Федор слышал звуки родной, позабытой речи. В устах Василия Ивановича была она величавой, подчас выспренной. Федор обладал, так сказать, филологическим слухом, но тут другое: в звуке был зов. Он ощутил свое житье в стороне, как бы на обочине, и это вызывало прилив тоски, внятной, как тонкий запах кипарисовых карандашей и теплый запах заготовок для архитектурных моделей, отдаленно напоминающий пасечный, смешанный и стойкий дух в тесной квартирке на улочке Фромантен.
Теперь уж Федор не просил избавления от Гериссанов – просил вызволения из Парижа: государь мой батюшка, ссудите деньгами на дорогу; даже и постель продал, на соломе сплю, а все не хватает; ссудите, батюшка, домой надо, хоть в солдаты, хоть в чистильщики сапог, кем угодно, куда угодно, лишь бы домой, в Россию.
Ему было трудно расставаться с Лоттой, но и тяжко оставаться в Париже. Есть любовь к женщине, но есть и любовь к судьбе. Последнее не всегда нечто фатальное, нет, иногда иное, совсем иное – неодолимое желание испытать судьбу.
Деньги были присланы. Пусть возвращается, решил Василий Никитич, знания у Феденьки достаточные, дабы успешно подвизаться в большой коммерции.
Каржавину исполнилось двадцать от роду. Уехал он в 1765-м, на одном корабле с Баженовым.
2
Маменька обнимала первенца:
– Ох, кожа да кости… Ох, чужбинка-то непотачлива…
Здешнюю домашность Федор соизмерял с парижской. Там, в Париже, младшие держались вольно. Бывало, и главе семейства храбро подпускали шпильку. А тут… Василий Никитич шевельнет бровями, никто не смеет спросить: «Чего сердитесь?» – потупившись, шелестят: «Пошто изволите гневаться?» Принесет из Гостиного подарочек, не скажут: «Спасибо» – нет, в пояс кланяются: «Покорно благодарим за ваше пожалование»… Федор втихомолку посмеивался: ни дать ни взять «Наставление об учтивости благонравных детей». (Так называлась инструкция иеромонаха парижского посольства; призабыв русский, Федор выпросил рукопись, читал с пером в руке, очень это было полезно в грамматическом и лексическом смысле.)
Благодушно посмеиваясь над домашними строгостями, Федор неулыбчиво слушал, как отец убеждает их степенства сплотиться в компанию. Все это не по душе было Федору. Один лишь из посетителей отца всерьез интересовал Каржавина-младшего: Гаврила Попов.
Родом из Торопца, Новгородского уезда, жил тот некогда в Кенигсберге, подвизаясь по торговой части. Василий Никитич «коррешпондировал» с Поповым. Да и позже, в годы службы Гаврилы Ивановича таможенным надзирателем, тоже встречался.
Наружность этого Попова совершенно не вязалась с его натурой. Был этот Попов неказист, рябенький, бороденка мочалкой; ходил бочком, будто робея, голосок имел слабенький и словно бы с трещинкой. Душевные же свойства решительно выдвигали его из общего ряда. Был он начитан, читал не только по-русски, а и по-немецки; читал не для приятной отрешенности от обыденных забот, а ради пущей сосредоточенности на предметах, по его разумению, наиважнейших – зло, исходящее от государственного правления, вожжи коего в руках жестокого барского сословия; неизбежность погибели последнего, ибо мужицкое терпение «исполнит свою меру»; необходимость личной свободы крестьян.
Судьбу Гаврилы Попова не так уж и трудно провидеть. Досталось ему заточение в Спаса-Евфимиевском монастыре, где содержали его «в одиночестве, под крепкою стражей, не дозволяя писать». Этого «рассеивателя вредностей» изъяли из мира дольнего годы спустя. А в год возвращения Каржавина-младшего Гаврила Иванович жительствовал в Москве и, наезжая в невскую столицу, наведывался в дом на Адмиралтейской першпективе.
Рассужденья свои зиждил Попов на заветах священного писания. По заповеди божией, говорил он, каждый обязан возлюбить ближнего, как самого себя. А выходит иначе: человек у человека стал изнуренным невольником. Невольников же несть числа; взбунтовавшись, сделаются фуриями и, пролив кровь, что опять-таки противу слова творца вселенной, превратят дворянство в ничтожество. Отселе непреложная необходимость убедить барство отказаться от рабов.
Федора ничуть не огорчало возможное превращение дворянства в «ничтожество»; обращение же крестьянина в «фурию» – ничуть не пугало; а благое желание убедить рабовладельцев перестать быть рабовладельцами – смешило. И если он не смеялся, то лишь из сердечной уважительности к собеседнику…
Между тем время шло, надо было думать, куда направить стопы свои. Федор полагал так: определюсь в иностранную коллегию, избавлюсь от родительской опеки и родительского кошелька, займусь переводами, как дядюшка Ерофей.
Ерофей Никитич уже выслужил чин поручика. Женился невыгодно, зато по любви. Не так, как старший брат. Не скажешь, конечно, что Василий из одной корысти, этого не скажешь, но Анна-то Исаевна купеческого корня, московских Тумборевых, весьма состоятельных. У Федосьи ж только и было что салопчик, полушалочек и колечко серебряное. А сердечко? Золотое сердечко, высшей пробы! Ни малейших посягательств на мужнин кошелек. Супруги исповедовали правило столь же необходимое, сколь и уныло-томительное: по одежке протягивай ножки.
Они нанимали скромную квартирку на Васильевском острове… После службы, в сумраке, при сальной свече дядюшка Ерофей переводил «Путешествия Гулливеровы». Не с английского – с французского. Французский текст гладок был, щеголеват. Дядюшка Ерофей чутьем угадывал подлинник, грубоватый и крепкий, будто сработанный корабельным бондарем. Жалел, что недостаточно владеет английским. Право, лучше, куда лучше было бы обойтись без изящного французского посредника.
За Невой, у старшего брата, Ерофей Никитич не появлялся. В споре о Федином будущем разверзлась пропасть. Кончилось тем, что Василий Никитич, гневно пеняя прошлыми денежными субсидиями, затопал ногами: «Неблагодарный ты змей, Ерошка! Сгинь!» Оскорбленный поручик заклеймил брата тиранствующим гарпагоном, перед которым нечего метать бисер, и в сердцах хлопнул дверью, Василий же Никитич рывком отворил и засвистал вдогонку двупалым свистом.
Зная братнин характер, Ерофей Никитич не надеялся на исполнение Фединого желания. Скорбел: все мое тщание пойдет прахом. Господин Дидро, разумеется, прав: коммерсантов обвиняют в том, что они – космополиты; это равносильно обвинению воздуха и воды в том, что они полезны всем; упускается из виду общее благо всего мира. Да, господин Дидро прав, но только не Федя, только не милый Федя. Встречаясь, племянник и дядюшка обменивались как паролем и отзывом: «Не коммерция…» – насмешливо произносил племянник, «а служение обществу знанием», – торжественно произносил дядюшка. Они испытывали не просто обоюдную приязнь, а нежность, избегая, однако, внешнего изъявления ее.
Отец не скрыл от сына разрыв с «Ерошкой». Сын не счел нужным скрывать от отца благодарность дядюшке Ерофею. Василия Никитича злили хождения на ту сторону Невы. Он, однако, не допускал возможности сыновнего бунта. Но смутные опасения возникали: угадывал в сыне свое – упор и напор. И пускался в рассуждения окольные.
Пусть вникнет в отцовский проект о российской коммерции. Пусть вникнет в суть новых времен. Зри поверх суши: российский торговый корабль бороздит Средиземное море – мал почин, да дорог! Со дня на день государыня утвердит устав нижегородской купеческой компании. Распорядилась отпускать детей купеческих в заграничное учение. Слышишь: ку-пе-чес-ких! А ежели вострым умом проткнешь завесу годов, постигнешь, что власть помаленьку утечет от земли к деньгам. Гоже ли нам, Каржавиным, сиднем сидеть?! Негоже! Под лежачий камень, сам знаешь… И вот еще: мы, купечество, державу в гору подъемлем, а шапку ломаем перед каждым пустельгой, который при шпаге…
Слушал сын серьезно, это было хорошо. Нехорошо было, что слушал холодно. Похоже, душа Федора отнюдь не ликовала от этого «перетекания» – весьма, впрочем, неприметного – одной власти в другую.
Василий Никитич сам прочел и сыну на подушку положил философический роман из русской жизни с нерусскими именами в заглавии – «Письма Эрнеста и Доравры». Здешнего, петербурского сочинителя. Сообщил, словно подмигнул: этот господин Эмин – сослуживец и благоприятель твоего любезного дядюшки. Понимай, значит, так: романное у господина Эмина не чуждо и Ерофею Никитичу.
Не чуждым, понял Федор, была некоторая близость романиста к духу Руссо, к «Новой Элоизе». Да вот разница высветилась: превознося свободу негоциации, сочинитель отвергал капитальное у Руссо – чтоб все было общественное. Глумливо отвергал: мысль, мол, совершенно циническая… Гм, не чуждо и Ерофею Никитичу? Отец был прав. Дядюшка чтил Жан-Жака, высоко ставил, но как раз в этом пункте заминался и спотыкался. А он, Федор…
Промолчать бы сыну, промолчать. Нет, преступил границу: сия мысль, батюшка, мне свет в окошке, звезда в небе.
– Красно глаголишь, – с грозным сожаленьем в голосе ответил Василий Никитич, – красно, да глупо. Все для всех – это ничего ни для кого. Это… это дух святый.
Они молча смотрели друг на друга, будто грудь с грудью сошлись. И легла тишина, такая тишина, что мыши в подполе замерли.
Василий Никитич темной кровью налился, желваки напряг.
Сплыли годы, как ладожские льдины, истаяли годы, как петербургские дымы, а февральская поземка десятилетней давности курилась, курилась, курилась. Мясничья рожа. Тайной канцелярии служитель, батально рыкал, будто редут брал… В крепости Петра и Павла пуговицы, срезанные с кафтана, щелкали о каменные плиты… Старичина унтер, дуб мореный, шамкал под скрежет ржавого засова: «Здесь келья – гроб, дверью – хлоп»… Сплыли годы, истаяли, но нет, не выросла трава забвенья. Кто не был, тот будет; кто был, тот не забудет.
Дети – вот казнь наша. Не ровен час, с твоим кровным, с плотью от плоти злосчастье повторится. Нынче заграничное ученье не возбраняется, а завтра, глядишь, и такое лыко в строку; нынче книжники в чести, а завтра побьют каменьями; нынче циническую мысль этого самого Руссо твердит, как «Отче наш», а завтра рябой Малафеич брякнет пыточным железом… Дети, дети, вот она, казнь наша…
И знобко думалось Каржавину-старшему.
Ерошка скорбит: ужель его старанья прахом пойдут? А его, Василия Никитича, застеночные муки, ужас при известии о Фединой болезни, это все для чего, зачем? Для чего и зачем Василий Никитич данником у г-на Шешковского, как у хана ордынского? Для чего и зачем дом г-ну Шешковскому своим коштом поднял на окраинной, тихой Коломне? Для того, выходит, чтобы родной сын предал родного отца! О-о, не только отца – сословие; не все поголовно, а самых разумных, тех, кто у него, первой гильдии Каржавина, в союзниках.
Так с непереносимой, жгучей обидой, с гневом, распиравшим горло, думал Каржавин-старший, напрочь перечеркнув то, в чем прежде себе признавался: все претерпел и все терпит не токмо ради сына, а ради себя. Но сейчас, когда сын, не потупливаясь, в бунте своем, в молодой гордыне своей смотрел на отца, на отцовские седины, Василий Никитич слова ронял, будто бабу-снаряд на сваю: из-за тебя, из-за тебя в кабале… «Батюшка, милый батюшка», вдруг прерывисто выдохнул Федор и облился слезами. Впервые так пронзительно вообразилось все, пережитое отцом в зловещей крепости Петра и Павла.
Без вины виноватость гнет подчас сильнее вины. Клонясь долу, клонился Федор к смиренью. А дядюшка Ерофей правоты за Каржавиным-старшим не усматривал. Когда он, Ерофей, заеденный парижской нуждой, едва не наложил на себя руки, Василий Никитич отписал, усмехаясь: в тебе, Ероня, страсти сильнее рассудка. Так ли, нет, да вот он-то, Ерофей, никого никогда не неволил. Федя ж в капкан попал, бьется, бедненький. А ведь не скажешь так: друг мой Теодор, батюшка и с тебя желает получать проценты, ты ему вроде капитала о двух ногах, перестань терзаться, у каждого своя стезя, не зарывай талант в мешок с деньгами… Не скажешь, а надо бы. Ерофей Никитич отводил глаза. И молчаньем своим выпрямил он племянника. Ну нет, тысячу раз нет, не станет конфидентом отца своего, не нужен Федору телец златой.
Опять налился темной кровью первой гильдии Каржавин, тяжело дыша, как топором отрубил: «С глаз долой! Попляшешь! Согнет беда в бараний рог, не вздумай простирать руки. Ты – сын блудный, не отец я блудному сыну».
Все в доме ходили точно в воду опущенные. Мать косилась на сына, как на отступника. Только Лизонька, сестрица, похожая на Лотту, украдкой поцелует в плечико и шмыгнет мимо. За семейным столом не было Федору куверта, места не было, кормили его отдельно, как зачумленного.
Сдается, не без потачки г-на Шешковского помешал Василий Никитич поступить сыну в петербургскую службу. Опредилили Федора учителем в семинарию при Троице-Сергиевой лавре, что под Москвой. Таил Василий Никитич злую надежду – изведется неуломный Федька монастырщиной – кинется в ноги, а Василий Никитич и бровью не шелохнет.








