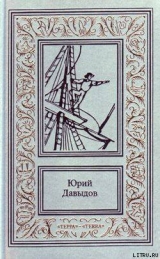
Текст книги "Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
5
Он был уж в чине генеральском – действительный статский советник. Генеральство приосанивает, укрупняет жест и поступь. А г-н Шешковский пребывал в консервации. Тот же мышиный кафтанчик, застегнутый тусклыми оловянными пуговицами. Не ходил, а скользил, как жук-плавунец. Кончиком языка быстро-быстро, как ящерка, трогал сухие губы. Бледен был, изможден, будто сейчас из подземелья. А таинственной важностью веяло пуще прежнего. Захотелось хоть в чем-то ущучить его, осадить. Ничего лучшего не подвернулось, как напомнить о Поле Джонсе: подлый-де заговор против честного человека.
– Жонес? – Степан Иваныч просыпал дробный смешок. – Пустое. Не тут заговор… – Он пальцем круг провел, как бы очерчивая Тайную экспедицию. – А там, – он пальцем через плечо ткнул, будто сквозь стены крепости Петра и Павла.
– Так уж и за-го-вор, Степан Иваныч? Матушку пужаете, и только.
За спиной г-на Шешковского стояла императрица, по краю позолоченной рамы вилось: «Сей портрет величества есть вклад верного ее пса Степана Шешковского».
– Как можно государыню пужать? – он укоризненно покачал головой.
– Всех пужаете, всех, а вот Гаврила Романович не поддался.
Шешковского передернуло.
Объясню, в чем, собственно, дело.
Был такой сибирский наместник Якоби (или Якобий, не помню). На него поступил донос – дескать, лихоимствует. В Сенате заварилась свара: одни выгораживали – невиновен; другие напирали – виновен. Шешковский по каким-то своим соображениям топил этого Якобия. Екатерина повелела сенатору Державину дать заключение. Шешковский пустился внушать Гавриле Романовичу, какое именно заключение ожидает государыня, он, Шешковский, завсегда осведомлен. А Державин взревел: слушай, ты меня со стези истины не совратишь, и не стращай, не стращай ты меня чрезвычайной к тебе доверенностью государыни… И еще, и еще, все грозней. Поперхнулся начальник Тайной, попятился.
Знаменательно: действие сенатской экспедиции встретило противодействие сенатора. И знамение: тайной полицейщине воспротивился п и с а т е л ь. Крепко и злобно засело это в мозгах г-на Шешковского. Его и передернуло при имени Гаврилы Романовича Державина. Вздохнул он и выдохнул: «Эх, судырь…»
Ну, думаю, сейчас он, как в пятьдесят шестом, заведет про «сложности» секретной службы. Оказалось, нет, о другом скорбел. Молвил печально:
– Мука гложет.
– Ой ли?
– А вот и не «ой ли», – приобиделся Степан Иваныч, и не то чтобы лично, а вроде бы служебно. – Как девки-то поют: «Во лесочке комарочков много уродилось». Уродились и такие – желают наставлять мужиков и мещан. К чему? – спросишь. Отвечаю: к околичностям. Каким? – спросишь. Отвечаю: осуждать утвердившееся правление. Людишки-то наклонны к буйству, а Вольтеры, поджигая своевольства, последствий не предвидят. Звон, парижская чернь стекла бьет!
(Шешковские завсегда на «Вольтеров» валят, от них, мол, все пагубы. Иди толкуй Шешковским, что сперва возникает «дело», те или иные жизненные условия, обстоятельства; возникнув, отзываются словом. Вторичны они, «Вольтеры»-то, вторичны. Скажешь: Емельян Иванович Пугачев не из чернильницы взметнулся. Г-н Шешковский удивится величанию «злодея Эмельки» (через «э» произносил почему-то) именем-отчеством и ответит: наущенье было, словесное прельщение. Ты ему о подрядчике Долгово, о мужиках-челобитчиках, что приходили к Зимнему, он и этот пример первичности экономики отвергнет: «Сговор был. В челе любого возмущения – слово, судырь ты мой» (35).)
Он помолчал, потом спросил как бы без связи с предыдущим:
– Нашего анику-воина знаешь?
– Какого?
– А обера полицеймейстера.
– Кто его в здешней местности не знает.
– Вот, вот, – согласился г-н Шешковский. – А намедни Никитушка подписку ото всех домовладельцев отобрал: так и так, обязуюсь за три дня извещать полицию, когда в моем владении пожар приключится. Смеха достойно, однако… Ты вникни: за три дня, а сие…
На колокольне Петра и Павла тяжело, но не звонко и твердо, как в стужу, а по-летнему, словно в большую подушку, ударили куранты.
– Смех, судырь, упраздни, – продолжал г-н Шешковский. – На меня господь беремя возложил: загодя извещать о пожаре, имеющем быть в державе. А ты заладил: «пужаешь, пужаешь…» Меня пужают, вот что, ме-ня! – Он огладил бумаги, белевшие на алом настольном сукне. Огладил и ласково поворошил, беззвучно шевеля губами, как это делал он, читая наизусть акафист Иисусу Сладчайшему. Но вслух повторил строго: «Не я пужаю – меня пужают».
На столе держал Степан Иваныч копию постраничных замечаний государыни к радищевскому «Путешествию»; «выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства»; «противу двора и придворных ищет изливать свою злобу»; «давно мысль ево готовилась ко взятому пути, а французская революция ево решила себе определить в России первым подвизателем»; «до протчих добраться нужно, изо Франции еще пришлют вскоро».
А всю копию не показал. Заметно было, кого-то или чего-то дожидался: в окна посматривал искоса, ножками (и по летнему времени валяные сапожки) елозил, вставал и скользил из угла в угол, руки сцепив за спиной и с какой-то подленькой шаловливостью поводя лопатками.
Нет, всю копию предъявлять не стал. А это вот повторил трижды и всякий раз с иным оттенком: задумчиво – «До протчих добраться нужно»; словно заклинание – «До протчих добраться нужно»; и вдохновенно – «До протчих добраться нужно». А потом, отзвенев замысловатыми ключами, извлек из потайного ящика книгу в багровом мягком сафьяне – «Реестр решенным делам по Тайной экспедиции». Утвердил на сафьяне указательный палец:
– Господа сочинители сюда просятся. Даст бог день, даст и сочинителя. И несть тайны, иже не явлена будет. Одного из Франции уже прислали. Издаля, однако, веревочка вьется, подалее, нежели Франция. И-и, как еще подалее-то! Обвыкли Франция, Париж… А тут эвон, с того света…
Не приходилось гадать, в чей огород камешки. Ясно было, о ком он и о чем. И вот это «обвыкли» тоже понятно: Франция, Париж, как поставщики крамольного и крамольников, дело, можно сказать, привычное, обыкновенное, а «тот свет» – это уж Новый Свет.
Императрица свою мету выставила, свою цель: добрались до Радищева, бунтовщика хуже Пугачева, до прочих, кои Пугачева не лучше, добраться нужно. Степан Иваныч, оглядчиво примериваясь, нашел кандидата, по всем меркам подходящего, – в гуще Вольтеров возрастал, в гуще бунта возмужал. Ай да Феденька, Васькин сын!
Плавал в канцелярии жидкий сумрак, Степан Иваныч, г-н Шешковский, свечи зажег – медленно зажег, словно бы даже ритуально, и вдруг встрепенулся:
– Ага!
На дворе смолк стук казенной кареты, привезли Радищева.
6
Заглядывал в окна, как в душу, некто бледный в черной епанче. Каржавин отводил глаза, старался не замечать, но чуял неотступно: то была участь Радищева.
Лотте писал редко. Писал темными намеками, нетверд был на «линии» – подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.
Он писал – не домогайся моего доверия. Читать следовало: не могу я, не могу довериться бумаге. Она читала другое. И вспыхивала: твоя неоткровенность невыносима.
Писал – постарайся быть экономной. Следовало читать: боюсь лишить тебя последнего куска хлеба. Она читала другое. И гневалась: я не позволяю себе никаких излишеств, да и вообще всегда рассчитывала только на свои руки.
Он писал – не знаю, где окажусь к зиме. Читать следовало: даже ближайшее мое будущее в полутьме. Она читала другое. И мстительно парировала: черт побери, я могу уехать в провинцию, ну хотя бы в город Лан. (Оставалось лишь добавить: к Бермону.)
Положение Теодора ужасно? Да. Но ее, Лоттино, жестоко. Неизвестность хуже смерти. А Теодор опять молчит. Болен? Арестован? Умер? Нет, жив! Слава богу, жив. Как же понять это молчание? Чудовище!
Он пишет – очень желаю видеть тебя в России, да боюсь сделать несчастной, ибо супруге российского подданного могут воспретить возвращение на родину. Пусть так, отвечает она, одно твое слово – и я в пути. Он молчит еще несколько месяцев…
Сколь бы еще длилась эта мучительная неизвестность?
Вопросом задаюсь не риторически, а для того, чтобы подивиться, как сцепление множества обстоятельств и судеб, казалось бы не связанных ни с Лоттой, ни с Каржавиным, как такие сцепления опрокидывают мучительную неизвестность, и вот уж нечего откладывать – поезжай в Гавр, поднимись на борт корабля. И прощай, милая родина. Бог весть, увидишь ли Париж? При мысли о расставании навсегда слеза затуманила бы Лоттин взор, но слеза еще не навертывалась, ибо Лотте не дано было знать, какие нити бесшумно прядут богини судеб человеческих, усталые, дряхлые Мойры.
Ну скажите на милость, какое дело Лотте до того, что в Париже годами живет вдова полковника русской службы, убитого под Бендерами? Лотта знать не знает баронессу Анну-Христину Корф. Как не знает и графа Ферзена, баронессиного приятеля. Вот у того есть дело до нее, но опять же ничем с Лоттой не соотносящееся.
Положим, Лотте, подобно большинству французов, совсем небезразлично, удерет или не удерет король из столицы королевства – его отшествие за границу означало бы, по общему мнению, европейское нашествие на Францию. Но опять-таки, скажите на милость, какое все это имеет отношение к Лоттиной мучительной неизвестности?
А между тем и баронесса Корф, и граф Ферзен, любимец королевы, и русский посланник Симолин, и христианнейший король Людовик – все они совершают поступки, среди бессчетных последствий которых есть и такая иголка в стоге сена, как Шарлотта Рамбур-Каржавина, пассажирка корабля «Сюперб».
Вот, извольте, ниточка с узелками.
В первых числах июня девяносто первого года граф наносит визит баронессе. Он заводит речь о паспортах, необходимых для путешествия за границу. У Анны-Христины нет желания вояжировать? На дорогах рыщут шайки взбесившейся черни? Паспорт, объясняет граф, почтительно наклонив голову, паспорт нужен высоким, очень высоким особам. И пристально смотрит на баронессу. Ах так! Баронесса понимает графа. И быстро соглашается. Больше того, обещает и свою лепту: ей, бедной вдовице, ничего не жаль для столь восхитительного вояжа.
Г-жа Корф обращается не в дом Леви на рю де Граммон, где находится русское посольство, а в особняк на Босс-дю-Рампар, где уединенно живет русский посланник.
Его лисье личико иссушено пламенем свечей – действительный тайный советник пишет в Петербург пространные донесения. Но сейчас, отложив перо, он внимательно и благожелательно выслушивает посетительницу. Только выслушивает, нимало не обращая внимания на ее внешность. (Правду сказать, не отмеченную красой.)
Итак, баронесса с домочадцами желает получить паспорта? Похвально. Намерение ее императорского величества клонится к тому, чтобы русские подданные оставили пределы чудовищной смуты. Он, Симолин, не замедлит снестись с г-ном де Монмореном, ведающим внешней политикой Франции.
Знал ли, догадывался ли старый лис, партнер королевы за карточным столом, каков «расклад», – этого и теперь наверняка не скажешь. Как бы ни было, спустя несколько дней баронесса Корф из рук в руки передала графу Ферзену два паспорта: она, двое детей, слуги отправляются во Франкфурт. И, передав, вознесла молитву горячую, искреннюю: боже милосердный, царь небесный, спаси, помоги, укрой, вызволи.
Укрыть-то укрыл: темная, душная, беззвездная была ночь с понедельника на вторник, когда громадная, тяжелая карета, словно бы никуда не торопясь, двинулась к одной из застав Парижа. Но, едва миновав заставу, понеслась во весь опор.
Впереди бешеная скачка, клубящая тонкую белесую пыль дорог Шампаньи, палящее, безумное солнце, страх погони, ожидание встречи с верными гусарами, оказавшимися неверными.
Впереди почтовые станции, надо перепрягать лошадей, у вояжеров паспорта в порядке, но есть что-то подозрительное в толстом носатом увальне, слуге баронессы, да и в самой баронессе тоже, вот хоть эта вислая губа, точь-в-точь как у королевы.
И опять дорога, опять бешеная скачка, палящее, безумное солнце, станции, городки, средь прочих Варенн, речка и мост, а на мосту поперек телега – баррикада. «Ни шагу, или открываем огонь!» – горланят мужланы.
А там, в Париже…
Во вторник в семь утра в опочивальню Людовика вошел камердинер. Людовик не почивал. И не было во дворце ни королевы, ни королевского выводка.
В девять утра стекла Парижа дребезжат от пушечных залпов, облака над Парижем раскачивает набат, раскат армейских барабанов возвещает «общий сбор». Но велик ли прок бушевать у дворцовой решетки, если нет во дворце этой толстой свиньи?
И пушки, и набат, и барабаны слышала Лотта. И у дворцовой решетки была. Как и в позапрошлом году, на осенней дороге в Версаль, ощущала Лотта слитность, единство с согражданами, ощущала себя все той же вольной дочерью предместья, а сорванцы-гамены кричали: «Пропал король! Награда за находку!»
Вторник… Среда… Четверг…
Загоняя лошадей, всадники летят во все концы королевства. «Пропал король!»,«Ищите короля!» В пыли, под нещадным солнцем кони роняют серое мыло.
В пятницу, едва держась в седле, измученные курьеры прибывают в Париж: «Король схвачен!» А на другой день, в субботний вечер, когда багровое солнце, изнемогая от собственного жара, валится на кровли города, громадная, тяжелая карета, окруженная многотысячным мужицким конвоем, приближается к Парижу.
Париж встречает беглецов не криками гнева, не восклицаниями ненависти, не градом насмешек – молчанием. Слышен только храп коней да скрип колес. Национальные гвардейцы стоят шпалерами, ружейные дула опущены книзу, и это похоже на церемонию погребения.
Карета въезжает во двор Тюильри, дворцовые ворота смыкают высокие кованые створки. Король отрешен от власти. Он еще жив, но монархия уже мертва.
Арест Людовика возмутил монархическую Европу. Близился разрыв дипломатических отношений. А вместе и конец череде событий, пересечение и сцепление которых упразднило мучительную неизвестность – подниматься Лотте с места или оставаться Лотте на месте.
Опасаясь разрыва дипломатических отношений, чреватых разрывом семейных уз, и ни о чем больше не помышляя, она скоропалительно обратилась в посольство. Ее просьбу удовлетворили не мешкая.
7
Двенадцать белых коней влекли колесницу с прахом Вольтера. Шли национальные гвардейцы, депутаты Якобинского клуба, коллежей, ученых обществ, шли санкюлоты с пиками, на пиках реяли вымпелы: «Из этого железа куется свобода!» В ларце, похожем на ковчег, несли книги Вольтера. И несли камень Бастилии, обломок самовластья. Париж погребал в Пантеоне прах великого писателя (36).
То было последнее, что видела в Париже Шарлотта Рамбур.
Несколько недель спустя трехмачтовый «Сюперб», прибывший из Гавра, положил якорь на кронштадтском рейде. Пассажирам, следующим в Петербург, надо было дожидаться пакетбота, и они перебрались на пристань. Баржи с гранитным ломом разгружали клейменые каторжники. Окаянный лязг кандального железа, отвергнутый землей, отвергнутый и небом, зависал в полуденной духоте (37).
То было первое, что увидела Шарлотта Каржавина в отечестве своего мужа.
Глава двенадцатая
1
Его жилье напомнило Лотте парижские антресоли, где девочка угощала мальчика пирожками; Лотта печально недоумевала: мое «я» при мне, но куда же девалось то, что было моим «я» десятилетия назад? В такие мгновения внезапно осознаешь долготу прожитого и словно бы вчуже, со стороны, улыбаясь растерянно, смотришь на себя прежнего, как бы отслоившегося от тебя нынешнего.
Но у Лотты не было времени предаваться печалям – ей надо было домиться, обзаводиться хозяйством: бедный Теодор обитал в холостяцком запустении. Да ему вроде бы ничего и не требовалось, кроме склянки чернил, стопки бумаги и книг, помеченных красными и черными штемпелями – знаком собственности, для него бесценной.
«Ведомости» сообщали о происшествиях на берегах Сены. Журнал «Парижские революции» Каржавин покупал в лавке Редигера на Миллионной. Новиков посылал из Москвы «Политический журнал». В письмах Лотты выискивал Каржавин не только подробности: письма были зеркалом простолюдинки. Он посмеивался: «Я создал ее из ребра своего». Лотта привезла тюк парижских тиснений – таможенной цензуры тогда еще, слава богу, не было.
Пищи духовной хватало. Каржавин испытывал потребность преломлять хлеб свой с согражданами своими. Потребность сиюминутную. Нечего ждать, когда типографский станок примет итоговый трактат. Кто-то из древних сказал: малодушие лежать, когда можешь подняться. Истина нестареющая?
Светло, счастливо помнил он летний петербургский день: люди братски обнимались на улицах. Горожане стали гражданами. Они вышли из-под глыб павшей Бастилии. И какая возгорелась жажда чтения! Дворовые, ремесленники, лоточники в складчину подписывались на газету. В кабинетах для чтения мухи уже не дохли со скуки – у Овчинникова в Аничковом доме, там же при лавке Сопикова, у издателя Туманского в Большой Коломне… Федор Васильевич радовался тяге к печатному. Уж не исток ли филадельфийских вечеров «Сынов свободы»?
О, время! Мечта ведет за руку. Действие. Ну, так действуй, Федор Васильевич! Действуй, Каржавин – Лами – Бах, исполненный русским неунывающим духом.
Он в Петербурге, Лотта в Париже хлопотали о шрифтах, о покупке оборудования; хлопоты потерпели крушение; собственная типография оказалась не по карману. Никнуть, пока не раздобудешь денег? Э нет, впрягайся в другие упряжки. Сие не возбраняется, возбраняется бездействие.
Хроника событий, пусть истолкованных вкривь и вкось, хроника французских событий попадает на глаза читателям. Простим дворец славному Бомарше – он выдал в свет семьдесят томов сочинений Вольтера. Императрица переписывалась с Вольтером – императрица запретила Вольтера. Высочайшая цензура! А есть рогатка и полицейская. Полицианты на один салтык: «Никогда на чтение книг себя не употребляю». Унизительна зависимость от дубины. Но не слаще и зависимость от куратора университетского. Невежда иногда попустительствует; по добродушию ли, по лености ли «употреблять себя», но попустительствует, а умнику подозрительна мысль изреченная уже по одному тому, что кто-то посмел и сумел изречь ее.
Надо не только сметь, надо и уметь. Каржавин повторял старинную шутку: совершенный литературный стиль – искусство сказать все, что думаешь, и не поплатиться за это Бастилией. Прекрасно! Но т а м с Бастилией разделались. А з д е с ь тверда твердыня Петра и Павла. Как быть? Пускайте стрелы, советовал Вольтер, а руки не показывайте. О, воскликнет догадливый читатель, рабский язык Эзопа! Да. И все же эзопов язык помогает рабам осознать свое рабство. Осознавая рабство, раб уже наполовину не раб.
Каржавин пускал стрелы. Он изощренно пользовался сложной системой намеков, аллегориями, псевдонимами, ложным обозначением места издания. Он не забавлялся игрой в мистификации; он принимал правила игры, навязанные извне. Переводами с французского, компиляциями с английского снискивал себе пропитание и питал тех, кто не знал языков. Не стану уверять, будто так уж необходимо тотчас бежать в библиотеку, в отдел редких книг и отыскивать пожухлые каржавинские издания, но тогда, в те годы… Надо было жить в те годы, чтобы воздать должное этой неустанной работе (38).
2
Когда Лотта приехала в Петербург, ее муж корпел над примечаниями к «Персидским письмам» Монтескье. Этот Монтескье, сердито подумала Лотта, не жил небось в таком запустении.
Постепенно обыденные хлопоты не то чтобы наскучили Лотте, а получили какую-то машинальность, словно хлопотунью одолевали недоумение, растерянность. Она чувствовала мужнин холод… Нет, не так, пожалуй… Теодор был «ровный». И эта «ровность» была едва ли не зловещей. «Господи, неужели Бермон?» – однажды подумала Лотта и тут же отвергла свою догадку: прошлогодний снег!
Но то, что казалось ей прошлогодним снегом, поднимало в душе Каржавина ненависть, и эту ненависть, муку свою он скрывал под «ровностью».
В Париже он был доволен: «Время страстей прошло». Теперь, стиснув зубы, признавал правоту древних: люта, как преисподняя, ревность. Он фальшиво усмехался – экая дичь в век здравого смысла! Но здравый смысл убивала не только ревность, но и тайное, невесть как возникшее, убеждение в своей телесной малости по сравнению с этим Арт. Бермоном.
В иные минуты Федор сожалел, что отыскал Лотту. Ей было бы лучше, думал Каржавин, она была бы счастлива с Бермоном. В его сожалении было и великодушие, и желание избавления от Лотты, что, в свою очередь, было бы избавлением от «преисподни». А вместе с тем – пойди пойми – Федор нипочем не согласился бы, что его любовь к Лотте давно шла на убыль.
Каржавин не представил жену родственникам, ссылаясь на ужасные отношения с маменькой Анной Исаевной, братцем и сестрами. Оно так, да тут и другое: чего представлять-то, коли близок разрыв?
А родственные отношения и вправду были хуже некуда. Дело о наследстве тянулось. Федор предлагал делить поровну. Маменька и братец Мотька стояли насмерть – ни рубля замужним кобылицам, Дунька с Лизкой приданое получили. Сестры, громко проклиная Анну Исаевну и Мотьку, втихомолку кляли и старшего брата – какого-де рожна вернулся, а не пропал навсегда за морями за долами. И вдруг взорвалось все как шаровая молния.








