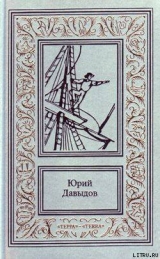
Текст книги "Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
5
Возвращались пешком.
Пересекая улицу, не угоди в сточную канаву. Щеголь оскользнулся и вот уж трясет манжетиной, брезгливо морщась на заляпанные башмаки. Смех! Колеса кареты мечут комья грязи, а парижская грязь хуже кислоты разъедает обувь и одежду. Не до смеха! Знай увертывайся. Утихнет гром кареты, услышишь скрип вывесок, вторящих голосу ветра: вывески качаются на кронштейнах. (Были и такие: «Окулист для глаз».) Услышишь не только скрип, но и вонь: Париж терзает обоняние чадом салотопен, кожевенных мастерских, скотобоен. Разве что переведешь дух на берегу Сены, любуясь на ялики. Но что это? Шорох саранчи: спешат, спешат нотариусы, судейские и прочие чиновники. Мир стоит на трех китах? Басня! Мир стоит на контрактах и кадастрах, апелляциях и кассациях, дарственных и приговорах, претензиях и контрпретензиях… Как же не спешить урвать свой кус?! Шорох черных мантий, шорох белых бумаг. Для одного в этом звуке – пастораль золотых луидоров, для другого – скрежет ворот старинной долговой тюрьмы, проклятой Фор-л'Эвек, куда сажают банкротов, а дабы не скучали, сажают и провинившихся в чем-либо актеров.
Смеркается, вечереет. Ерофей Никитич убыстряет шаг. На стражников он не надеется: ночные дозоры, известно, появляются либо до грабежа, либо после грабежа, но в минуту разбоя – шаром покати. Дядюшка убыстряет шаг, а племянник делает вид, что устал донельзя, – Феденька медлит нарочно: страсть охота поглазеть на вечерний Париж.
У, круговерть!
Сломя голову несутся кабриолеты, берлины, коляски-визави. И вдруг – затор, водоворот. Никто никому не желает уступать дорогу. Ни министру, ни епископу. Хаос постромок, оглобель, задранных лошадиных морд; надсаживаются полицейские, кучера бранятся, зеваки хохочут. И так же внезапно, не сообразишь, каким манером, но вот все сдвинулось, все ринулось – и опять скоком, и опять сломя голову… У освещенных театральных подъездов – толчея; первые партии в трик-трак в трактирах; в танцевальных залах первые такты кадрили. Кадриль не отплясывают, о нет, кадриль вершат с такой глубокой серьезностью, с какой не вершат и судьбы Европы.
Основательный Ерофей Никитич не одобряет этих парижан:
– Лягушки-квакушки!
Версальские вельможи, стараясь уловить парижские пересуды, настороженно усмехались: «О чем квакает наш добрый Париж?» Ирония Ерофея Никитича была иной. Не осуждая соль парижского злоречия, он усматривал в ней подмену ума остроумием. Ему претили прожигатели жизни, те, кто свою душевную черствость маскирует флером пикантностей, пусть и политических. Они зубоскалят над персонами, чьи титулы, адреса и приемные часы указаны в «Королевском альманахе», а на другой день пресмыкаются в дворцовых сенях, клянча должность или подачку. Они не прочь съязвить и насчет короля – у его величества ни единой черты величия, у его величества велик лишь градус сладострастия, а на другой день вопят: «Да здравствует Людовик Возлюбленный!»
В час, когда городские фонарщики умеряли яркость уличных фонарей, а небесный фонарщик удваивал яркость Луны, дядюшка и племянник видели седьмой сон. А может, и не видели, спали крепко, ибо не было у них сонника для разгадки сновидений.
Они не слышали предрассветный рокот, похожий на рокот морского прилива. А тот, нарастая, дробился на стук копыт и колес, катил, катил в сторону Крытого рынка: левиафан заглатывал горы провизии. А сумрачные старьевщики отворяли лари, огромные, как кладбищенские склепы. И вот уже наперекор здоровым деревенским запахам парного мяса, солений и копчений стлался, как крался, темный душок городского тлена.
Рядом с рынком и дальше, в улочках и проулочках, дымились жертвенники рассветного Парижа – большие посудины с подслащенным кофе. Выкладывай два су, пропусти кружечку и беги в кузнечную, столярную, кожевенную. На заставы беги или к набережной Сены – там всегда нужда в грузчиках, отравленных нищетой до полной покорности.
А савояров призывали трубы – безмолвно дымящие дымоходы Парижа. Деревянные башмаки-сабо выбивали дробь на лестнице. Еще четверть часа, и двери антресолей толкал старик водонос. Шелудивый песик семенил за стариком. Старик сказал однажды Ерофею Никитичу: «Если я его прогоню, то кто же будет меня любить?» – и, разведя руками, обнажил беззубые десны в ухмылке печальной и слабой.
Плеск воды из ведер, опрокинутых над бочонком, отзывался в душе Ерофея Никитича: «Если не будет Феди, то кто же будет любить меня?» Он поднимался и разводил огонь в камельке. Помешивая ложкой, разогревал вчерашнюю похлебку и думал о продолжении вчерашнего, то есть о рукописи, над которой трудился усердно и которая, как он надеялся, будет весьма полезной.
Россияне, залетев в Париж, пихали в сундуки вороха галантереи, охапки водевилей, выкройки последних фасонов. Пустельги! Ерофей же Каржавин сознавал свое назначение, никем не утвержденное. Именно он, Ерофей Каржавин, полагал себя посредником между учеными Парижа и учеными Петербурга. Он хотел, чтобы первые знали труды последних. На шатком, в кляксах столе лежала рукопись: «Заметки о русском языке и его азбуке»…
Так жили они в Париже, беды не чуя.
А беда близилась. Началось с того, что месяц, другой, третий не было ни писем Василия Никитича, ни денежных субсидий. Младший отписал старшему: дороговизна гнет в три погибели, пошто забыл нас, бедных? Ответа не последовало.
Стали жить в долг.
Но можно рукопись продать? Рукопись, удостоенную похвал Парижского университета, отвергли парижские типографы: надо заказывать русские литеры, без них учебник не учебник, а заказывать литеры – значит нести дополнительные расходы, не будучи уверенным в последующих доходах.
Барбо негодующе дудел:
– Проклятые скряги! Они мечтают держать Вольтера взаперти и без штанов, чтобы не сбежал. Работал бы день и ночь, а они платили бы ему несколько су. Любая мода может овладеть Парижем, но только не мода на бескорыстие.
Ерофей Никитич грустно улыбался: он, Каржавин, принял бы и такие условия – без штанов и несколько су.
Делиль рычал:
– Мой друг, вы, как тот поэт… Он просил у министра денежной помощи, а министр поднял брови: «Зачем она вам?» Поэт вскричал: «Сударь! Мне же необходимо существовать». Финансист отрезал: «Не вижу в том необходимости». Делиль фыркнул: – Как вам это нравится? Не скупость, нет! Хуже. Господин министр и впрямь не видел «необходимости»!
Ерофей Никитич скорбно поддакивал.
Академик Бюаш сердился:
– Издатели-мерзавцы, лишь бы руки греть. Ваш труд не пропадет. Но прежде надо озаботиться хлебом насущным, и я этим займусь, клянусь честью, займусь.
Ерофей Никитич печально кивал.
Бюаш, лично известный его величеству, ходатайствовал – мсье Каржавин достоин отправлять должность библиотекаря Королевской библиотеки. Не удостоили.
Парижские метры сочувствовали московиту, но не раскошеливались. Домовладелец, сочувствия чуждый, стращал выселением. Жилец просил: «A credit…»[2]2
В долг, в кредит (фр).
[Закрыть] Хозяин непреклонно вздергивал подбородок: «A bon droit…»[3]3
С полным правом, законно (фр.).
[Закрыть] – Ерофей Никитич прощально смотрел на свои книги. О, запах голландской бумаги, сафьяна эльзасской выделки… Ужель букинисту? Непереносимой была мысль об утрате «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». Как! Расстаться с детищем Дидро и Д'Аламбера?! Лишиться родников и светочей?! Прикидывал в отчаянии – не продать, а заложить? Пойти к ростовщикам… Они всегда сумрачны, всем своим видом внушают: наш промысел не из веселых, да ведь должен же кто-то спасать погибающих… Мысль о здешних, парижских гарпагонах соотносилась с мыслью о гарпагоне тамошнем, санкт-петербургском.
Ерофей и в Лондоне костил процентщиков. Это когда они с Василием Никитичем толковали о «генеральной коммерции». Старший настороженно спросил: «Кто таков Гарпагонов?» Младший объяснил: дают на театре комедию господина Мольера про скупца Гарпагона, пускающего деньгу в рост. Василий Никитич огрызнулся: я, мол, хоть и первой гильдии, а тоже процентщик, потому благонадежно; он, Ероня, в своем Париже в ус не дует, а ему, Василию Никитичу, хребет ломать: задарма из ямского сословия не выключат; вот тебе и гар-па-го-нов. И пусть этот… как, бишь, его?.. Пусть господин Мольеров лясы точит, вольному воля.
И все же Ерофей Никитич отвергал «гарпагонство» Василия Никитича. Ну хорошо, говорил, будь я один. Да ведь Федя! Феденька! У Васьки скулы дрожали: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка». Легко сказать: оставаться спокойным среди бедствий. Стоик Катон, твой совет неисполним.
Не знал Ерофей Никитич, что делать, куда броситься.
6
Не знал и Василий Никитич.
Заарестовали его в Петербурге, на Адмиралтейской першпективе, где квартировал он с фамилией.
(Одновременное пребывание автора в разных эпохах мстит эклектикой словаря. Примером, и вероятно не последним, вот эти «заарестовали», «першпектива», «фамилия». Наперед предполагая раздражение читателей, автор просит о снисхождении, заверяя притом в своей чуждости нарочитой стилизации.)
Процедуру лишения свободы вершил служитель Тайной канцелярии, эдакая орясина с диковинной фамилией Золототрубов. Отродясь пороха не нюхал, а тут, выпятив брюхо, сотрясал воздух батальными Иерихонами. Каржавинские бумаги укладывал в парусиновый мешок, как боевые трофеи. «Мясничья рожа», – мелькнуло Василию Никитичу.
Прощальным взглядом глянул он на жену, на детей, испуганно жавшихся друг к дружке, все вдруг померкло – будто горела свеча, да вот и насунули железный гасильник. Страшно стало, утратил он силы телесные, будто вся кровь из жил, утратил и силы душевные, будто душа отлетела.
Долго ли, коротко ли колтыхался крытый возок? Этого Каржавин сказать не сумел бы по причине едва ли не полного бесчувствия… Остановился возок, выпихнули арестанта на забеленный порошей двор, услышал он гром курантов – сплющило, словно кувалдой, побелел белее пороши.
В сводчатом помещении, сумрачном и гулком, шибало нечистым исподним, как в прачечных на Мойке. Какие-то оборотни, шишиги какие-то наскочили – щупают, шарят, раздевают, разувают… Он не противился, он повертывался, вроде бы торопился невесть куда. Щелк, щелк, щелк – падали пуговицы, отчекрыженные от кафтана. И вот уж, будто крюками зацепив, поволокли в каземат.
Старик унтер, дуб мореный, ухмыльнулся:
– Здесь келья – гроб, дверью – хлоп.
Мрак и стужа ознобили Василия Никитича.
Известна мыслишка новичка-колодника: сейчас поймут, что ошиблись, и дверь нараспашку – ступай, брат, домой, не поминай лихом, и на нас, брат, бывает проруха.
И точно – нараспашку! Шурхнула прелая шинелишка, шмякнулись разбитые сапожонки. Помедлив, Василий Никитич облачился в эту рвань да и сам будто в рухлядь обратился. Неверной рукой нашарил каменную осклизлую скамью, лег, подобрал ноги, подвернул полу шинельки. Помаленьку угреваясь, привыкая к темноте, усердно пригласил самого себя: разум-то собери в горсть, из малых ребят давно выбрел.
Собирая, выставил вопрос: не взят ли по делам раскольничьим? Помилуйте, давно уж отщепился от древлего благочестия, в потаенную молельню близ Сенной ни-ни… Не туда пялишься, сказал себе, на Гостиный двор оборотись – на одного доброхота по семи завидников. Перебирая недругов, примеривался к каждому поочередно. И ни единого, если по совести, не счел злодеем-доносчиком. Да и чего доносить? Языку воли не давал, мысли держал взаперти. Точь-в-точь как его самого держали теперь в крепости Петра и Павла. Ах, верное присловье: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
И так и этак прикидывал, пока не озарился надеждой. Меж прочих бумаг забрали в Тайную и проект генеральной российской коммерции. А Тайная, пусть и страшней сатаны, блюдет государственный интерес. Стало быть, какой бы ни был навет, а он, Василий Никитич Каржавин, предстанет словно бы в белой ризе.
Перед кем, спрашивается, предстанет? И тут другая надежда высветилась. Василий Никитич пуще ободрился, вообразив давнее, московское – дом близ Арбата, куда волею отца своего носил он барашка в бумажке… Нынче этого не понять. В наше время кто рассчитывает на знакомства? Каржавин рассчитывал.
7
Неохота встречаться с г-ном Шешковским, а ничего не поделаешь, надо. Ходить недалеко – он здесь, в крепости Петра и Павла. Но не в равелинной темнице, а в своей канцелярии, где стелется тяжелый дух секретного делопроизводства – сургуча и свечного нагара пополам с паленой человечиной и сырых от крови опилок.
Был Степан Иваныч тщедушен, ростом мал; выглядел изможденным, будто сейчас из подземелья. Но этим мозгляком владело могучее, как похоть, желание – изобличать. Повторял как заповедь: «Несть тайны, иже не явлена будет».
Отец его, бывало, плакался: «Ох, всеконечная моя скудость, дневной пищи не имею». Подвизался отец в московских приказах. Прытче всего в Ямском. Ямскую гоньбу отправляли раскольники. Тверезые и смекалистые, они нередко выходили на торговую линию. А как стряхнуть ямскую повинность? Тащи барашка в бумажке. Тащили. В числе прочих и Каржавины.
Шешковский-отец, плачась о пропитании, поставил близ Арбата каменный дом. А детушек ставил на ноги. Степку совсем еще отроком сунул в хомут службы. В канцелярии розыскных дел побегушки да колотушки? Зато местечко, как нынче бы выразились, перспективное. Поначалу, значит, синяки и шишки, а потом уж пироги и пышки.
При Петре сыск вершил Ромодановский. Царь, случалось, жучил его: полно с Ивашкой Хмельницким знаться, быть роже драной. Ромодановский обижался: некогда, государь, винище дуть, беспрестанно в кровях омываемся… Копиист Степка Шешковский пером скрипел уже при генерал-аншефе Ушакове. Этот тоже не росой омывался. Потом Тайную канцелярию принял Шувалов. Его сиятельство благоволил Шешковскому-старшему, вняв просьбе, мановением перста переместил Шешковского-младшего из Москвы в Санкт-Петербург.
На Мойке, в доме близ Синего моста, у его сиятельства сновал Степушка часто. Год, другой – радость: «Во исполнении важных дел поступает добропорядочно и ревностно, почему и достоин он, Шешковский, быть протоколистом».
Медленно сплывали воды Мойки, а Степушка ходом шел – возвысили его в секретари Тайной канцелярии. Что сие значило? А то, что забрал он в кулачок весь имперский сыск. И не то чтобы формально, а натурально.
– Легко ли, сударь, – вздохнул Степан Иваныч и повел плечом, оправляя мерлушковый полушубочек внакидку; казна дров не жалела, но г-н Шешковский мерзляк был. Оправив полушубочек, опять вздохнул: – Прошу взять в соображение, каково достается.
В «соображение» следовало взять следующее.
– Прежде, судырь, каждый волен был донос отписать, а нынче опаска берет, ибо за ложный извет – плетьми: «Имей впредь осторожность!» Грех на ближнего возводить напраслину, однако и без доносов хоть плачь… Прежде, судырь, стращали Тайной, а нынче запрет поминать ее всуе. Худо, когда у добрых людей костенит язык, а не хуже ль, когда язык-то лопочет, что хочет, чего не хочет, и то лопочет… Еще одно, судырь. Прежде не вникали, какое оно, дело-то, – все сюда, в Тайную. А нынче? Которые неважными сочтут, тем в губернии разбор, из чего, судырь, проистекает неустройство, то петь нерадения и упущения, а мне-с за всех ответ держать перед господом богом и государыней моей, да-с… – Он грустно покачал головой, будто сам себя жалел.
Прежде, когда начинал он службу, каралось только деяние, а теперь, при царице Елизавете, карался и умысел. Деяние-то и олух узрит. А умысел не звезда во лбу – по запаху угадай… С какой-то анафемской ловкостью спрыгнул он с креслица и вытянул указательный палец:
– Оне не могут, а я могу. Могу! – И кулачком, кулачком по стене – за стеной корпел штат всероссийского розыска, всего-навсего шестнадцать душ: копиисты, протоколисты, регистраторы, архивариусы.
На столе – сукно алое, синего фарфора чернильница, канделябр серебряный – белел на столе лист, исписанный крупно, а заголовок и вовсе вершковыми буквами: «Вашего императорского величества к подножию всенижайший и последнейший раб с искренним благоговением и подобострастием полагаю доношение».
Степан Иваныч проворно убрал бумагу.
– Каждый, кто служит в Тайной, – строго сказал г-н Шешковский, – обязуется держать в секрете, что видит, что слышит, что знает.
– Понимаю. А между тем вот это… Вот это напечатают.
– Чего? – он коротко, сухонько рассмеялся, как горох из кулька. – Никто не дозволит.
– Время дозволит!
Он опять рассмеялся, слезинку смахнул.
– Пущай, коли делать нечего.
– Но, согласитесь, шпионством и не пахнете – сказал я, сознавая бессилие апелляции к историческому возмездию.
– А богохульством? – Он мелко перекрестился. – А поношением государыни? – Он еще раз перекрестился. Объяснил назидательно: – Поношение иностранных государей есть неосторожность, не относящаяся к деяниям вредным и важным, посему подлежащее разбору в губернии. А тут?! – Г-н Шешковский трижды брякнул бронзовой дужкой потайного ящика. – Тут, судырь, всемилостивейшей государыни нашей, дщери Петра Великого, отца отечества! – И г-н Шешковский перст воздел.
Будто повинуясь его жесту, там, на дворе, высоко ударили куранты. «Осанна державе», – изрек секретарь розыскной канцелярии. Экая сволочь, подумалось мне, ведь совсем иные звоны слышит.
– А на Москве благолепнее, – сказал я, как бы заходя с тыла.
– Да-а-а… – Он покивал. – Бывалоче, ко всенощной в Ризположенскую.
– Я не о том.
Он кончиком языка лизнул губы. И посмотрел вопросительно – о чем, дескать, изволите?
– Все о том же… – Я опять показал глазами на ящик с «доношением». – Каржавины-то – земляки ваши, вот что. И с колодником, заарестованным на Адмиралтейской першпективе, вы знакомы. В Москве еще. И не только деньгами Каржавины от вашего батюшки откупались, а и лесом. Дом-то каменный ставили, но без дерева не обойтись.
– У-у… Ну, так, так. А что из того, судырь? Присяга мне всего на свете дороже. Службу служить, душой не кривить. Клятвенное обещание дадено – не щадя живота своего, до последней капли крови.
Я это мимо ушей, я ему седьмой пункт царицыного указа – о взятках: «Ежели кто хоть в малом чем обличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, ибо, яко вредитель государственных прав и народной разоритель, по суду казнен будет смертию».
– Э-э, старые дрожжи чего поминать, – осклабился г-н Шешковский.
Опять он прав был: грозные указы против лихоимцев – кимвал бряцающий; пожалуй, ни один закон не обходят с такой естественной, всем понятной и приятной легкостью, как именно закон-то, воспрещающий взяточничество; поначалу, правда, подожмут хвост, а невдолге и распустят бойчее павлиньего.
Но, спрашивается, где же они, наши-то домашние правдолюбцы? Помню Михайлова, сенатского канцеляриста: неутомимо извещал начальство о тех, кто на руку нечист. И что же? Угнали в полунощный край, дабы «своими дерзкими словами глупостей не мог наделать». Или вот отставной поручик Ампилонов, в Нижнем жил, тоже обличитель и тоже, как и Михайлов, отправился созерцать северное сияние. Не велик труд и других назвать, да больно уж грустно.
– Не в силах ты, судырь, переменить черед событий, – победительно заключил г-н Шешковский и поплыл в богомерзкой ухмылочке.
8
В тот же день Василия Никитича призвали к г-ну Шешковскому.
– Здравствуй, Каржавин. Прошу со вниманием слушать… – И пауза: донеслись стенанья, в пытошной камере орудовал рябой Малафеич. Печально вздохнул Степан Иваныч: – Деяния твои, Каржавин, известны, запирательство твое, Каржавин, тщетно. Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет.
– Единственно о державе, – прошелестел Василий Никитич.
– Слушай со вниманием, – повторил секретарь Тайной канцелярии, веером распуская по алому сукну белые листы доношения, но сказал о других бумагах, о каржавинском проекте заморского торга: – Читал. Одобряю. – Изможденное лицо его приняло мечтательное выражение. – В бо-ольшую разживу воспарял, да вот, соколик, пришла беда, отворяй ворота. Верная пословица. И другая тоже: любишь кататься, люби и саночки возить. От речей тебе, брат, никуда не деться. А речи здесь такие: пытошные и расспросные, то исть окромя Малафеича которые. Выбирай! Выбор предоставляю, как-никак мы с тобою… Кому другому нипочем бы мирволить не стал, а тебе… Ах, Москва, Москва-матушка… Совсем молоденький ты был, совсем молоденький…
– Единственно о державе, – начал было Василий Никитич, но г-н Шешковский окрысился: «Молчи, дурак!»
– Решенье мое разумей, – продолжил он тихо и даже с некоторой сладостью в голосе. – Ворочайся в келию и припомни город Лондон. Ты в Лондон-то езживал в котором годе? И сыночка воровски умыкнул… В котором годе, ась?
– В пятьдесят втором.
– Вот-вот. А на дворе пятьдесят шестой, издаля веревочка, а вот и кончик… – Г-н Шешковский ласково огладил доношение. Повторил: – Припомни хорошенько, об чем с братцем-то толковал запальчиво. Ась? Ну, ну… И думай, думай неотрывно, каково твоему кровному на чужбине да без твоей подмоги. Думай, Каржавин. А я подожду. И дождусь чистой твоей совести, не взыщи, Васенька. С меня спрос там, – он пальцем указал на потолок, – а с тебя там, – он пальцем указал на пол. – Ну, ступай с богом, ступай…








