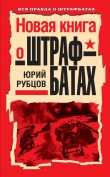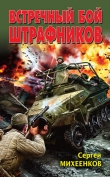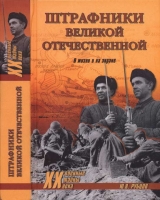
Текст книги "Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране"
Автор книги: Юрий Рубцов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Выявленные факты были весьма красноречивы. Так, 7-й заградотряд 54-й армии буквально раздергали по частям: один автоматный взвод охранял второй эшелон штаба армии, другой был придан 111-му стрелковому корпусу с задачей охранять линии связи от корпуса до армии, стрелковый взвод придан 7-му стрелковому корпусу с той же задачей, пулеметный взвод находился в резерве командира заградотряда, 9 человек работали в отделах штаба армии, при этом командир взвода старший лейтенант Гончар был назначен «по совместительству» комендантом управления тыла армии.
В 5-м заградотряде той же 54-й армии из 189 человек по штату больше половины использовались на различных работах – обслуживании АХО штаба армии в качестве поваров, сапожников, портных, кладовщиков, писарей, в отделах штаба армии в качестве связных и ординарцев; находились в распоряжении коменданта штаба армии, обслуживали штаб заградотряда. А ведь многие из них обладали серьезным фронтовым опытом, были ранее награждены, и их пребывание на передовой принесло бы реальную пользу.
Такое же положение было выявлено и в других заградотрядах фронта. Штаты их штабов разбухли вдвое, втрое, безделье и бесконтрольность со стороны вышестоящих штабов привели к тому, что в большинстве заградотрядов воинская дисциплина оказалась на низком уровне, «люди распустились», многие допускали грубые нарушения воинской дисциплины.
Свои наблюдения и выводы А.А. Лобачев изложил в докладе начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику А.С. Щербакову, заключив документ следующим предложением: «Считаю необходимым поставить вопрос перед Народным комиссаром обороны о реорганизации или расформировании заградотрядов, как утративших свое назначение в настоящей обстановке» {172} .
Сам ли начальник политуправления 3-го Прибалтийского фронта проявил инициативу или ему подсказали «сверху» (что весьма возможно при тогдашней политической практике) – в конце концов, неважно. В любом случае через два месяца, 29 октября 1944 г., нарком обороны И.В. Сталин издал приказ № 0349, в котором признавалось, что «в связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала». К 15 ноября 1944 г. они были расформированы, а личный состав отрядов направлен на пополнение стрелковых дивизий {173} .

ГЛАВА 6
МОЖНО ЛИ БЫТЬ ВЕРНЫМ РОДИНЕ, КОНФЛИКТУЯ С ГОСУДАРСТВОМ?
Если не бояться прямоты в оценках, то сквозная идея фильма «Штрафбат» сводится к незамысловатой формуле: гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне противостоял один сплошной гигантский штрафной батальон. Доктор филологии Б.В. Соколов, известный «своеобразными» оценками советской истории, сплошь и рядом граничащими с ее извращением, так прямо и заявляет: «Штрафбат – это как бы модель всей России в миниатюре. И в фильме правильно показано, что власть рассматривала весь народ как пушечное мясо, и победа была достигнута этими людьми, одновременно и сильными, и слабыми. Сильными – потому что сражались в нечеловеческих условиях, слабыми – потому что допустили, что с ними так обходились» {174} .
Очень похожее мнение у рецензента государственного СМИ «Парламентской газеты»: «По сути, "Штрафбат" – это сага обо всей нашей стране, бывшей в те годы огромным штрафным батальоном...» {175} .
Итак, один сплошной штрафбат, один концентрационный лагерь, в котором бытуют именно такие нравы, которые рождены творческим воображением Э.Я. Володарского и Н.Н. Досталя. В действии фильма, в речи и поступках персонажей, в их биографических данных Советский Союз предстает страной, где если не все, то каждый второй раскулачен, выслан, лишен прав, и девять из десяти ненавидят власть. Где солдаты поголовно сдаются в плен, где остаткам войск не остается ничего иного, как воевать, ибо с тыла на них нацелены пулеметы заградотрядовцев, и где бездарные генералы добиваются успеха лишь потому, что без сожаления заваливают противника горами трупов своих солдат.
Авторы фильма, по сути, подталкивают зрителей к мысли, что действия его героев (и, надо понимать, всех фронтовиков) определял глубокий конфликт Родины и сталинского государства, которое во всем противостояло народу. Не будь заградотрядов и особых отделов, не существуй гигантская машина подавления, никто бы, де, и воевать не стал.
Согласиться с этим не дает сама военная действительность.
ЧТО ВЛАСТЬ ПРЕДПОЧИТАЛА СКРЫВАТЬ?
Кому сегодня надо доказывать, что сталинское государство не только не было идеальным, но и во многих случаях отличалось откровенной жестокостью к своим гражданам? История Великой Отечественной войны содержит страницы, о которых до последнего времени или предпочитали не говорить вовсе, или ограничивались скороговоркой. Даже с точки зрения официальной пропаганды они бросали тень на облик советского народа-победителя, девальвировали Победу. А кроме того, случалось, власть сама понимала, что совершила по отношению к народу нечто такое, что следует скрывать во имя поддержания собственного авторитета.
Весьма часто граждане платили государству той же монетой. Вот, например, какие письма в сентябре – октябре 1942 г. были конфискованы военной цензурой 2-го спецотдела УНКВД Сталинградской области.
«...Вы думаете, что для меня страшен фронт или страшна смерть? На эти вещи я смотрю как на явления – дождь или снег. Но только одно мне остается непонятным, что у нас кругом обман и насильствие, что мы настолько демагогичны, что не видим действительности и говорим на белый предмет черный. Так выходит с нашей свободой, с нашей техникой, когда самолеты неприятеля днем и ночью парят в нашем российском воздухе.
...Устает рука, и буквы выходят некультурными, искаженными и обманными, как наша власть, за которую умирают люди под силой кулаков и пулеметов, установленных за спиной наступающих, свободных и сознательных людей, людей сталинской эпохи... Голодная угнетающая жизнь всем надоела, и желает каждый или смерти, или раны и освобождения».
«...Да, дорогая мама, бой здесь с 18 по 20/IX был большой и сейчас он продолжается. 18/IX было начало наступления на этом фронте, и "мясорубка" была хорошая. Много было изрублено за эти 2—3 дня и пролито крови, и все ради чего? Из-за славы, власти и богатства какой-то кучки людей, но, как говорит русская народная пословица, "око за око, кровь за кровь" и "что посеешь, то и пожнешь". За людские страдания, за пролитую кровь, за вдов, сирот и т.д. скоро организаторы этой бойни поплатятся своей головой, и настанет, как говорилось в старину, "божье возмездие". Да, дорогая мама, проведенные мной несколько дней здесь, т.е. за 15—20 дней, меня, как говорится, переродили совсем и сейчас я стал совсем другим, чем был раньше. Только теперь я понял всю политику этой войны, за что и кого мы проливали свою кровь и ложим свои головы, на что пошли все наши займы, сборы, пожертвования и налоги. Все эти деньги пошли на наши же головы, на нашу пролитую кровь и т.д., а не на мирное строительство нашей Родины. Будь я проклят, если по возвращении меня домой, я хоть одну копейку внесу на заем, пожертвования и т.д. Я лучше эти деньги пропью, отдам нищим или, наконец, выброшу в уборную, но на займы не дам никогда. Прошу тебя, сходи за меня в церковь, помолись за меня... и поставь несколько свечей перед иконой. Помолись богу за скорейшее окончание войны, многострадающий русский народ, за новый мир» {176} .
Материалы перлюстрации фронтовой переписки, донесения информаторов органов НКВД, сводки партийных комитетов показывали, что настроения и оценки, подобные приведенным выше, были не редкостью как на фронте, так и в тылу. Люди откликались на многие стороны советской действительности, вызывавшие негативную реакцию – аресты и депортации, благополучие властной элиты и нещадную эксплуатацию народной жертвенности, скупое продовольственное обеспечение и тяжелые жилищные условия. Все это было в жизни страны, тщательно скрывалось официальной пропагандой, но мы сегодня вправе об этом знать.
ГУЛАГ
Следует ли, например, делать вид, что в создании экономического фундамента Победы нет вклада обитателей «архипелага ГУЛАГ»? Элементарная объективность требует признать, что, во-первых, такой вклад был немалым, а во-вторых, что заключенные системы Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР были советскими гражданами, хотя и ограниченными в правах, но в большинстве своем исполненными священной ненависти к фашистским агрессорам. Тем более что в лагерях и колониях значительную часть – около 30% – составляли не уголовные преступники, а так называемые «враги народа» – жертвы беззаконных политических репрессий.
И.В. Сталин, не желая в преддверии войны сокращения того потенциала дешевого принудительного труда, без которого не существовала тогдашняя экономика, добился, чтобы свободу не получили даже те осужденные, кто имел на это право по приговору. К 2,3 млн. заключенных за 1941—1945 гг. добавились еще 2,6 млн. человек и по разным причинам выбыло 3,4 млн. Силами заключенных прокладывались судоходные каналы, строились аэродромы, железные и шоссейные дороги, возводились крупнейшие производственные комбинаты, добывались золото и уголь, качалась нефть, валился лес, производились боеприпасы, шилось обмундирование, выращивался крупный рогатый скот, заготавливались хлеб и фураж.
Только за 1941—1944 гг. Наркомат внутренних дел, в состав которого входил ГУЛАГ, сдал в эксплуатацию группу авиационных и нефтеперегонный заводы в районе Куйбышева и авиазавод в Омске, три доменные печи общей мощностью 980 тыс. т чугуна в год, 16 мартеновских и электроплавильных печей производительностью 445 тыс. т стали, прокатные станы общей производительностью 542 тыс. т проката, угольные шахты и разрезы общей производительностью 6,8 млн. т угля, 3,6 тыс. км новых железных и 4,7 тыс. км шоссейных дорог, в т.ч. Северо-Печорскую железную дорогу, железные дороги Саратов – Сталинград, Комсомольск – Совгавань. В интересах действующей армии было построено 612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов с взлетно-посадочными полосами {177} .
НКВД также сосредоточил в своих руках работы по созданию нового вооружения и военной техники. Немало ученых, конструкторов, инженеров трудились в так называемых шарашках – научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро за колючей проволокой. Еще в 1939 г. в Болшево появилась первая «шарашка» – Особое техническое бюро, преобразованное позднее в СКБ-29. Заключенные – а это были крупнейшие отечественные конструкторы авиационной и ракетной техники А.Н. Туполев, В.М. Петляков, В.М. Мясищев, С.П. Королев и многие другие – какое-то время и в ходе войны работали там над новейшими образцами вооружения.
Депортации
До второй половины 80-х годов прошлого века в литературе практически не упоминалась и проблема депортаций (то есть принудительного выселения из мест проживания) народов, имевших место в годы Великой Отечественной войны. Официально эта мера объяснялась политической неблагонадежностью высылаемых, необходимость предупредительных мер во избежание с их стороны массовых антигосударственных преступлений, участием в антисоветских вооруженных формированиях и т.п.
Так, по данным отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом, на территории СССР были ликвидированы более 7 тыс. повстанческих групп, объединявших в своих рядах более 54 тыс. боевиков, в т.ч. на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, центральных областях РСФСР, Сибири и на Дальнем Востоке {178} . Такие группы действительно существовали: отрицать наличие в стране недовольных советской властью было бы глупо. Другое дело, что целые народы не должны были отвечать за преступления отдельных лиц.
С началом войны первыми жертвами депортации стали граждане, имевшие национальность воюющих с СССР государств – немцы и финны. Военкоматы автономной Республики немцев Поволжья и других районов их компактного проживания отказали немецкой молодежи в призыве в действующую армию. Под предлогом наличия в автономии «десятков тысяч диверсантов и шпионов», их связей с фашистской Германией, возможных диверсий в тылу страны 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР, на основе данных, предоставленных НКВД, принял указ о переселении немецкого населения в принудительном порядке из Поволжья в восточные районы страны {179} .
Чуть позднее депортации подверглись также немцы, проживавшие в Тамбовской, Ярославской и Воронежской областях, на Северном Кавказе. Новый режим распространялся и на тех, кто воевал на фронте. Более 33 тыс. солдат и офицеров немецкой национальности были демобилизованы и в своем большинстве направлены в «трудовую армию», рабочие колонны и батальоны. Всех их – более 856 тыс. человек – расселили в Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае и Казахской ССР. Участь советских немцев вскоре разделили несколько десятков тысяч финнов, проживавших в Карелии и Ленинградской области.
Наиболее массовыми оказались депортации народов, проживавших на Северном Кавказе. Именно сюда было привлечено особое внимание немецкого командования, рвавшегося к грозненской и майкопской нефти. В соответствии с планом «Шамиль», разработанным абвером, нефтеносные районы предусматривалось захватить с помощью воздушных десантов, которые должны были опираться на антисоветское подполье, с большей или меньшей активностью действовавшее на Северном Кавказе с 20-х годов. Несмотря на активизацию террористических и диверсионных групп в ряде районов, планы немцев и их пособников провалились.
Уже после того как вся территория Северного Кавказа вновь стала советской, к отдельным народам были применены меры «наказания». Из Карачаевской автономной области в Казахскую и Киргизскую ССР в принудительном порядке были депортированы более 69 тыс. граждан карачаевской национальности, в связи с тем, что, как говорилось в указе Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 г., «в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски».
27 декабря 1943 г. последовал указ о ликвидации Калмыцкой АССР и о выселении калмыков (более 193 тыс. человек) в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Их депортация рассматривалась как мера наказания «за противодействие органам советской власти, борьбу против Красной Армии», которую несколько бандформирований действительно вели во время оккупации части республики.
С приближением фашистских войск заметно усилился политический бандитизм в Чечено-Ингушской республике: в августе 1942 г. здесь действовали 54 группировки из 359 человек, в розыске находились более 2 тыс. дезертиров. Подавить бандитизм удалось лишь после изгнания оккупантов с территории Северного Кавказа в январе – феврале 1943 г. С восстановлением советской власти помимо ликвидации оставшихся бандгруппировок органы внутренних дел прибегли к «радикальной» и уже опробованной мере – депортации чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР. В соответствии с постановлением ГКО Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, и 23 февраля 1944 г. началась операция по выселению двух народов. В конце февраля Л.П. Берия доложил И.В. Сталину численность депортированных – 478,5 тыс. человек {180} .
Чуть позже, в начале марта 1944 г., переселению в Казахстан и Киргизию были подвергнуты балкарцы из Кабардино-Балкарской АССР – всего более 37 тыс. человек. Основание для акции центральные власти нашли в большой «зараженности» республики повстанческим движением и «предательстве» в период непродолжительной немецкой оккупации.
Особое место в политике депортаций, проводимой советским руководством, занял Крым. В годы оккупации германское командование активно поддерживало здесь создание отрядов и групп, сформированных как из крымских татар, так и представителей других народов, и предназначенных для действий против Красной Армии и партизан. Коллаборационисты должны были, безусловно, понести суровое наказание, однако за преступления отщепенцев расплатился весь народ. В мае 1944 г., сразу же после изгнания врага с полуострова, по постановлению ГКО из Крыма было выселено больше 194 тыс. татар и более 33 тыс. болгар, греков и армян. Большая их часть была расселена в Узбекистане, остальные направлены в другие регионы страны.
Не всем известно, что наряду с народами Российской Федерации, которых депортировали в полном составе, высылке подвергались и большие группы населения различных национальностей. Среди них было много и русских. Из прифронтовых районов высылались, пользуясь тогдашней терминологией, «антисоветские», «чуждые», «государственно-опасные», «подозрительные по шпионажу» элементы. Например, в конце мая 1942 г. ГКО предписал в двухнедельный срок выслать таких лиц из ряда городов и станиц Ростовской области и Краснодарского края. Из Рязанской, Воронежской и Орловской областей в июле 1944 г. были выселены в Сибирь почти 1,7 тыс. сектантов. Большие группы русских были депортированы также вместе с названными выше народами: корейцами, немцами Поволжья, крымскими татарами, что называется, заодно, в общей массе. Всего же в годы войны подверглись переселению народы и группы населения 61 национальности.
В этой связи нельзя не согласиться с точкой зрения историка Н.Ф. Бугая: «Возможно, что условия военной (экстремальной) ситуации вызывали необходимость определенных предупредительных действий советского правительства в тылу и на подступах к линии фронта. Но никак нельзя оправдать примененные ко многим народам репрессивные насильственные меры. Ведь суровому наказанию подвергались не только виновные, но и народы в целом... Это одна из трагических малоизвестных страниц в истории советского государства, которую правительство хранило в глубокой тайне. В результате его ошибочной политики массового переселения народов и групп населения, принадлежавшего к различным национальностям, депортации подверглись отважно защищавшие Отчизну, смело сражавшиеся на многих фронтах войны» {181} .
Чтобы хоть отчасти восстановить историческую справедливость, потребовались многие десятилетия. Вклад в это внесла и новая Россия. Принятые в 1991 г. законы «О реабилитации репрессированных народов» и «О жертвах политических репрессий» содержат юридическую оценку массовых депортаций и определяют меры по реабилитации пострадавших. Многое сделано по их реализации. Однако, к сожалению, нельзя сказать, что заложенные сталинской национальной политикой «мины» не взрываются до сих пор и не наносят ущерба межнациональным отношениям.
Трагедия плена и репатриация
До сих пор точно не известно, скольким нашим соотечественникам выпала горькая доля испытать плен. Гитлеровское руководство объявляло о 5,27 млн. человек. Данные, которыми располагает Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ, несколько меньше – 4 млн. 59 тыс. человек плюс примерно 500 тыс. – военнообязанные, не успевшие встать в строй и захваченные противником в пути в воинские части {182} .
Почти половина бойцов и командиров оказались в плену летом – осенью 1941 г., когда танковые клинья врага разрывали нашу оборону, в воздухе безраздельно господствовали люфтваффе и потеря связи и управления войсками носила массовый характер. Условия, приводившие к пленению, были самыми различными: окружение, ранение или болезнь, физическое истощение, отсутствие боеприпасов, неожиданное нападение многократно превосходящего по силам врага. Но и в этой, часто безнадежной обстановке, люди в абсолютном большинстве случаев оказывали ожесточенное сопротивление агрессорам. Из попавших в плен добровольно сдались не более 1,5% военнослужащих РККА.
Советские воины, попавшие в руки врага, после непродолжительного пребывания в прифронтовой зоне помещались в стационарные лагеря для военнопленных. Нечеловеческие условия содержания приводили к эпидемиям брюшного, сыпного тифа, желудочно-кишечных и других заболеваний, необратимой дистрофии. Гитлеровцы стремились уничтожить как можно больше людей, поэтому к голоду и болезням добавлялись массовые экзекуции: с пленными расправлялись по малейшему поводу. Кроме того, вопреки положениям Гаагской конвенции, советские военнопленные в подавляющем большинстве использовались на тяжелых принудительных работах. Смертность в лагерях была огромной. По разным источникам, погибли от 1,23 до 2 млн. советских военнослужащих, то есть каждый третий из находившихся в плену.
Казалось бы, такие люди были вправе рассчитывать на гуманное отношение со стороны советских властей. На международной арене Советское правительство показывало, что оно всерьез озабочено участью людей, попавших в плен, оказавшихся на оккупированной территории и вывезенных в рейх, а также выражало стремление добиться привлечения гитлеровской верхушки к уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности. Позднее эти усилия воплотились в организацию совместно с союзниками Нюрнбергского процесса, осудившего главных нацистских преступников, а также других судебных процессов над убийцами и извергами, издевавшимися над безоружными пленными и гражданским населением.
Но внутренняя политика совсем не отличалась лояльностью по отношению к этой категории советских граждан. С самого начала войны высшее политическое руководство СССР дало установку, в соответствии с которой подозрительными считались все военнослужащие и гражданские лица, не только попавшие в плен, но оказавшиеся даже на непродолжительное время в тылу противника. В измене и предательстве Родины, о чем уже говорилось в настоящей книге, подозревались даже те бойцы и командиры, которые смогли с боями пробиться на соединение с Красной Армией, не говоря уже о тех, кто был в плену.
Во внимание редко принимались обстоятельства пленения, продолжительность нахождения в руках противника, поведение военнопленного в этих экстремальных обстоятельствах. Вот лишь один, но, к сожалению, весьма типичный пример. Имя полковника И.А. Ласкина вошло в историю войны после того, как он, начальник штаба 64-й армии, 31 января 1943 г. в Сталинграде руководил взятием под стражу фельдмаршала Ф. Паулюса. И в дальнейшем успешно воевал, стал генерал-лейтенантом, начальником штаба Северо-Кавказского фронта. И вдруг в декабре 1943 г. последовал его арест. Органам контрразведки стал известен факт того, что Ласкин в августе 1941 г. при выходе из окружения под Уманью был задержан вместе с двумя спутниками немецким унтер-офицером. Через несколько часов им удалось бежать и присоединиться к одной из частей Красной Армии, с которой они и вышли к своим.
Основываясь на сокрытии этого факта, генерала, не обращая внимания на его предыдущую боевую деятельность, обвинили в измене Родине и шпионаже. В ожидании приговора Ласкин находился в заключении почти 9 лет. В 1952 г. его приговорили к 15 годам исправительно-трудовых работ. Обрести свободу отважный, но униженный генерал смог лишь после смерти Сталина {183} . Подобных случаев было много.
Истины ради нельзя умолчать и о совершенно противоположных случаях. Старшина П.Х. Дубинда, воюя в морской пехоте, был тяжело контужен и взят в плен. Бежал, и с марта 1944 г. вновь встал в воинский строй. Его не преследовала, наоборот, ему поверили. В этом же году Павел Христофорович, заметно отличившись, был удостоен двух орденов Славы, а в следующем, 1945 г., не только стал полным кавалером ордена Славы, но еще и Героем Советского Союза.
Такие примеры, однако, были скорее исключением из правил. Правила же поведения властей состояли в постоянном расширении практики заочного осуждения военнослужащих, находившихся за линией фронта, как изменников Родины. Основанием для этого служили постановление ГКО от 16 июля 1941 г. и приказ Ставки ВГК «О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий» № 270 от 16 августа 1941 г., которые обязывали «сдавшихся в плен уничтожать всеми средствами», «семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи», семьи командиров и политработников арестовывать «как семьи нарушивших присягу и продавших свою Родину дезертиров» {184} .
Правомерно осуждая проявления трусости, растерянности, паники, добровольную сдачу в плен, руководство страны одновременно ориентировало командно-политический и рядовой состав на огульную оценку действий всех, кто оказался в плену даже в беспомощном состоянии. Отбросив принцип презумпции невиновности, оно заранее признавало таких командиров и бойцов трусами и предателями, которых «надо уничтожать», а их семьи – преследовать.
С декабря 1941 г., согласно постановлению ГКО, бойцы и командиры, оказавшиеся в плену или в окружении, утрачивали юридический статус военнослужащих и именовались впредь «бывшими военнослужащими Красной Армии», тем самым ставились вне рядов Вооруженных Сил со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Если они, пересекая линию фронта, выходили к своим или их задерживали при освобождении ранее оккупированной территории, то всех направляли сначала на сборно-пересыльные пункты, а затем в специальные лагеря для выявления изменников, шпионов и диверсантов.
Кто возьмется оспорить необходимость такой работы, тем более в военное время? Но дело в том, что к людям, которые в подавляющем большинстве не совершили каких-либо преступлений, изначально относились как к изменникам и шпионам.
По мере того, как Красная Армия продвигалась на запад, поток возвращающихся в Советский Союз стал нарастать. По подсчетам Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, созданной при Президенте РФ, по завершении репатриации на 1 декабря 1946 г. было зарегистрировано более 1,8 млн. военнопленных и почти 3,6 млн. гражданских лиц, всего – свыше 5,4 млн. человек {185} . НКВД, НКГБ и военная контрразведка
«Смерш» пропускали их через спецлагеря и проверочно-фильтрационные лагеря. Вина была установлена лишь у части этого «спецконтингента». Поэтому более 1,2 млн. человек были направлены в РККА. В специальные же лагеря НКВД были переведены те (более 600 тыс. человек), в отношении которых существовали обоснованные подозрения в измене, сотрудничестве с фашистскими властями, шпионско-диверсионной деятельности и т.п. Проверки выливались в приговоры военных трибуналов или постановления особых совещаний. Но даже если проверка в конце концов завершалась для человека удачно и на него не обнаруживалось никакого компрометирующего материала, «чистым» он не считался. Дополнительная и длительная проверка органами НКВД и НКГБ продолжалась еще долгие годы по месту жительства. Людей ограничивали в выборе профессии, запрещали проживать в больших городах и т д. А средствами пропаганды власть навязывала общественному мнению убежденность в том, что с теми кто вернулся из плена или из немецкой неволи, надо быть настороже.