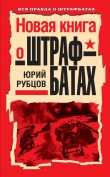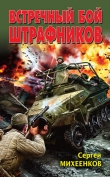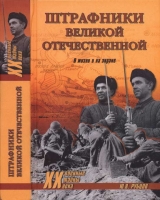
Текст книги "Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране"
Автор книги: Юрий Рубцов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Семь дней бился батальон, погибая в неравной схватке. Они все-таки прорвались до шоссе Подберезье – Новгород, уже северо-западнее высоты! Но помощи не было ни от полка, ни от дивизии. Эту высоту хотели взять «на авось», что стоило полку гибели батальона, его командира Григория Гайчени и замполита Федора Кордубайло. Что думали они, погибая?..
Без резервов, необходимой артподготовки им было приказано брать высоту с форсированием реки шириной 600 метров. Это – безумие! (С. 143.)
Беда в том, что если таких преступных авантюр не избегали и в обычных линейных частях, то для штрафных формирований иные старшие начальники считали подобные действия чуть ли не нормой. И хорошо, если среди командиров штрафных частей попадались не формалисты-исполнители, а думающие, совестливые люди, понимавшие, что это преступление – вести личный состав на неподавленную вражескую оборону и, значит, даром, напрасно терять людей.
Мемуарист рассказывает, как ту же задачу – взять высоту, где уже напрасно полег целый батальон, и тем же самым способом – штурмом, не обработав передний край вражеской обороны артиллерией, поставили теперь уже перед штрафниками – его новыми подчиненными.
М.И. Сукнев:
Мы заняли оборону центром в селе Слутка, где не осталось ни одного дома, избы, все изрезано траншеями и ходами сообщений, на высоком берегу против высоты Мысовая, где погиб 1-й батальон Гайчени...
Командование дивизии пыталось-таки наш батальон бросить снова на захват этой высоты, которая нам не была и нужна. Но тут узнаем: мы переданы 59-й армии генерала И.Т. Коровникова – блестящего военачальника! Но я [все же] послал вперед несколько басмачей, которые имитировали атаку через волховский лед и вернулись тотчас. Немцы искрошили лед в крошево снарядами, но впустую.
Командование дивизии молчит. Полка тоже. Будто проглотили горькую пилюлю. Конечно, я рисковал головой, но меня тут поддерживал наш незаменимый оперуполномоченный Проскурин. А у него, чекиста, был авторитет «выше наркома», в нашем, конечно, масштабе! (С. 156—158.)
Такие командиры, разумеется, не столько уповали на собственную хитрость, сколько стремились грамотно организовать бой, сделать все, чтобы и боевую задачу выполнить, и людей сохранить.
М.И. Сукнев:
Мы заняли позицию напротив выселка с церквушкой. Название выселка – Георгиевский. Мы его называли Георгием. Справа широким заливом от Ильмень-озера тянулась Веряжа, в ширину не менее 500 метров. По приказу начальника штаба дивизии мы должны были выбить противника из Георгиевского, но артиллерийской поддержки нам не обещали!.. Надо преодолеть 500 метров ровного снежного поля! Вечером я отправил две сильные разведгруппы с заданием подобраться как можно ближе и ворваться в поселок. Вперед по-пластунски начали движение одесситы-разбойнички. Правей, по берегу Веряжи, – офицеры-штрафники, солдаты временные.
И надо же было такому случиться: только наши подобрались на бросок, как за Веряжей, в береговом селе Храмцове, занятом противником, вспыхнуло несколько пожаров. Оттуда фрицы готовились уходить. Но здесь в свете зарева от пожаров немцы, обнаружив наших, начали бросать вверх осветительные ракеты и открыли пулеметно-минометную стрельбу. Без потерь, но разведчики вернулись.
Утром из дивизии вновь приказ и опять от начштаба, будто командир исчез: «Взять Георгия, и точка!» Я по телефону требую поддержки артиллерией или минометами. Опуца свое: взять и доложить! Это являлось грубейшим нарушением боевого устава – не подавив пулеметные точки, наступать на открытой местности нельзя...
С трудом вызвал по телефону командира минометной батареи, своего друга еще по Свердловскому училищу Николая Ананьева, кричу ему: «Поддержи огнем по Георгию! Я двину батальон!» Ананьев что-то буркнул в трубку, и я не понял: есть ли у него мины или «в обрез», как всегда! Десятки мин взорвались по выселку, но не задев колокольни и деревянной церквушки, что явилось просчетом (высотные сооружения применялись гитлеровцами для наблюдения и устройства огневых точек. – Ю.Р.). Под прикрытием пулеметов «максим», открывших сильный огонь, батальон по красной ракете бросился вперед, в атаку! Но взрывы наших мин вдруг прекратились, и мы остались в поле «голенькими»! Ранены командиры рот Крестьянинов и Николай Шатурный! Посылаю туда Николая Лобанова, заменить Крестьянинова. Через считанные минуты мне сообщили: Лобанов убит! Справа, в роге одесситов, – двадцать убитых и столько же раненых! Есть потери у 1-й роты, офицерской! Даю зеленую ракету – отбой. Перед этим я, заменив у «максима» пулеметчика, вел стрельбу по колокольне, и оттуда немецкий пулемет прекратил стрельбу. К выселку слева по траншее бежал фриц, я короткой очередью уложил его.
Единственная вражеская мина, прилетев от выселка, разорвалась передо мной. Результат – я оглушен, ранен в нос и в лоб осколками. Лицо залило кровью...
Наложив бинты, санинструктор Александра Лопаткина, черноглазая и не по-женски отважная, подозвала моего заместителя по строевой части капитана Кукина, похожего на меня и по характеру, и по облику.
– Прими батальон! Я ничего не вижу, все идет кругами! – выдохнул я ему.
Тотчас меня Александра увела в медпункт, откуда я попал в медсанбат, расположенный у штаба нашего 14-го корпуса.
Поначалу замену комбата в батальоне никто не заметил – дым и взрывы. В ту же ночь на броневичке Кукин с группой солдат смело и прямехонько примчались в тот поселок, и фрицы, было их 15, дружно подняли руки. Они выполнили приказ своего командования: сдержать нас до этого часа. Разъяренные штрафники никого в плен не взяли, прикололи всех штыками.
Уходя в медпункт, я зашел на секунды в дом, занятый под штаб полка. Здесь были новые командир полка и замполит. Я бросил им с гневом слова:
– Вы наблюдатели, а не командование! Почему не поддержали нас артиллерией?
Но они только пожали плечами. Что понимали они, еще не нюхавшие пороху?.. (С. 169—171.)
С другой стороны, если штрафники оказывались в такой ситуации, особого выбора у них не было. Они, безусловно, острее, чем бойцы линейных частей, чувствовали необходимость выполнить приказ командования, невзирая ни на какие обстоятельства. Дополнительный стимул к их активным действиям очевиден: чтобы рассчитывать на реабилитацию, одного пребывания на переднем крае для них было недостаточно, следовало активно проявить самопожертвование, героизм и искупить вину, как требовал приказ № 227, кровью.
Кто случайно оступился, допустил преступление по недосмотру или в минуту слабости, будет стремиться, невзирая на опасность, смыть с себя пятно, как можно быстрее встать вровень с прежними товарищами по воинскому строю.
П.Д. Бараболя:
Типичной в таком плане представляется мне судьба паренька из Тамбовщины Николая Щербакова. Нам, взводным, полагалось иметь ординарцев. Понятно, не для того, чтобы чистить сапоги или раздувать самовар. Боевая обстановка требовала живой оперативной связи с соседями, быстрой реакции на складывающуюся ситуацию. Для выполнения таких и иных, порой непредсказуемых, задач нужен был человек смелый, сообразительный и надежный во всех отношениях. Щербаков – крепыш, крестьянский сын, толковый противотанкист, – по моим наблюдениям, вполне подходил на роль ординарца. Поначалу, однако, сдерживало немаловажное обстоятельство – он был приговорен, как дезертир, к расстрелу. А что если, воспользовавшись некоторой «вольницей» при выполнении приказа, оказавшись вне контроля за расположением подразделения, махнет сперва куда-нибудь в тыл, а потом и на родную Тамбовщину?
И вспоминались его искренние раскаяния. «Великую глупость я по молодости совершил, товарищ командир. Никогда себе не прощу, – часто сокрушался Щербаков в те холодные ноябрьские ночи, когда я оказывался рядом с ним в траншее. – После ранения, на побывке дома, приворожила меня одна краля, не хватило сил и ума вовремя избавиться от ее чар. Месяц не являлся в часть. И вот – дезертир, вышка... Но ничего, я еще докажу, что умею исправлять ошибки...»
Он доказывал это неоднократно. Постоянно рвался туда, где жизнь бойцов висела на волоске и где огонь его противотанкового ружья оказывался как нельзя кстати. С огромным уважением и теплотой вспоминаю Николая Щербакова еще и потому, что он дважды отводил от меня беду – закрывал собой, когда в разгар боя попадали мы под губительный артиллерийско-минометный обстрел немцев. А вот себя отчаянный парень не уберег. (С. 360.)
По архивным документам автору удалось, правда, не полностью, проследить судьбу одного из штрафников 9-го ОШБ 1-го Украинского фронта рядового В.П. Щенникова. К сожалению, неясно, по какой причине он попал в штрафбат, но многие обстоятельства убеждают: скорее всего нелепая случайность привела его сюда с должности командира стрелкового батальона 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 4-го Украинского фронта. Не мог быть трусом, дезертиром старший лейтенант – участник боев с 1941 г., награжденный четырьмя (!) орденами, трижды раненный. На примере таких людей особенно выпукло выражена суровая справедливость такой меры, как направление в штрафбат (разумеется, если в данном случае не было, скажем, завуалированной мести со стороны прямого начальника или чего-то подобного). Неужели такому испытанному бойцу лучше было бы «загибаться» где-нибудь на лесоповале, считать дни до освобождения на тюремных нарах? Нет, лучше уж смотреть судьбе в глаза в открытом бою.
И Щенников не гнется под пулями, не «тянет» срок в надежде уцелеть и как-нибудь переждать те два месяца, на которые он определен в штрафбат. Вот строки из боевой характеристики на бойца-переменника Виктора Павловича Щенникова, подготовленной командиром взвода гвардии лейтенантом Балачаном сразу же по окончании боя: «При наступлении на сильно укрепленную полосу обороны противника 8 июля 1944 года... будучи первым номером ручного пулемета, он подавил огневую точку противника, чем дал возможность продвинуться остальным. Когда вышел из строя его второй номер, он взял диски и продолжал продвигаться в боевых порядках... Во время выхода с поля боя он вынес 2 ручных пулемета, 2 винтовки, 4 автомата и одного раненого командира отделения. Достоин представления к правительственной награде». На характеристике резолюция командира роты гвардии капитана Полуэктова: «Тов. Щенников достоин досрочной реабилитации».
Под стать Щенникову был его товарищ по расчету ручного пулемета штрафной рядовой Н.С. Корбань. Бывший старший лейтенант, адъютант старший стрелкового батальона 1340-го стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии 1 -го Прибалтийского фронта, он, обеспечивая командира расчета боеприпасами, успел в то же время оказать помощь четверым раненым в эвакуации с поля боя, вынес два ручных пулемета и винтовку {108} .
Как отличившиеся в боях, и Щенников, и Корбань были представлены к досрочной реабилитации (заметим в скобках: по не совсем понятной причине офицеры, воевавшие на 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах, отбывали наказание в штрафбате 1-го Украинского фронта).
Скажем еще вот о чем: командно-начальствующий состав штрафных частей, как и в армии в целом, вели за собой подчиненных не только силой приказа, призывным словом, но и личным примером. Уроженец Курганской области Н.В. Привезенцев, будучи в штрафном батальоне командиром взвода, при прорыве блокады Ленинграда только в одном бою получил семь ран, но поле боя не покинул. Даже видавшие виды штрафники восхищались мужеством своего командира, каждое его слово было для них высшим мерилом справедливости. Заместителем командира в штрафной роте воевал его земляк М.А. Тропия. Также был несколько раз ранен {109} .
Но, как и в армии в целом, командный состав штрафных частей не был одинаков. Одни делили испытания поровну с подчиненными, другие же...
Е.А. Гольбрайх:
Владимир Карпов, известный писатель, Герой Советского Союза, сам хлебнувший штрафной роты, пишет, что офицеры штрафных рот со своими штрафниками в атаку не ходили. И да, и нет. Если есть опытные командиры из штрафников, можно и не ходить. А если нет или «кончились», надо идти самим. Большей частью именно так и бывало. Вот один из многих тому примеров. Два заместителя командира роты, старший лейтенант Василий Демьяненко и я, повели роту в атаку. Когда задача была уже почти выполнена, меня ранило осколком в грудь. До сих пор помню свою первую мысль в этот момент: «Не упал! Значит, легко!» Демьяненко был в шагах тридцати от меня, увидел, что меня шатнуло и я прыгнул в воронку. Подбежал: «Куда?» Молча показываю на дырку в полушубке. «Скидай!». Весь диалог – два слова. Он же меня перевязал.
Н.Г. Гудошников:
Всегда шел в бой вместе со штрафниками, часто прямо в боевых порядках, это им придавало больше уверенности («командир с нами»), решительности, а мне – надежды на успех.
П.С. Амосов:
Иные командиры рассуждали так: вы искупаете вину, а почему должны страдать мы? Я почти не помню, чтобы мне приходилось о чем-то спрашивать или выполнять приказания командиров. Они, увы, часто оказывались в стороне. Запомнил только командира батальона.
Г.М. Дубинин:
После приема пищи над траншеей появился командир роты и громко объявил приказ: «Впереди деревня, ее нужно взять и на той стороне закрепиться. Кто туда придет, будет оправдан». И с этого момента офицеров я не видел, пока не взяли деревню.
В.Г. Сорокин:
Были случаи, когда меня, комбата, солдаты не пускали в атаку: «Мы сами, не лезь!» Очень тепло становилось на душе от подобной заботы. Были и такие солдаты, которые после ранения возвращались в батальон, заявляя: «Хотим воевать с тобой». Прошло много лет, но я хорошо помню своих подчиненных...
Командному составу нередко приходилось не только увлекать за собой подчиненных, но и подгонять их сзади. Читатель уже знает, из какого контингента порой комплектовались штрафные роты. Тот кто пустил в ход самые убедительные патриотические доводы с одной лишь целью – побыстрее покинуть колонию или лагерь, чтобы продлить на воле веселую жизнь, вряд ли будет, оказавшись на фронте, торопиться пролить кровь.
Е.А. Гольбрайх:
Не следует думать, что все штрафники рвались в бой. Вот вам пример. Атака захлебывается. Оставшиеся в живых залегают среди убитых и раненых... Вдвоем с командиром роты капитаном Щучкиным под немецким огнем возвращаемся к исходному рубежу. Так и есть! В траншее притаилась в надежде пересидеть бой группа штрафников. И это когда каждый солдат на счету! С противоположных концов траншеи, держа в каждой руке по пистолету: в левой – привычный ТТ, в правой – трофейный парабеллум, он тяжелее, чуть не разрываясь над траншеей – одна нога на одном бруствере, другая – на противоположном, двигаемся навстречу друг другу и, сопровождая свои действия соответствующим текстом, стреляем над головами этих паразитов, не целясь и не заботясь о целости их черепов. Проворно вылезают и бегут в цепь. Сейчас, когда вспоминаю этот эпизод, думаю: «Господи! Неужели это был я!»
В штрафных и штурмовых батальонах – подобного не может быть. Здесь все поставлено на карту. Эти офицеры не лишены званий (разумеется, речь может идти лишь о тех, кто не лишен воинского звания по суду. – Ю.Р.) и в большинстве случаев не имеют судимости. По ранению или отбытию срока они имеют право на прежние должности.
И ШТРАФНИКОВ НАГРАЖДАЛИ
Постоянный состав штрафных частей представлялся к наградам наравне с командно-начальствующим составом линейных частей. Так, судя по архивным документам, имели награды многие из командиров рот и взводов 8-го ОШБ, в том числе ордена Красного Знамени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Руководящие документы не предусматривали никакой дискриминации по части награждения за боевые дела и переменного состава штрафных частей. Недаром пел Владимир Высоцкий: «И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь "За отвагу"».
А.В. Пыльцын:
За успешное выполнение боевой задачи... многим были вручены боевые награды: ордена Славы 3-й степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Это были герои, из подвигов которых вычитали числящуюся за ними вину, но и после этого хватало еще и на награды.
Надо сказать, что штрафники не радовались ордену Славы. Дело в том, что это был по статусу солдатский орден, и офицеры им вообще не награждались. И, конечно, многим хотелось скрыть свое пребывание в ШБ в качестве рядовых, а этот орден был свидетельством этого. (С. 42.)
И.И. Коржик:
Некоторых из наших наградили. Я получил «Красную Звезду».
Н.И. Сапрыгин:
В штрафной роте я получил орден Славы 3-й степени.
Г.М. Дубинин:
Я за бои в штрафной роте награжден медалью «За отвагу».
Порой случалось кажущееся совершенно невероятным. М.И. Сукнев поведал о случае, происшедшем в 1944 г. в канун католического Рождества, когда в течение одного дня штрафники заработали даже не по одной, а по две награды. Мемуарист в это время уже не командовал штрафбатом из-за ранения, а находился в распоряжении командира дивизии, но боевых контактов с штрафниками не порывал.
М.И. Сукнев:
Я «набивал себе руку» на командира полка, о чем давал мне понять Николай Токарев, первый зам комдива полковника Фомичева.
Вызов к телефону. Токарев звонит из первых траншей. Говорит по-товарищески и доверительно, но приказывает: принять у него наблюдательный пункт дивизии!..
НП дивизии располагался в 500 метрах от позиций противника, расположенных по открытому полю, позади которого шли курляндские леса, густые, непроглядные...
Рота прикрытая была из штрафников: сержантов и солдат, что проштрафились по пьянке, подрались с офицерами и т.п. А также кто-то из старших сержантов и старшин, которые заворовались в интендантствах... Но все готовы идти «на подвиг», чтобы снять с себя клеймо штрафника. Кончается война, надо успеть...
С вечера на 25 декабря, который напомнил мне о «языке», взятом год назад на Волхове в этот же день, я заметил: противник не вел огня, не бросал осветительных ракет. Что это? Неужели отступают? Но это невозможно. Некуда им отходить, а можно только идти вперед на прорыв. Но скоплений войск не видно и не слышно. Ломаю голову. И решаюсь.
Ставлю в известность командира роты штрафников: надо провести разведку поиском за «языками». Старший лейтенант подхватил этот довольно рискованный почин. Рота штрафников рассредоточилась по огневым точкам вокруг НП дивизии. Командир роты отобрал добровольцев, готовых идти насмерть, но снять с себя позорное звание штрафник! Вызвался небольшой, можно сказать, «интернационал». Старший сержант из интендантов – еврей, владеющий в совершенстве немецким; сержант – белорус и рядовой – казах, молоденький паренек. На прикрытие готовим один взвод.
И как-то я был уверен, что дело выгорит! На рассвете 25 декабря, в Рождество у немцев, мы с саперами подобрались к проволочным заграждениям противника и, не обнаружив никого по траншеям вправо и влево, спокойно проверили миноискателями наличие мин, проделали проход в заграждении, куда вошел наш «интернационал» из троих штрафников, а за ним прикрытие в 10 автоматчиков. Взвод расположился, будто у себя в обороне, по траншее, загородив свои фланги здесь же набросанными «ежами».
Немедленно возвращаюсь на НП, ибо мне не положено быть дальше своих позиций, а я и так чуть не ушел с разведчиками. По полевому телефону сообщил Токареву об «операции» и получил от него «благословение». По другому предложению – двинуть в пустующие окопы загулявшего противника наш 506-й полк, он обещал «решить»... И я принял другое решение: вывел всю роту штрафников на позиции противника! А там, думаю, будем действовать по обстановке.
Мой ординарец Алексей вызвал меня наверх из блиндажа. Вижу, подходит группа подвыпивших немцев, которых конвоируют наши трое разведчиков. Пленные играют на губной гармошке, вразнобой поют и кричат: «Гитлер капут!»
Двадцать три немца. Мы наскоро обыскали их на предмет наличия оружия, и я отправил их под конвоем нашей тройки прямо в штаб дивизии к комдиву Фомичеву... Через час ребята-разведчики вернулись и сразу явились ко мне в блиндаж. Они гордо показали мне привинченные к гимнастеркам ордена Славы!
Обстановка становится более ясной. У немцев там, где были наши штрафники, есть еще блиндажи, в которых гуляют фрицы-зенитчики. Предлагаю, ибо разведчикам нельзя отдавать приказы, что зачастую делали некоторые недалекие командиры, еще раз пойти и привести пленных из другого блиндажа. Они согласились.
Тут уж я не выдержал – иду в траншею к штрафникам, протянув к себе провод полевого телефона. Держу на связи артиллеристов.
Пройдя лес, разведчики вышли снова на обширную поляну, в центре которой стоял танк с открытым люком. Танкисты, которые тоже хорошо отпраздновали Рождество, вовсю храпели. Справа один за другим располагались блиндажи, дистанция между ними метров тридцать. Наши парни подкрались к третьему, откуда слышались гвалт и шум развеселья фрицев, распахнули двери. Старший сержант скомандовал по-немецки: сдаваться, и точка! С поднятыми руками фрицы вышли, минуя свое оружие – винтовки в пирамиде снаружи блиндажа. И, подхватив большую бутыль с ромом, с готовностью направились с нашими в плен!
В этот момент пост в танке очнулся. Потом из четвертого блиндажа, офицерского, появился их командир. Он понял все и пальнул вверх из пистолета, давая знак танкистам. Те пальнули вслед группе пленных, но промахнулись!
И вот наша геройская тройка снова прибывает на НП дивизии, и с нею 22 «языка»! Спустя час ребята возвратились ко мне в блиндаж, показывают еще по ордену Славы.
Повторяю для уточнения: это произошло 25 декабря 1944 года в 198-й стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Кому бы я ни рассказывал об этом случае – не верят. Но я редко встречался с настоящим боевым фронтовым офицером из стрелковых частей. А обозники – они в такие дела не верующие. Да, за три с лишним года, побывав в военных переплетах, можно издавать книжку о различных невероятных случаях. Но для этого надо было выжить, что не каждому дано. (С. 218—221.)
Награждения воинов-героев носили подчас массовый характер. Так, в штрафных частях 64-й армии в период боев под Сталинградом из 1023 человек, освобожденных от наказания за мужество, были награждены: орденом Ленина – 1, Отечественной войны 2-й степени – 1, Красной Звезды – 17, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» – 134.
Но в наградных делах штрафников, по наблюдениям участников войны, были свои нюансы.
И.Н. Третьяков:
Вот насчет наград при отбытии срока – этого у нас не было. Мы пытались представлять к ним, но нам ответили: «Штрафник искупает свою вину, за что же его награждать».
Вообще-то такой отказ был прямым нарушением Положений о штрафных батальонах и ротах в части, касающейся представления отличившихся переменников к государственным наградам. Но, вероятно, кто-то перестраховывался, рассуждая попросту: за то что не представил бойца к ордену или медали, голову не снимут, а вот если необоснованно представил – могут и взгреть.
По-разному командование фронтов, армий относилось и к награждению постоянного состава штрафных частей. В одних случаях за критерий брался сам факт геройства, в других же – командный состав словно ощущал на себе некую тень, отбрасываемую подчиненными штрафниками.
А.В. Пыльцын:
Командный состав батальона в основе своей был награжден орденами. Мой друг Петя Загуменников (командир взвода ПТР. – Ю.Р.) получил орден Отечественной войны 2-й степени. Бывший тогда командиром комендантского взвода, охранявшего штаб батальона, Филипп Киселев (к концу войны он уже стал подполковником, начальником штаба батальона) был награжден второй медалью «За отвагу». Кстати сказать, в командирской среде батальона медаль «За отвагу» расценивалась как высокая награда, примерно равноценная солдатскому ордену Славы. Командиры рот Матвиенко и Пекур получили ордена Красного Знамени, а этот орден считался одним из главных боевых орденов...
А я и еще несколько офицеров в этот раз были обойдены наградами. Наверное, мы еще недостаточно проявили себя. Зато вскоре приказом командующего фронтом генерала Рокоссовского мне было присвоено звание «старший лейтенант». Это я и воспринял как награду. (С. 42.)
П.Д. Бараболя:
Трудные и страшные были те бои, но ни один командир нашей роты, кроме капитана Матвеева, не был награжден ни одним орденом. Лишь в 1944 году за участие в Сталинградской битве я был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. (С. 364.)
Е.А. Гольбрайх:
Офицеров постоянного состава штрафных подразделений наградами баловали не особо щедро... В наградных листах на них писали – «командир ударного батальона» (или роты), избегая слово «штрафной». Если в пехоте комбата, прорвавшего укрепленную оборону противника, могли сразу представить к высокой награде, вплоть до высшего звания, то на нас смотрели как на «специалистов по прорывам». Мол, это ваша повседневная работа и фронтовая доля. Чего вы еще хотите?
Проявлялись, бывало, и обычный субъективизм, а то и начальнический произвол. Что ж, на войне – как и в повседневной жизни.
А.В. Пыльцын:
А пришедший уже в Польше к нам комбатом вместо Аркадия Александровича Осипова подполковник Батурин (имени его моя память почему-то не сохранила) уж очень скупо представлял к наградам командиров рот и взводов и при этом выжидал, каким орденом наградят его лично, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не представить к более высокой награде. (С. 43.)
Необходимым кажется персональный разговор о Героях Советского Союза, воевавших в штрафных частях. Пока беремся достоверно назвать лишь два имени – командира штрафной роты Зии Буниятова и Владимира Карпова, фронтового разведчика, получившего геройское звание уже позже своей штрафной эпопеи.
З.М. Буниятов воевал с первых дней Великой Отечественной, да как воевал! В статье, опубликованной в 1942 г. в газете «Красная звезда», о нем писали как о «хитром, стремительном, как тигр» разведчике, «который в невероятных условиях, в сложнейшей обстановке мог четко ориентироваться, принести точные данные о численности, вооружении и дислокации противника и которого ценили в батальоне за романтическую душу и литературную Эрудицию».
Звезду Героя офицер получил за три месяца до окончания войны. В январе 1945 г. на 1-м Белорусском фронте он был назначен командиром 123-й штрафной роты. В этой роли он, как говорилось выше, отличился в Висло-Одерской операции.
В известном двухтомнике «Герои Советского Союза», вышедшем в советское время, не стали раскрывать его принадлежность к командованию штрафной ротой. Поэтому суть его подвига изложена там следующим образом: «Командир 123-й отдельной стрелковой роты (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) кандидат в члены КПСС капитан Буниятов З.М. отличился в боях на территории Польши. 14 января 1945 г. рота одной из первых в армии форсировала р. Пилица, захватила мост и удерживала его до подхода подкрепления в районе населенного пункта Пальчев (9 км юго-западнее г. Варка). Рота уничтожила свыше 100 и взяла в плен 45 гитлеровцев, захватила 5 шестиствольных миномётов, 3 орудия. 27 февраля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза» {110} .
В.В. Карпов воевал в 45-й отдельной штрафной роте на Калининском фронте, сформированной в ноябре 1942 г. в Тавдинлаге из заключенных, выразивших желание идти на фронт. Он был осужден на пять лет заключения по печально знаменитой 58-й статье, так что его освобождение – из разряда редких случаев, возможных разве что в исключительно тяжелой обстановке осени 1942 г.
Карпов отличился в бою, был освобожден из штрафной части и направлен в 629-й стрелковый полк (134-я стрелковая дивизия 39-й армии Калининского фронта) разведчиком. В феврале 1943 г. с него сняли судимость. Воевал Владимир Васильевич отменно, участвовал в захвате 35 «языков». В июне 1944 г. удостоился звания Героя Советского Союза [25]25
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. т. 1. с. 632. Разумеется, информации о пребывании В.В. Карпова в штрафной роте словарь не содержит.
[Закрыть].
По некоторым сведениям, к сожалению, неофициального характера, в штрафбате воевали и еще три Героя Советского Союза – Владимир Ермак, Михаил Кикош и Иосиф Серпер. Рядовой В.И. Ермак в июле 1943 г. в боях на Синявинских высотах под Ленинградом закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. В двухтомнике «Герои Советского Союза» он назван стрелком 14-го отдельного стрелкового батальона 67-й армии Ленинградского фронта {111} .
Но в прессе северной столицы В И. Ермака называют первым – и единственным – Героем, удостоенным этого звания в ранге штрафника посмертно. Автор санкт-петербургских «Вестей» настаивает, что для биосправочника биография героя была фактически переписана заново. Якобы 19-летний лейтенант-артиллерист Владимир Ермак попал в штрафбат за досадную оплошность: находясь в блиндаже, он чистил оружие, в результате чего произошел случайный выстрел в солдата, находившегося рядом. Военный трибунал приговорил Ермака к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет, но отсрочил исполнение приговора до окончания боевых действий, что автоматически означало направление молодого офицера в штрафной батальон. Владимир погиб в июле 1943 г. в первом же бою, когда штрафников бросили на Синявинских высотах в разведку боем {112} . Что биографию героя могли отлакировать, совсем не исключено. Но столь же ясно, что без тщательного и объективного исследования первичных архивных документов истину не установить.
Героем Советского Союза Михаил Иванович Кикош стал 30 октября 1943 г. По некоторым сведениям, он в это время командовал 3-й штрафной ротой 65-й армии. Официально же «командир роты 120-го стрелкового полка (69-я стрелковая дивизия 65-й армии Центрального фронта) старший лейтенант Кикош с ротой 15 октября 1943 г. в числе первых преодолел Днепр у пгт Радуль (Репкинский район Черниговской области), захватил и удерживал плацдарм, обеспечивая переправу подразделений полка» {113} .
В печати можно встретить в такой же связи фамилию командира 60-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона (12-я штурмовая инженерно-саперная бригада 51-й армии Южного фронта) Иосифа Серпера. То, что И.Л. Серпер – Герой Советского Союза, получивший это звание 19 октября 1943 г. за прорыв сильно укрепленной вражеской обороны на реке Молочной в районе Мелитополя, неоспоримо {114} . Но воевал ли он в штрафной части – об этом в справочной литературе не узнаешь. Впрочем, намек, кажется, есть. Из книги доктора исторических наук Ф.Д. Свердлова следует, что командир саперной роты лейтенант Серпер летом 1942 г. на территории Ростовской области попал в плен, вместе с группой таких же бедолаг бежал и смог выйти к своим. Потом была проверка особым отделом НКВД {115} . Известно, что именно таким путем многие побывавшие в плену оказывались в штрафбате. Тем не менее историк об этом прямо не пишет и, чтобы наверняка считать И.Л. Серпера бывшим штрафником, нужны, как и в случае с В.И. Ермаком, дополнительные архивные разыскания.