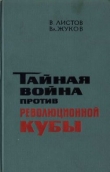Текст книги "Мелья"
Автор книги: Юрий Погосов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Семнадцатый день голодовки
Их было четверо. Они только что вышли из больницы. Все молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Прохожие могли подумать, что эти юноши натворили что-то и червь раскаяния точил их души…
Уже больше часа, как ушли эти юноши, а Оливин все так же стояла, прижавшись к стене, и смотрела на него. Казалось непостижимым, что он еще жил. Никто уже не сомневался, что дни его сочтены, даже, может, часы… Но наверняка он сам не верил в свою смерть. С каким презрением он выставил этих студентов, бывших его однокурсников!
Накануне вечером после бурных споров, когда дело чуть не дошло до рукопашной, Федерация университетских студентов приняла решение: Мелья должен прекратить голодовку.
Четырех студентов делегировали в больницу, чтобы они уговорили Хулио Антонио выполнить решение федерации, но чем окончилась их миссия, уже известно. Днем раньше такая же участь постигла делегацию Ассоциации служащих Гаваны, которая решила «спасти» его: силой увезти из больницы.
Сейчас он лежит в своей обычной позе: на спине. И молчит. О чем он думает? Многое она отдала бы за то, чтобы узнать его мысли. Найдется ли в них хоть немного места и для нее? Она знала, что для Хулио Антонио интересы друзей и его дела всегда были выше своих собственных, даже выше интересов семьи. Семья! Была ли у них семья? Какая кубинская семья не имеет детей? А у них до сих пор нет. Первые роды были неудачными. Будут ли у нее еще дети? Говорят, что ребенок привяжет отца к дому. Если бы так… Вечно эти собрания, митинги, демонстрации, полицейские налеты и, наконец, тюрьма. Борьба за социальную справедливость? Но сколько можно бороться? Год, два, три… всю жизнь… Это страшно… Всю жизнь… Для него нет ничего страшного – всю жизнь так всю жизнь. А что же делать ей, тоже «всю жизнь»?
Легкий стук вывел ее из раздумий: в палату вошел дежурный санитар. Неужели уже надо уходить? Может быть, разрешат остаться на ночь? Но служащий уже делает ей знаки. Упрашивать – бесплодное занятие. Только не дай бог у Хулио повторится сердечный приступ, что случился под вечер. Это был первый приступ за все дни голодовки. Пульс стал пропадать со страшной быстротой, кожа под скулами втянулась, казалось, что в теле у Хулио не осталось ни кровинки. Если бы не доктор Альдерегиа, у которого сердце чуяло неладное и он прибежал в больницу на два часа раньше намеченного времени, кто его знает, чем бы все кончилось. Густаво успел и ее успокоить, чуть ли не силой вылив в рот горькую микстуру. Но доктор сам тоже поволновался. По глазам было видно, да и руки его выдавали: слишком быстро они двигались, слишком. Они спешили опередить смерть. И только, когда лицо и грудь Хулио Антонио покрылись легкой испариной и задрожали и раскрылись губы, Густаво первый, а затем и она поняли, что страшное осталось позади.
А сейчас нужно уходить. Если бы она была уверена в могуществе всевышнего, то всю ночь простояла бы в церкви, лишь бы до ее возвращения ничего не случилось. Но она знала, что на свете есть только единственная сила, способная поддерживать жизнь в теле этого человека. Это его дух. Все остальное сейчас было бессильно.
Восемнадцатый день голодовки
Утро было обычным. Вошел санитар, ленивым движением сунул в рот больного термометр, сделал вид, что прибирает палату, затем вытащил термометр, записал на сером квадратике бумаги и, оглянувшись через плечо на лежащего, вышел. Так начался день.
Вскоре пришла Оливин. Она не произнесла ни слова. Только ласково, еле касаясь кожи, отерла пот с лица.
– Не волнуйся за меня…
– Я ничего… Ты вправе поступать так, как велит тебе твоя совесть, – губы ее дрогнули.
– Ну вот, – медленно протянул он. – Успокойся, пожалуйста, – и слегка сдвинул свою руку, словно пытаясь положить ей на колено.
Оливин судорожно схватила ее. Как немощна сейчас эта сильная рука…
– Я не буду… постараюсь, я знаю, тебе намного тяжелее, чем мне и всем нам. Ты выдержишь. Я буду все время около тебя..
Хулио Антонио ласково улыбнулся, и его пальцы шевельнулись, отвечая на рукопожатие.
Оливин захотелось говорить. Надо говорить, что-нибудь рассказывать, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей. Заставить его думать о другом. Но как это сделать? О чем?.. О политике? Нет, нет! И неожиданно для самой себя она произнесла:
– Ты знаешь, Росалия Бок тоже подписалась под петицией, посланной Мачадо, – сказала она и подумала: «Зачем это я?»
Когда-то в университете поговаривали о близости Росалии и Хулио Антонио, хотя близкие друзья Хулио Антонио знали, что это были просто сплетни. Так и получилось: в один прекрасный день все узнали, что он не разговаривает с Росалией. Истинной причины ссоры никто толком не знал. А дело было не в противоречиях амурного характера, как думали многие, а политического. Брат Росалии, тоже бывший друг Хулио Антонио, стал его политическим противником. Молодой Бок не разделял взглядов Хулио. В политических спорах сестра открыто поддерживала брата. Прямой и откровенный Хулио Антонио не мог дружить с человеком противоположных взглядов. Оливин вдруг стало горько и обидно за себя. Ведь она тоже не во всем согласна с ним, хотя и любит его и она его жена. Ей не по душе коммунисты, и он это знает. Она тоже за социальную справедливость, но она против убийств, кровавых революций. Всё должны решить образованные люди с помощью реформ. Но он верит в противоположное… Не ждет ли ее участь Росалии?
– Вот оно что… – медленно, словно продумывая каждое слово, пробормотал Мелья. – И она решила протестовать. Смотри-ка, так и в забастовщицу превратится, – улыбнулся он иронически.
– Знаешь, девочки они еще, эти студенточки с зубоврачебного факультета…
– Ничего, ничего, когда-нибудь и они нам помогут.
– За эту неделю в газетах было много протестов против твоего заключения и даже напечатали фамилии всех других арестованных руководителей рабочих.
– Ко мне уже заходили товарищи, много интересного рассказали. Сейчас готовят демонстрации по всей стране… Не я же один в тюрьме… Вот освободят…
Оливин смотрела на него нежно и даже жалостливо. Перехватив ее взгляд, он замолчал, а затем спросил:
– Ты, кажется, не веришь, что мы выиграем?
– Что ты, что ты! Прости меня, это я просто так… Что мы будем делать после того, когда ты вернешься домой?
– Что и раньше…
Ей захотелось крикнуть: «Не надо больше, Хулио! Я не хочу больше тюрем!», но она сказала:
– Ты знаешь, пришла телеграмма из Буэнос-Айреса. От имени жителей муниципалитет просит Мачадо о твоем освобождении. Даже в мексиканском сенате приняли решение ходатайствовать за тебя. – Она говорила быстро, словно боялась, что он ее перебьет. – А железнодорожникам удалось провести митинг и опубликовать в газете «Эль Диа» протест от имени 12 тысяч членов профсоюза железнодорожников. В этой же газете напечатали письма и телеграммы из Морона. – Оливин внимательно следила за Хулио, и ей показалось, что он засыпает. Она понизила голос: – Твой друг Альфредо Лопес начал большую работу в Национальной рабочей конфедерации. Он сказал, что письменный протест конфедерации – это только начало и что они проведут забастовки и митинги… – Хулио спал. Словно боясь, что он проснется, если она замолкнет, Оливин продолжала говорить тихим голосом. – Ассоциация студентов-медиков опубликовала письмо к президенту… Учащиеся из Гуанахая создали комитет и тоже послали телеграмму протеста…
Входная дверь внизу хлопнула с такой силой, что Хулио вздрогнул и приподнял голову. Оливин придвинулась к изголовью. Ее встревожил этот стук. Было слышно, как по лестнице бежал человек, нет, кажется, двое или даже трое… Вот топот бегущих уже слышен в коридоре. Ближе, ближе…
Оливин еще ближе подвинулась к Хулио, словно пытаясь заслонить его от неизвестной опасности. Рванулась дверь, и в комнату влетели Рубен Мартинес Вильена и Альдерегиа.
– Победа, Хулио, дорогой! Победа! – закричал Рубен, размахивая какой-то бумажкой.
– Ты свободен, Хулио! Ты свободен! – шумел Альдерегиа.
Вновь распахнулась дверь, и вошел кто-то с сияющим от счастья лицом, за ним еще кто-то. Каждый входящий считал своим долгом говорить громким голосом, перебивая друг друга и обращаясь к Мелье.
Оливин в первое мгновение растерялась: минуту назад она, кажется, не сомневалась в гибели Хулио, а сейчас в эту серую больничную палату вошла жизнь… Она как ошалелая смотрела вокруг, а затем бросилась к Хулио и обняла его, прижавшись лицом к черной колючей бороде. Спазмы сдавили горло, и она не могла произнести ни слова. Повернула лицо и посмотрела в его глубоко запавшие глаза, столько твердости и решительности было в их взгляде, что ей стало стыдно за свою недавнюю слабость и неверие.
Рубен, ласково улыбаясь, смотрел на друга. Он вспоминал эти проклятые 18 дней, когда каждый восход солнца таил в себе неизвестность. Но, кажется, все самое страшное осталось позади, надо думать уже о будущем…
Словно угадав его мысли, Хулио сказал как мог громче:
– Я не успокоюсь, пока не добьюсь освобождения остальных товарищей… Надо приступать к решительным действиям…
– Да, за других товарищей мы еще поборемся, – поддержал его Рубен. – Но тебе не опасно оставаться здесь? В Гаване?.. На Кубе?..
– Рубен, – заговорил взволнованно Хулио, – я поступлю так, как скажет партия… Ты должен… Все вы должны понять – я не один, я член партии… Если ЦК сочтет необходимым, я уеду.
– Друзья, – вмешался Альдерегиа, который, увлекшись общей радостью, на время забыл о своем подопечном. – Хулио еще в опасности: он свободен, но организм истощен…
Открылась дверь, и в палату вошли журналисты.
– Сеньор Мелья, что вы можете сказать по поводу вашей голодовки? – начал один из них чуть ли не с порога.
– Моя голодовка – это протест против несправедливостей, которые окружают нас всех, против социального неравенства. К моему протесту присоединились сотни тысяч людей, не только на Кубе, но и за рубежом. Сейчас, как никогда, я верю в идеалы, которые я отстаиваю. И я еще с большей энергией буду бороться за освобождение угнетенных не только на Кубе, но и во всем мире.
Последняя фраза была произнесена четким и твердым голосом.
Встревоженный Альдерегиа решительно вмешался.
– Сеньоры, все! Распоряжаюсь здесь я. Пока Мелья в постели, он в моей власти, – веселый доктор не удержался и улыбнулся. Он не мог приказывать: – Серьезно, друзья, ему так необходим отдых…
– Но разрешите, сеньор доктор… – попытался возразить один из журналистов.
Но тут не выдержал Рубен. Не скрывая своего раздражения, он прервал газетчика:
– Нас меньше всего волнуют интересы вашей газеты. Доктор прав, мы все уходим. Сеньоры, прошу за мной.
Все, кроме журналистов, подошли к Хулио, чтобы попрощаться с ним, и потянулись к выходу.
Палата опустела. Остались только Оливин и Альдерегиа. Они смотрели друг на друга и улыбались.
– Ну вот, пора собираться домой и нам, – сказал Хулио Антонио.
Было шесть часов вечера 23 декабря 1925 года.
Отъезд
Обстановка в стране с каждым днем накалялась. Кончался седьмой месяц правления нового президента, а обещанные народу блага оставались обещаниями. Правда, Мачадо не забыл посулов, сделанных в Вашингтоне, и щедрой данью раздаривал остров американским компаниям. Правительство объявило политику «возрождения» Кубы. Разумеется, все инакомыслящие не могли оставаться в безопасности. В стране усилился полицейский террор.
Раздавая налево и направо подачки (и получая их от североамериканских банков), Мачадо создал вокруг себя атмосферу продажности, коррупции. Тщеславие президента не знало предела. Пресса, послушная ему, называла его не иначе как «возродитель», «славный», «божественный», «спаситель кубинской нации». Лесть, оплачиваемая золотом, словно ядовитые испарения, проникала во все поры кубинской жизни, отравляя ее.
В Гавану усиленными темпами ввозилась «северная культура». Мачадо и его покровителей из Вашингтона больше устраивал рабочий с рюмкой рома в руках, чем со знаменем на демонстрации. К тому же казино и увеселительные ночные заведения обеспечивали постоянный приток 40–60 тысяч туристов в год, которые должны были оставлять в стране свои доллары. «Возрождение», пышно обставленное такими аксессуарами, как дома терпимости, казино и ночные клубы, ничего хорошего не могло принести национальной экономике.
Первый удар по ней был нанесен уже в 1925 году, и нанесла его Европа. В 1925 году Куба дала более 5 миллионов тонн сахара. Такой большой урожай был получен впервые за последние 75 лет. Но сбывать этот сахар становилось все труднее и труднее, так как за Атлантическим океаном было перепроизводство сахара. Правительство решило с помощью декретов сократить производство. Если от этого выигрывали в какой-то степени латифундисты, в особенности североамериканские, так как была также снижена закупочная цена на сахар, то крестьяне-батраки или арендаторы-колоны от всех подобных махинаций разорялись.
Правление предыдущего президента привело страну как раз к той черте, перейдя которую экономика ее должна была неудержимо покатиться по наклонной. Казнокрадство, взяточничество, синекуры, коррупция административного аппарата достигли при Сайясе ужасающих размеров. Новое правительство устами президента Мачадо заверило, что казнокрады будут изгнаны и все будет по-новому. Кое-какие мелкие воришки действительно были наказаны, ну, а более крупных не тронули. Разумеется, положение трудящихся масс нисколько не улучшилось. По острову прокатилась волна недовольства, в первую очередь она захлестнула крестьян – мелких арендаторов и батраков.
18 дней голодовки Мельи подлили масла в огонь: поднялись городские жители. И не только студенты, но и рабочие, служащие, интеллигенты. Коммунистическая партия и только что созданная Федерация трудящихся Кубы организовали широкое движение протеста, которое было поддержано не только на самой Кубе, но и за рубежом Борьба за освобождение Мельи сплотила различные слои населения Кубы и помогла коммунистам и Федерации трудящихся в их борьбе против ненавистного режима.
Силы возвращались медленно. Он потерял 35 фунтов веса и все запасы глюкагона. «Он съел самого себя», как сказал один из врачей.
Неусыпный Альдерегиа строго следил за тем, чтобы рацион питания рос в незначительных пропорциях. И, разумеется, при этом заставлял глотать лекарства и витамины.
Прошло рождество. За ним и день Волхов – праздник детворы. Каждый день в доме бывали знакомые и друзья. Приходил несколько раз Альфредо Лопес. Он был необычайно бледен и сильно похудел. Нервно постукивал носком ботинка о ножку стола и говорил мало и отрывочными фразами.
Разумеется, каждый день бывал Рубен. Иногда он уходил на кухню или в соседнюю комнату и о чем-то разговаривал приглушенным голосом с Оливин или Альдерегиа.
Дней через пять, когда Хулио начал выходить на улицу, ему передали содержание этих разговоров. Из верных источников друзья узнали, что ему грозила опасность снова угодить в тюрьму или даже быть убитым.
Полиция Мачадо продолжала следить за ним. Ей нужен был повод для того, чтобы снова засадить его за решетку, хотя освобождение под залог все равно влекло за собой последующее судебное разбирательство, которое наверняка окончилось бы тюрьмой.
Уговорить Мелью покинуть Кубу стоило большого труда. Первое время он не хотел и слышать об этом. Но в конце концов он сдался убежденный силой аргументов.
Отъезд был назначен между 15 и 20 января. Друзья спешили, надо было скрыться как можно скорее и незаметнее. Договорились, что он уедет один на каком-нибудь грузовом пароходе, предпочтительно иностранном, из любого порта, но только не из Гаваны. Оливин должна была приехать к нему позже. Но куда ехать? Одни уговаривали – в Мексику, другие советовали в одну из стран Центральной Америки, третьи говорили: «Не ломай себе голову, даже Марти жил в Штатах, езжай в Нью-Йорк», а сам Хулио иногда думал, а что, если взять да отправиться в Россию… Эта мысль казалась ему несбыточной. Вдруг он, Хулио Антонио, шагает по Москве, по Красной площади… Мавзолей Ленина… Первым делом он придет на эту площадь… Москва в мечтах казалась ему знакомой, близкой… Но все пока оставалось мечтой.
За организацию отъезда взялся Альдерегиа. Связался с верными людьми, договорился, что 18 января Мелья выедет из Гаваны в Сьенфуэгос.
Все было готово к отъезду, о нем знали только несколько самых близких друзей. И вот наступило 18 января. Утро было пасмурным и сулило долгий и нудный дождь.
Хулио проснулся бодрым и в хорошем настроении. В чемодан были уложены самые необходимые вещи. Только сели за стол, чтобы позавтракать, как задребезжал звонок. Оливин побледнела. Она встала и медленно пошла к двери. Недаром ей снились кошмары. Кто это мог быть? Альдерегиа, так рано? Она тихо приблизилась к двери и остановилась. Звонок задребезжал ожесточеннее.
– Кто там? – стараясь сдержать волнение, спросила она.
– Полиция! Сеньора, поскорее открывайте.
Хулио Антонио поднялся, сжав руками спинку стула, словно готовясь отразить нападение. Оливин повернулась, посмотрела на него и дрожащей рукой взялась за рукоятку замка. Отворилась дверь. Перед ней стоял полицейский.
– Здесь живет сеньор Никанор Макпарланд? Он же Хулио Антонио Мелья…
– Это я. – Хулио разжал руки, и стул, покачнувшись, ударился об стол. – Это я, что вам угодно?
– Вам извещение из суда. Вот распишитесь в получении.
Когда дверь захлопнулась за полицейским, Мелья уже прочитал извещение: он привлекался к судебной ответственности за нарушение запрета ректора бывать в здании университета. В качестве истца выступал сам ректор – доктор Фернандес Абреу.
Друзья правы: любой предлог мог послужить для его ареста.

Первая полоса газеты «Эль Камагуэйяно» с сообщением об освобождении Мельи под денежный залог. Декабрь 1925 г.
Ведь это было так давно… Тюрьма резко разграничила его жизнь, все, что было до ареста, казалось далеким прошлым. На самом деле это случилось осенью, месяца три назад. Да, в нарушение приказа ректора он приходил в университет. Ну и что же? Он совершил преступление? Надо немедленно ответить этому сеньору Абреу.
Сразу же после завтрака Мелья сел за письмо.
«Сеньор ректор университета!
Я получил из рук полицейского, который способен не только задержать преступника, но и уничтожить невинного, извещение, вызывающее меня в суд. Вы, достопочтенный ректор университета, как это гласят официальные документы, выступаете в качестве истца. Какой пример для преподавателей университета! Ректор, который не обладает ни духовной силой, ни авторитетом, ни достаточным красноречием, чтобы справиться с каким-то студентом. Он вынужден (ах, как тяжела тога ректора!) обратиться за помощью к судебным властям…»
Хулио поднял голову – мелкий рассыпчатый дождь дробно стучал по черепице соседнего дома… Удастся ли уехать незамеченным?
«…Никогда еще ни один ректор не подавал в суд на студента, чтобы отомстить ему за ничтожный проступок.
В чем же вы обвиняете меня?
В том, что я вошел в здание университета без вашего разрешения. Ну что ж, я это сделал, не спросив у вас разрешения. Но мне приказали прийти туда две тысячи студентов, которые хотели выслушать правду о всех вас.
В тот день вам не удалось запретить мое выступление. Студенты не дали вам говорить до тех пор, пока они сами этого не захотели. И тогда вы дали «честное слово», выступая перед ними, что меня не будут больше в чем-либо обвинять.
Но, несмотря на «честное слово», вы подали на меня в суд».
А что, если остаться и принять вызов? За спиной стояла Оливин. Он знал, что она догадывается о его мыслях. Остаться? Принять вызов… Нет, теперь и голодовка не поможет, они быстро расправятся с ним. Последнее время этот «тропический Муссолини» быстро и просто умерщвляет своих противников. А бороться можно и в изгнании.
«…Вам мало моего исключения, вы хотите снова засадить меня в тюрьму… Вы не ректор Национального университета, а полицейский инспектор, который хочет силой насадить в культурном центре железную дисциплину.
Назло вам желаю расцвета университетской революции».
Оливин молчала. Он встал и подошел к ней:
– Перешли, пожалуйста, это письмо. Надо собираться, скоро придет Густаво.
Сумерки наступили раньше обычного, так как небо с утра затянулось тучами. Хулио был уже одет, когда пришел Альдерегиа. Без долгих проволочек они попрощались с Оливин и спустились в ожидавшую их машину.
Южный поезд готов был уже отойти от перрона, когда доктор и Хулио с документами на имя Хуана Лопеса разместились на своих местах.
В дороге почти не разговаривали. Альдерегиа быстро заснул, а Хулио забылся тревожным сном, просыпаясь при каждом стуке вагонной двери.
Еще не рассвело, когда остановились у станции Родас. Здесь они сошли и встретились в условленном месте с братом Густаво Фелисиано Альдерегиа: он ждал с автомашиной. Остаток пути до Сьенфуэгоса надо было проделать по шоссе, чтобы не появляться на городском вокзале, где наверняка можно было столкнуться с полицейскими шпиками.
Крепкое объятие, рукопожатие, и Хулио садится в машину. Не ведали тогда друзья, что видят друг друга в последний раз.
Фелисиано молчал, напряженно всматриваясь в темноту, а Хулио, засунув руки в карманы плаща, откинулся на спинку сиденья. Так и доехали до Сьенфуэгоса. Окраинами, по загородному шоссе, обогнули город и минут через двадцать остановились перед невысокими чугунными воротами, за которыми виднелся дом с верандой и окнами, забранными узорной решеткой. Их уже ждали. Хозяин дома представился:
– Исидор Гонсалес, морской агент. Все в порядке. Завтра с утра сядете на транспорт «Камайягуа», он идет в Гондурас.
Уже три часа, как, укутавшись в плащ, Хулио стоял на палубе, прислонившись к туго натянутому стальному тросу. Грязный пароходишко, специализировавшийся на перевозке фруктов, вызывал у него омерзение. Он напоминал тюрьму на Прадо I. Капитан сказал, что через день они пришвартуются в гондурасском порту Пуэрто-Кортес. Уходить в каюту не хотелось, хотя ветер посвежел и плащ не спасал от колючих порывов. Уже позади остался остров Пинос. Справа тянулись берега родной Кубы – провинция Пинар-дель-Рио. Еще несколько часов, и растают в ночной мгле ее очертания. Когда он возвратится на родину? А вдруг никогда?..
В этот предзакатный час море расстилалось безжизненной синей пустыней. На какое-то мгновение Хулио показалось, что вокруг только вода и больше ничего. Нет ни этого захламленного пароходика, ни серого берега на горизонте. И вдруг метрах в двухстах, разрезая воду, показался черный блестящий полумесяц. Акула! И сразу же в памяти возник августовский вечер и море в заливе порта Карденас.