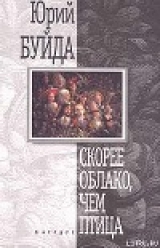
Текст книги "Кёнигсберг"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
19
Дверь открыла Катя. Обольстительно улыбнувшись, пропела:
– Маман решила, что вы пошли по полной программе, и потому сидит на работе. Позвонить?
Я поцеловал ее в щеку и попросил найти чего-нибудь покрепче – виски, например. А сам заперся в ванной и принял душ. Вообразил на минутку, как люди выше и ниже меня с таким же облегчением подставляют разгоряченные лица под режущие струи ледяной воды в предвкушении горячего чая либо стакана виски, и впервые испытал любовь ко всем делающим в эту минуту, что и я.
Босиком, в одних спортивных штанах, этаким отюрбаненным турком я ввалился в гостиную, принял из рук красавицы гурии стакан пойла со льдом и выпил его одним махом, а лед схрупал, как лошадь пожирает сахар – звучно и смачно. Поэтому вторую дозу Катя налила мне безо льда. Себе – коньяку в чай. С тех пор, как она переехала к нам, Катя подуспокоилась, движениям ее вернулась хореографическая плавность и цирковая законченность, а взгляды ее, которые она бросала то на меня, то на мать, были снисходительно-благостными. Ее бракоразводный процесс шел полным ходом, она выигрывала имущественные споры пункт за пунктом – причем этому способствовал тесть, презиравший сына и любивший невестку, – и она вновь почувствовала вкус к жизни, к игре в полунамеки, кокетству и гаданию по картам, ахам, вздохам, томному взгляду и полураскрытому ардисовскому Набокову на превосходных коленях, которые я с удовольствием изображал карандашом в разных ракурсах, попутно рассказывая ей о целых коллекциях непристойностей, оставшихся после великих мастеров – например, после Энгра, – которые лишь изредка выставляются для избранной публики…
Что я искал в старых фотоальбомах, которые Катя грудой вывалила передо мной на пол? Ведь не лица же заочно знакомых людей, частью знакомых по рассказу Муравьеда, частью – по рассказам Веры. То, что мне нужно было, оказалось во втором же альбоме, и больше меня уже ничего не интересовало.
– Это что? – спросил я, тыча пальцем в воротник плаща Макса с вышитым на нем якорьком. – Форма одежды?
– Ну что ты! – Катя сидела в опасной близости от меня, раскачивая едва державшейся на кончике пальца туфлей. – Мамина работа. Ему нравилось.
Все, что было непонятно, вдруг стало понятно.
Я захлопнул альбом и налил себе виски с горкой.
– Мои исследования благополучно завершены, – торжественно произнес я. – Результат налицо. – Чокнулся с Катиной чайной чашкой. – Теперь я могу рисовать твои коленки хоть до посинения…
– Опять коленки! – разочарованно протянула Катя. – И это все, что у нее было интересного, решит будущий исследователь?
– Катя! – не очень твердым голосом предупредил я. – Я знал, что рано или поздно это случится.
– Я ведьма?
– Нет, конечно. Ты типичная змея подколодная.
Когда Вера вернулась, было около полуночи. Я спал на диванчике в комнате Макса, подложив под голову фотоальбом – тот самый. Катя, как выяснилось, уснула в ванне.
Вера Давыдовна энергично подняла нас, заставила привести себя в божеский вид, разлила по фужерам шампанское и предложила выпить за повышение по службе: с сегодняшнего дня она стала первым заместителем начальника аптекоуправления. Катя расплакалась и бросилась обнимать мать: ведь когда-то именно эту должность Вере Давыдовне пришлось покинуть, чтобы отдаться уходу за Максом.
После шампанского Катю вновь неудержимо потянуло в сон, а мы решили подышать ночным воздухом. В задний карман брюк я на всякий случай сунул фляжку с виски. В голове у меня еще пошумливало, и, я знал по опыту, из этого состояния надо было выходить постепенно.
– Ты даже представить не можешь, как для меня это важно! – возбужденно заговорила Вера. – Дело не в прибавке зарплаты, тьфу на нее… Слушай, ты какой-то заторможенный! С Катькой поругались? Или что?
– Или что, – сказал я. – Я рылся сегодня в фотоальбомах… ну, мы и вместе их разглядывали, но сегодня я искал одну вещь… И нашел. Нашел плащ с чужого плеча, в котором Сорока явился на судебное заседание и зарезал того мальчишку. Этот плащ дала ему ты. И похоже, что именно у тебя он провел время между убийством и самоубийством, то есть когда его менты застрелили… Это так, Вера? И это ты ему сделала укол кодеина?
Она взяла меня под руку и, мягко выгнувшись грудью вперед, сказала:
– Я. А теперь давай выпьем, и я тебе кое-что расскажу…
– Это касается не только тебя – нас.
– Именно поэтому я тебе и собираюсь рассказать то, что много раз пыталась рассказать себе. Перед зеркалом. В ванне. В пустынной аллее. Авось теперь получится.
Она выпила, закурила и уверенно повела меня в кривые улочки, вымощенные тесаным камнем, – узкие, обставленные невыразительными домами, между которыми зияли пустыри да вдали горели навигационные огни порта.
20
– Когда я впервые надела лифчик, за мною стали подглядывать мальчишки с нашего двора, каким-то чертом узнававшие, что именно в этот день я буду принимать ванну. Отец поймал их на месте преступления, пальцем не тронул, но сообщил их родителям. А окно ванной закрасил белой краской с двух сторон. Мне он не сказал ничего. Когда мы переехали в другой дом, я была уже хорошо пропеченной девушкой и первым же делом познакомилась с местной достопримечательностью – Бичилой. Это был дебил двухметрового роста, который подошел ко мне – я сидела на скамейке и скучала, – снял штаны и стал мастурбировать. У него был огромный лиловый член. Я испугалась и убежала домой. Он меня не преследовал. Но мой отец каким-то образом обо всем узнал, и через день или два Бичила исчез. Я не знаю, отправили ли его в больницу, посадили ли на цепь дома, – не знаю! Но его больше не было. Я была защищена отцом, что бы я тебе о нем ни рассказывала…
– А ничего дурного ты о нем не рассказывала, – сказал я.
– Потом Макс… Тут и говорить не о чем! Как за каменной стеной. Да еще друзья – кто-то дружил с его отцом, кто-то – со старшим братом, военным моряком, погибшим на подлодке… Это все были люди хорошие, участливые и с положением. Мы ни в чем не нуждались. А потом этот случай с Максом… Дай еще.
Я протянул ей флягу.
– Никто не отвернулся от нас, – продолжала она, – но отношения стали иными. Они же понимали, что семья моряка ко многому привыкает, но у них ведь тоже были семьи… нужен был какой-то выход… компромисс… компенсация…
– Ты, – сказал я. – Компромисс и компенсация. И за это они готовы были платить. Но ты как-то умудрилась провести границу между дружбой и теми отношениями, за которые платят. Самсонов предлагал руку и сердце?
– И Нарбеков тоже.
– Ну ладно. А Сорока?
– Он вбил себе в голову, что обязан Максу жизнью. Не знаю, может, так оно и было. Он давал деньги и помогал всячески…
– Сбывал таблетки и ампулы? А Павленко знал об этом?
– Павленко? – В голосе ее прозвучал испуг. – Это же КГБ, милый, – нет, не думаю… Вот мы и пришли.
– Пришли?
– Здесь все и случилось, милый.
Я и не заметил, как мы обошли какой-то странный – кривой с носу – дом, похожий на узкий корабль, спустились вниз и оказались на довольно большом пустыре, кое-где по краям застроенном гаражами и сараями, между которыми виднелись огни порта. Сильно пахло морем, водорослями, слышался короткий, но частый шум прибоя.
– Морем пахнет.
– Из-за этого он и водил меня сюда, – сказала Вера, оглядываясь. – А я боялась. Здесь вечно шныряли какие-то типчики, в гаражах варилась своя жизнь – скупали и торговали краденым. Место известное… И один фонарь заметь – во-он там.
Далеко за гаражами и сарайчиками и впрямь горел тусклейший из фонарей, болтавшийся под ветром с жестяным скрипом, и это был единственный громкий звук на всю округу.
– Странно и глупо, – медленно проговорил я, не глядя на Веру. Столько мужчин, столько защитников, в том числе вооруженных и обладающих властью, и предположить не могли, что случится здесь… А Макс?
– Он бросился на них напролом, но его повалили, и он тотчас забился в припадке. – Вера вздохнула. – Он лежал вон у того гаража и рыдал. А потом начал икать.
– Вера!
– Он начал икать! – повысила она голос. – Мы же пришли сюда, чтобы не балет по памяти восстанавливать. Он начал икать и блевать. Кто-то из них стукнул его ногой в бок, и он затих, а я с ужасом подумала, что это даже к лучшему. Тогда Самсонов-младший и велел: "Раздевайся!" У них даже ножей не было, но другие двое с крысиными лицами… Я быстро сняла плащ и туфли. Кофту. "Кто первый?" – засмеялся тихонько первый крысеныш, положив руку на мое плечо. "Отвали! – приказал Самсонов. – Посмотри в кошельке. А ты раздевайся по-настоящему, и быстро, сука!" Он даже голоса не повысил, но мне стало ужасно страшно – я его испугалась больше, чем крысят. Я стала раздеваться – быстро, торопливо, путаясь там… лифчик, трусики… Я только убыстренно дышала, мне и в голову не приходило, что можно кричать, звать на помощь, а когда вдруг такая мысль мелькнула хвостиком, я отчетливо, как душевнобольная, поняла, что люди сбегутся, но не на помощь, а – поглазеть, потыкать пальцем, ущипнуть, плюнуть, посмеяться…
– Это же не Двор Чудес, – пробормотал я, – да и там были свои правила…
– Я уже больше ничего не боялась, мне даже холодно не было, я думала: скорее бы! Скорее! А он взял мои трусики и, глядя на меня искоса, стал… стал мастурбировать… Я стояла и ждала. Крысята радовались, что в кошельке оказалась приличная сумма, а он, весь выгнувшись и напрягшись – может быть, чтобы и мне было видно, – продолжал свое дело, пока не выдохнул. Аккуратно сложил вдвое и бросил мне. "А теперь надевай!" Я, видно, замешкалась, и он закричал: "Надевай мои сопли на свою жопу! Привет от родителей!" Я была как кукла. Все надела кое-как, они вдруг ушли, исчезли, я бросилась к Максу, дала ему таблетку под язык и повела между сараями к кривой улице мимо кривого дома. Вокруг не было никого. Ну, шныряли какие-то типчики, не обращавшие на нас внимания, кое-где в гаражах горел свет, и оттуда доносился то стук молотка, то будто червя железного крутили… шуруп, наверное…
Я взял ее под руку и повел наверх, мимо кривого дома, – да другого пути здесь и не было, – она всей тяжестью наваливалась на меня.
– Следующим был Сорока, – сказал я, когда мы наконец выбрались на ровное место. – Не милиция, а – Сорока. Отчаянный парень, сорвиголова, влюблен в тебя по уши – ну же, влюблен! Да вдобавок обязан Максу жизнью. А из милиционеров с их бумажками и "стой, стреляю", а потом раза три пух-пух в небо, и эта волокита унизительная, и это при том, что случись что… ну, не средневековое, но уж бандитское, мужицкое дело, для людей с якорями на запястьях и волосами на груди, в которых мышь запутается. Вроде Сороки.
– Он просто впал в ярость, – тихо сказала Вера. – Он по моим описаниям узнал всю компанию и потребовал пистолет… у отца был именной – я его не сдала, когда потребовали… потеряли, то да сё… Но пистолет я Сороке не дала.
– На рукоятке – фамилия отца?
– Нет, вдруг испугалась. Там же уйма патронов – каких же ужасов Сорока с ними натворит! Не дала. Тогда он раздобыл нож. И вскоре прикончил крысят. А потом пришел ко мне, принял ванну, переоделся и сказал, что ему нужен укол. Я сделала. Он не сказал, что пойдет в зал суда!
– Как сказал бы господин Смердяков, "вы-с и сделали". Догадаться же могла… Ладно. После суда снова пришел к тебе?
– Да. И сказал, что больше ни на что не способен. Он сказал, что увидел глаза того пацана и понял: все. Что все? Он снова принял ванну, дождался вечера. Выпил совсем чуть-чуть, куда-то позвонил раза два или три – не прислушивалась, не знаю…
– Один раз в милицию, – сказал я. – Место и время. А потом, не поцеловав, ушел.
– Не поцеловав. – Она испуганно посмотрела на меня. – Я никому из них не позволяла себя целовать… а он мог бы… Но не поцеловал.
– И дальше? – Я сел на пуфик в прихожей. – Дело Сороки, считай, закрыто. Остальное хуже, Вера. Наркотики. Через месяц, два или три они придут…
– Через две недели, – сказала она. – Это последнее дело. Люди с Кавказа. И я не пойду сейчас с повинной, Борис. После этого – пойду.
– Почему не сегодня?
– Я беременна. – Она медленно опустилась на корточки. – У нас с тобой будет ребенок. Может, и девочка.
21
Тем утром она осталась в постели и попросила Катю навестить Ядвигу. Катя безропотно оделась, наскоро мазнула меня по небритой щеке губами и сделала ножки бантиком.
– Это на счастье.
И исчезла.
– Теперь мне надо пять-шесть таблеток феназепама. Дня через два войду в форму, – бормотала Вера, думая, что я не вижу, как она прикладывается к бутылке. – На службу я позвонила – грипп-хрипп и прочие гарпии, терзающие душу.
Я высыпал в ладонь пять таблеток феназепама, не очень ловко подменив их двумя таблетками американского аспирина. Придвинул чай с лимоном.
– Пей. Сердцу полезно. Извилинам тоже. Кой черт тебя надоумил…
– Не обижайся. – Она взяла меня за руку и притянула к себе: от нее пахло валокордином и виски. – Я ревную тебя к дочери, и что ж тут такого. Гольдони какой-нибудь! Сказки-ласки-краски-глазки… Если у меня и тяжелое сердце, то эту тяжесть я почувствовала совсем недавно. Когда стала свободной от Макса. Я думала: вот они, крылья, вот она выкуклилась, взмахни крылами, – ан шутишь! И чем дальше в лес, тем меньше света, охраны, один ты и остался… У меня есть именной пистолет, отцовский, я его спрятала тяжеленная штука, вся с ног до головы никелированная и с надписью. Я сказала этим людям, что не знаю, где отец держал оружие. Я ничего не знаю про оружие. Зачем было врать? А – пригодилось!
– Зачем?
Она строго посмотрела на меня:
– Эти люди с Кавказа без оружия не приезжают.
– Ты сошла с ума. Прежде чем ты достанешь свою пушку, они сделают из тебя дуршлаг. Отдай его мне.
– В детстве я всегда делала ошибку в слове дуршлаг. На уроках писала «друшлаг». А пистолет я тебе не отдам. И не ищи! Это, в конце концов, подло: я тебе последнюю свою тайну открыла, а ты…
– Я не стану искать, – успокоил я ее. – Но почему тебя тянет в пасть дьявола? Одним делом все не кончится. Ты повиснешь у них на крючке – и поехали малина да калина!
– Я всегда думала, что и девушка на гравюре в Максовой комнате тоже в объятия нечистой силы бросается. Ведь Голландия… ну, Германия… Все чин чинарем: сватовство, шитье платья, перебор драгоценностей, контракт, церковь… Ведь так?
– В большинстве случаев. Но бывали же и исключения.
– Ага! Чтобы немка босиком бросилась в темную тьму, не прихватив с собой даже свечи, бросив свой спинет, уют, тени эти уродливые… Может, тени она и испугалась? Почему картина будто пополам разрезана? Художник испугался? Вряд ли он сочинял нравоучительное произведение. По памяти писал. Слезами обливался. И чертову морду просто не захотел намеком изобразить, ибо – мерзость! – Она выдернула из-под кровати бутылку и хлебнула. – Хочешь, без пяти минут? Или боишься этих самых пяти минут? Царь Лесной схватит за волосья, взнуздает и запряжет в свою повозку всех этих дурищ – и айда! айда!
Я взял ее за руку:
– Прошу и умоляю: не пей.
– Не могу! Расскажи про бабушку! Свет в окошке…
Я рассказывал ей о бабушке, пока Вера не уснула.
В какую тьму бежала та полнотелая девица с гравюры, бросив туфельки, недозвучавший спинет, тепло и уют своей крохотной комнатки, – ну не тени же она испугалась! – куда? Кто ждал ее там? Пригожий гвардеец? Соседский бакалейщик со склеенными в колечко усиками? Или и впрямь – сам дьявол, Не-Знаю-Что, Тутейший…
Утром я осторожно поинтересовался у Кати, говорила ли когда-нибудь ее мать об оружии в доме. О пистолете. Именном.
– Она говорила, что папу таким наградили, – и амба. Я опаздываю. Бояться не будешь?
– Буду. Где она?
– Чулки стирает. – Чмок. – Я цинична? Раз уж задан вопрос, ответ не требуется. Ревет, наверное.
И улетела вниз, скользя рыжей варежкой по перилам.
Я увяз. В чем? Точнее, конечно, в ком, ваше гнилейшество.
22
Когда я снова объявился в квартире, Вера ничуть не была похожа на реву-корову. На столике перед ней стоял узенький бокал с рислингом. Губы ее были слишком накрашены. Я посчитал последние деньги в кармане: на пристойный букет роз не хватит.
– Роз не хватает, – вздохнул я. – Ты молодец.
– Ночью вдруг разом раскрылись все розы, накрыв нас запахом густым, сладким и невыносимым, как запах разложившегося трупа. Мне это приснилось.
Она закурила тонкую сигарету.
– Ты не предатель, – сказала она. – У меня маниакально-депрессивный психоз. Это пройдет. Катя тоже не предаст. Остальные…
– Значит, – перебил я ее, – у тебя есть пистолет и ты не хочешь отдать его мне, лучшему в мире стрелку?
Она качнула головой: нет.
Я вышел из здания университета на улице Университетской и прислонился к одной из тех бетонных штук, которые не позволяли задохнуться в его подземелье генералу фон Ляшу, последнему коменданту Кёнигсберга. Где-то здесь и подписал он капитуляцию. Я понимал, что единственный способ спасти Вере жизнь – позвонить полковнику Павленко. Может быть, встретиться с ним и все рассказать. Но стать стукачом, предателем… Стоп! А разве ты уже не предал Веру, с наслаждением трахая Катю? Веру сдать Павленке – годика этак хотя бы на три, и нба тебе – живи с красавицей Катей, в которой ты с каждым днем открываешь все больше достоинств, все больше будущего, а в Вере только мрак, мрак и прошлое…
Я спустился в пивбар под гостиницей «Калининград», спросил две кружки светлого и, выслушав: "У нас в сортире курят", закурил сигарету. Никакой Конь тебе не подмога, и никакая бабушка – не в помощь. Собственного брата не уберег, одинокого лжеца, – чем ты лучше Костяна? Почему тебя – проносит мимо? Почему-то вдруг вспомнилась собачка, прятавшаяся от нас в послевоенных развалинах, старая немецкая псинка. И пока взрослые вывозили мебель, бронзу, хрустали и вообще грабили Восточную Пруссию как хотели, мы, пяти-шестилетние мальчишки, выслеживали эту грязную собачонку, оставшуюся от немцев и наверняка знавшую про их главные клады. И это были не мельхиоровые супницы, не бильярдные столы, не книги на незнакомых языках, от которых при погрузке обычно избавлялись, – нет, это было настоящее сокровище. Мы видели, что она брюхата и голодна, и по очереди таскали ей еду, а один из нас – тоже по очереди – литровую бутылку молока. Что-то свыше надоумило нас: она будет рожать на том самом месте, где и спрятаны сокровища сокровищ. Она же не может на это время отлучиться со своего поста. И наконец мы ее застукали. Она забралась в полуразгромленный подвал с покосившейся бетонной плитой, забралась на ватный матрас, и нам пришлось присутствовать – не отворачиваться! – при появлении всех четверых щенят. Мы подтолкнули к ней огромную миску с литром молока, и такая маленькая собачка лизнула меня в знак благодарности языком – только меня. А я посмотрел в ее светящиеся в полумраке глаза и быстро-быстро полез наружу. Мои товарищи волей-неволей последовали за мной и тотчас набросились на меня. "Если кто хочет драться. – Я снял ранец. – Хоть вместе, хоть по одному". Они не понимали случившейся со мной перемены и переглядывались. Драться-то из-за чего? "Никаких там сокровищ нет, – продолжал я. – И никогда не было. Дело в самой собачонке и ее щенках. Мы спасли ее от холодной и голодной смерти. Когда-нибудь, как говорит моя мама, это нам зачтется, как зачлась одному отпетому бандюге луковка".
И я рассказал им веселую историю о злой бабе и луковке и о Боге, который дал несчастной последний – да уж куда! за последним шансом шанс! а та, гадюка, им не воспользовалась. После чего мы пришли к выводу, что пятеро собачат будут покрепче гнилой луковицы и в случае чего спасут нас как миленьких. Мы носили им еду, какую удавалось урвать от школьных завтраков, псы подрастали, делили городок на районы, как это у них принято, и только старая Немка долго еще бегала только за мной, пока не померла от старости. Я уж и думать забыл о луковке, но однажды вдруг ни с того ни с сего – отец уже лежал в больнице – вспомнил эту детскую историю, и старик после смерти матери он в полтора года стал старым стариком – расплакался, и извинялся, и сказал, что это мир спасет, и вообще я дурак-дурачина, а плакал он светлым-светло, и значит, есть Бог, и мама жива, и собака Немка жива, и живо оно, живо! "Что – оно?" – спросил я на прощание. "Оно – так, мусор, слезы, память, жизнь, убийства даже, грязь всякая да вон кусок хлеба под ботинком, жизнь дурная, любовь уничтожающая – тоже оно, а живо! живо! живо, Борис, живо-о-о!"
– Что будем? – раздался скрипучий голосок ангела сверху.
– Четыре пивка – для рывка! – прогудел Конь. – Отвальная?
– Почти. – Я испытал огромное облегчение при виде этой слегка исхудалой человеческой лошади с набрякшими подглазьями. – Красный диплом?
Гена горделиво повел плечом:
– Кто бы сомневался! Один Артем Аршавирович Гатинян задал философский вопрос: зачем?
– А ты?
– А я говорю: чтоб. Понимаешь? Ну, ты понимаешь? Как насчет большого маршрута?
– Маршрут отменяется.
И я довольно откровенно поведал Коню историю последних месяцев, не умолчав даже о мыслишке-хвостишке сдать Веру гэбэшникам.
– Катя – на твоей, брат, совести, а вот насчет ребят из конторы не волнуйся: дураков там, прямо скажем, маловато, и я буду удивлен, если Вера с твоим Кавказом у них не под колпаком. Все равно возьмут. Ну а ты… Ты хоть видел плакат с твоей фотографией на весь первый корпус?
– Его разыскала милиция?
– Утвердили диплом в качестве диссертации, кандидат ты мой наук филолухических. Уипьем уодки, как говаривал Черчилль. – Он вынул из кармана пол-литра и налил в пивные кружки. – Ну-с!
Выпили. Заглотнули пивом.
Официантке, двинувшейся было к нам с решительными намерениями, Гена только вяло махнул. Буфетчица поймала ее за нарядный передник и что-то энергично объяснила.
– Объясняй дальше! – Конь закурил папиросу. – Тесть научил – а приятно бывает «беломорину» всадить под выпивку. Ну? Ты, главное, скажи: одна она дома или нет?
– Это не главное! – взвился я. – Главное через неделю начнется.
Гена встал.
– Такси! Лимонад! – Он схватил только что вошедшего мужика за тельняшку. – Для меня – сейчас – Каштановая Аллея – молнией!
Лимонад оттянул тельняшку на пузе и кисло кивнул.
– Она тебе рада будет, – сказал я, клацнув при этом зубами.
Милицейский патруль остановил нас на перекрестке.
Гена выскочил из машины к сержанту: "Жареха!" Объяснив, что малыш (то есть я) этот ее муж, мы подошли к подъезду, когда сверху кто-то крикнул:
– Четыре машины «скорой» – со свистом!
– Помнишь Верхнее озеро… с усиками…
Мы уверенно вошли в подъезд и поднялись на этаж.
– Я здесь живу, – сказал я усатому.
– Документы!
– Кто ж с документами на рынок ходит! – попер Гена.
– Пусти его, Рагоза. – В гостиной на полу сидел полковник Павленко. В углу, лицом к батарее отопления, двое скованных наручниками – лицами вниз. Третий повис в пробитой раме балкона. Из носа у него капала черная кровь. Угол балконного стекла вошел глубоко в живот. На лбу чернело пятно от выстрела в упор. – Дни считали, по часам мерили, а она им свой домашний телефон сообщила – и ваших нет! Вера там…
– Все! – Павленко встал, врач подставил плечо. – Думаешь, сам не дойду до машины?
– Плюсну соберем – ручаюсь, – сказал врач. – Но стреляли-то голубчики разрывными. Так что держите ногу на весу и не дай господь наступить на пятку…
– Гниль. – Павленко протянул руку. – На свадьбе вроде с тобой знакомились – второй раз не повредит. – Стиснул руку Гене. – А ты, боец, и нам бы пригодился. Захаровские и на суше в цене.
– Два сквозных в легкое, – вытянувшись, доложил Конь. – С тех пор арабского солнца терпеть не могу.
– Где Вера? – наконец спросил я.
Полковник взял у врача полотенце и принялся тщательно отирать лицо.
– Повторяю: в ванной.
Она лежала в ванной, полной крови.
– Нервы, – сказал тихо врач за моей спиной. – Какая красивая…
– У нее гравюра есть одна, – зачем-то сказал я, – девушка бросается вон из комнаты в темноту. К кому? К чему? Зачем? Однажды она сказала: женщины уходят навсегда – это только мужчины возвращаются. Меня рядом не было. Куколка…
Врач отвел глаза.
– Разрешите, у нас тут…
Конь толкнул меня к выходу:
– Катю перехватить! Ну!








