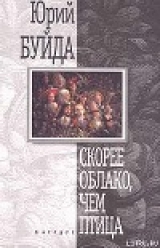
Текст книги "Кёнигсберг"
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
4
Несколько дней я не отваживался звонить Вере Давыдовне, а когда наконец позвонил, трубку взяла дочь Катя. Я объяснил, в чем дело.
– Как вы познакомились? – изумилась Катя. – И почему она меня не попросила это сделать?
Я терпеливо объяснил девушке, что лучше меня эту работу в этой жизни и во всем подлунном мире никто выполнить не сможет и именно поэтому ее мать обратилась к лучшему из лучших.
– Меня зовут Борисом, – завершил я свой монолог.
– Да это-то я знаю, – разочарованно протянула она. – Наслышана.
– О чем?
– Ну, что вы чуть ли не чемпион Союза по плаванию и фамилия у вас как у Фолкнера…
– Сейчас я плаваю только в ванне, – заверил я девушку, – а фамилия моя – Григорьев-Сартори. Без «эс» в конце. В точности как у Фолкнера. Ударение на предпоследнем слоге. Впрочем, как пожелаете.
– И это вашего брата…
– Моего.
– Извините, я не хотела вас обидеть, – резко сменила тон Катя. – Но сейчас ваша встреча невозможна. – Она сделала паузу, а я молчал. – Вчера мы похоронили папу. Сердце. Ну и вот… Впрочем, мы же с вами видимся иногда в университете – можете передать бобину мне, а я…
– Спасибо, – холодно отказался я. – Я позвоню, когда поуляжется… Может, через месяц. Или через два.
– Это так важно? – удивилась Катя. – Речь ведь о какой-то…
– Важнее, чем вам представляется. До свидания.
В первую минуту мне даже понравилось, что вместо «кажется» я употребил слово «представляется».
5
Впервые после смерти Макса мы встретились с Верой Давыдовной в зале заседаний суда, и к тому времени я уже знал, что мы встретимся там, и знал – почему. Рассказал Конь.
Стоял холодный октябрь, прошел почти месяц со дня смерти Макса, но я все не отваживался набрать номер и поздороваться с нею. Я не знал, кем, а точнее – чем в действительности был для нее муж. Романтический миф о преданной супруге замечательного парня, всеобщего любимца и отличного штурмана, волею судьбы ставшего калекой, спасал, может быть, от цинизма бичей и прочих опустившихся завсегдатаев киоска Ссан Ссанны. Тешил он и хлебнувших лишку первокурсников, приходивших сюда, на угол Каштановой Аллеи, чтобы дождаться финальной реплики Макса насчет праздника, который всегда с тобой, и поглазеть на его загадочную красавицу жену, что, конечно же, имела полное право сдать инвалида в больницу для опытов или в дом инвалидов, – и кто бы ее осудил? – но не сделала этого, жертвуя – факт! жизнью (а ее жизнь – это красота) и всем-всем-всем ради мужчины, который и умел-то – с таким многозначительным видом – выговаривать название известного романа, занюхивать водку вечной баранкой, пришитой к изнанке лацкана, и носить форменную фуражку флотского офицера. А что еще он умел? Бог весть. Мне пришлось побывать в психиатрической больнице и пообщаться с тяжелыми больными, помутившееся сознание и существование которых поддерживалось лекарствами из списка А, и знаменитый коктейль из галоперидола с аминазином, которым по приказу Андропова глушили диссидентов (а что мы знали о них в своей глухой провинции?), был для многих спасением. Во всяком случае, для моего отца. Я вспоминал его тупой, отсутствующий взгляд, плохо выбритую дрожащую нижнюю губу какого-то бумажного – белесого – цвета, его замедленную скачкообразную речь, иногда становившуюся бессвязно-торопливой, – и, думая о Вере Давыдовне и Максе, представлял их один на один в полутемной квартире, среди убогой мебели, – красавица и чудовище? – и сердце мое сжималось, как при виде окровавленного топора, которым только что убили человека. Близкого, родного человека. Эти вечера, наполненные немым отчаянием… Эти бессонные ночи рядом с человеком, который плачет во сне или вдруг начинает внятно декламировать Шекспира, как кукла, упавшая за диван, забытая и вдруг ни с того ни с сего напоминающая о себе тоскливо-плаксивым вскриком "ма-ма!", и ты вдруг замираешь в полуиспуге и тотчас понимаешь, чей это голос, и со вздохом достаешь игрушку из-под дивана хоккейной клюшкой, чтобы вернуть ее на место и долго вспоминать – сигарета за сигаретой – о том дне, когда зачем-то вынул ее из шкафа, где хранились вещи матери, но так и не вспомнишь, почему захотелось увидеть это реснитчатое чудовище с большой головой и детскими пластмассовыми ногами…
По субботам мы с Конем по-прежнему пили пиво у Ссан Ссанны, которая подливала в кружки горячей воды из чайника и жаловалась на свой мочевой пузырь: "Сейчас он у меня величиной с сердце, а раньше был не больше теннисного шарика". Озадаченные ее спортивно-анатомическим сравнением, мы устраивались за своим столиком, посреди которого, как всегда, стояла щербатая общепитовская тарелка с серой солью, и меланхолически тянули пиво, пытаясь вообразить сердце размером с мочевой пузырь, переполненный кисловатым пивом.
– У нее глисты, – сказал Конь. – Бабушка говорила, что все печали оттого, что глисты умеют добираться до сердца. – Он прижмурился. – Ты же можешь вообразить сердце, источенное глистами и напоминающее с виду трухлявый пенек… – Испытующе смотрел мне в глаза и со вздохом констатировал: – Не можешь. Я тоже.
– Давно не видел Сороку, – сказал я, глядя на лавочку у входа в кочегарку. – Запил?
– Я спустился как-то к нему, а там – баба. – Конь показал мне свою левую ладонь. – Голая, пьяная и с лицом как моя ладонь.
У него была очень выразительная, даже пугающе выразительная ладонь с глубокими кривыми линиями судьбы, пересеченными тремя лиловыми от холода шрамами, и с багровыми буграми, которые знатоки натальной науки называют холмами.
– Говорят, он исчез. Никто не знает, где он живет. – Конь залпом допил кружку и придвинул вторую. – Наши ребята с юрфака, которые проходят практику в милиции, вчера рассказали мне о ней, – (он кивнул в сторону балкона, где догнивали черные зонты и брезентовая куртка), – и Максе. Когда они гуляли вечером, на них напала шпана. Двое или трое бугаев отобрали у нее сумочку и попытались изнасиловать на глазах у мужа.
Я сжался.
– Когда подъехал наряд, Макс был без сознания и с пеной на губах после припадка, а она – совершенно голая и, кажется, избитая. – Лицо Коня было задумчиво-бесстрастным. – Ей повезло. Но она наотрез отказалась писать заявление о покушении на изнасилование. Ни в какую. Однако побои, порезы и прочие детали были официально зафиксированы в больнице. Да и то не сразу согласилась. Менты чуть не силком затащили ее в травмопункт. В конце концов, надо же было оказать ей и мужу первую помощь. – И внушительно добавил: – Это наш долг, мадам. И прочее.
– Дело об украденной сумочке? – попытался я пошутить.
– Пока квалифицировали как "разбойное нападение". Одного из придурков она описала очень живо – известная ментам личность, – и его сразу взяли. Даже не отпирается насчет сумочки.
– Ну да, – кивнул я. – Отпирается насчет изнасилования. За сумочку дадут полгода исправработ, а за изнасилование – сколько?
– Вообще-то верхняя планка – расстрел. Высшая мера социальной защиты, как говаривали наши деды. В этом случае, конечно, никакого расстрела, но, я думаю, не меньше пяти лет при хорошем раскладе карт. Однако она…
– Наотрез, да. – Я закурил. – Суд будет?
Конь зачем-то посмотрел на часы и сказал:
– Через месяц. – С жалостью посмотрел на меня: – Изнасилования нет, поэтому дело слушается открыто. Дежурное блюдо. Две раны на ее теле признаны ножевыми ранениями. Скорее – царапины. Так что исправработами и шестью месяцами этот гад никак не отделается.
– Этот?
– Остальные убиты. – Конь тщательно размял папиросу и со смаком закурил. – Оба – ножом. Очень большим. Очень. Двумя ударами – один в сердце, второй – в горло. Или наоборот. – Он спокойно выдержал мой взгляд. – Ссан Ссанна не знает, где он живет. Скучает без него. После встреч с Андреем у нее прекращалось жжение в мочевом пузыре, он даже сжимался до размеров теннисного шарика.
– Кто? – тупо спросил я, бросая окурок в тарелку с солью.
– Мочевой пузырь.
Спустя месяц я отправился в суд, не предупредив Коня. До районного суда – двухэтажного невзрачного зданьица – я добрался пешком: оно располагалось в пятнадцати минутах ходьбы от нашего общежития. Дело слушалось на первом этаже, где сизолицые рабочие в коридоре лениво обдирали со стен и потолка штукатурку, вяло поругиваясь с судейскими и пришлыми вроде меня.
С утра шел серый дымный дождь, в зале было сыро, холодно и сумрачно, но включать лампы из-за ремонта было нельзя. Милиционер курил у приоткрытого окна, но дым упрямо слоился в зале. Я устроился у двери и стал разглядывать Веру Давыдовну с дочерью, а когда толстый милиционер с пухлым детским лицом ввел подсудимого, переключился на него. Это был молодой человек моих лет, невысокий, с ярким румянцем на щеках и чахлой льняной бородкой, которую он непрестанно почесывал, оглаживал и всячески теребил. Он был сыном известного в городе художника-графика Самсонова, незадолго до этого покончившего с собой – как утверждали, после чудовищного скандала с женой и многодневного запоя. Выяснилось, что это был второй день процесса, накануне в суде уже слушали свидетелей, потерпевшую и подсудимого. Прокурор в форменном мундире и косоплечий адвокат в очках на кончике утиного носа бубнили по бумажке: один требовал примерно наказать, другой переквалифицировать дело из "разбойного нападения" в "злостное хулиганство". У меня болели уши, и иногда приходилось напрягаться, чтобы разобрать их слова – тоскливо-необязательные, тусклые и будто отдающие вчерашними щами или прогорклым мылом. Судья – женщина дородная и вся в бородавках – казалось, дремала. Мужчина в долгополом плаще с длинными рукавами (явно с чужого плеча) – в зале все сидели в верхней одежде, включая судью, – бесшумно встал со своего места в темном углу, неторопливо проплыл между рядами и медленно, словно преодолевая сопротивление мутной стоячей воды, приблизился к подсудимому, рядом с которым дремал со склоненной к плечу головой милиционер, – только тогда я узнал в нем Андрея Сороку, – передернулся, словно от внезапного приступа озноба, и ударил человека с льняной бородкой ножом в горло. Удар был такой силы, что кровь брызнула на дремавшего милиционера. Сорока изогнулся, проворачивая лезвие что-то хрустнуло на весь зал – в горле подсудимого, и отшатнулся. Замер на мгновение. Потянулся рукой к милиционеру – тот отшатнулся, ударился боком в поручень ограждения и стал сползать в обмороке на пол.
– У вас же кровь на лице, – проговорил Андрей укоризненно.
Судья закричала.
Вера Давыдовна встала, прижав к груди что-то белое (кажется, носовой платок).
Милиционер у окна прижался к стене, и даже с моего места было видно, как его бьет крупная дрожь.
Я замер, вцепившись в деревянную спинку кресла, стоявшего передо мной.
Сорока в три прыжка оказался у двери – хлоп – и исчез.
– Да поймайте же его! – крикнула судья.
Сержант у окна вдруг очнулся и трусцой побежал к выходу. На лице его истерически билась жалкая улыбка. Одной рукой он вцепился в кобуру, а другой размахивал перед собой, словно разгоняя дым.
Когда он выбежал из зала, я встал и подошел к Вере Давыдовне. Мы поздоровались, но, кажется, она не узнала меня. Катя испуганно улыбнулась и протянула узкую руку, с интересом разглядывая меня.
– Здравствуйте, Борис. Ну и макабр, а? Спасибо, что пришли. Не ожидала… Мама…
Судья вдруг с грохотом опустилась в кресло и захохотала басом.
– Я поймаю такси, – предложил я, стараясь не смотреть на сжавшуюся и утратившую дар речи Веру Давыдовну.
– Да нам идти-то… – начала было Катя, но я уже торопливо шагал к выходу.
В коридоре без энтузиазма матерились строители в грязных своих балахонах. Их коллега с заляпанным краской ведром спускался со второго этажа. В глаза мне бросились его ботинки. И плащ с чужого плеча с тусклым якорьком, вышитым в углу воротника.
– Проходи, проходи, глазастый, – проворчал рабочий голосом, похожим на голос… – Давай-давай! – оборвал он меня на полумысли. Но на прощание подмигнул: – Мы живы, пока бессмертны.
Я сделал рожу.
Он ухмыльнулся.
Похоже, он был здорово пьян, но водкой от него не разило.
И, помахивая ведром, скрылся в серой полумгле за поворотом коридора.
Я вышел из здания, возле которого бестолково суетились милиционеры, все, как один, придерживавшие рукой кобуру. Ну да, разумеется, преступник должен бежать с места преступления. Кто бы сомневался.
– Такси! – закричал я дурным голосом, размахивая руками. – Мотор!
6
– Моп твою ять, – сказал Конь, выслушав мой рассказ о судебном заседании и поступке Андрея Сороки. – Вот зараза. – И добавил тоном ниже: Пригодился, значит, мой ножичек.
– Я так думаю, что сейчас этот ножичек надежно заделан цементом в какой-нибудь щели под носом у судей и ментов, – предположил я. – Ты будущий юрист…
– Но и большой дурак, – перебил меня Конь, – и мне хотелось бы на какое-то время в этом качестве и остаться. Ага?
На следующий день в университете только и разговоров было что о "диком процессе" и героическом поступке неизвестного мстителя, вступившегося "прям как у Фолкнера" – за поруганную честь женщины, презрев законы человеческие – "прям как у Клейста" – ради высшей справедливости.
В общежитии к нам в комнату ломились любопытные, и Конь велел мне собираться: "Пиво пить пойдем".
По пути к киоску Ссан Ссанны он только раз открыл рот:
– Ты говоришь, что подсудимый этот даже не захрипел?
– Ни звука. Только хрустнуло что-то.
Заказав четыре пива, мы пристроились за столиком, который лучше других был освещен уличными фонарями. Конь достал из кармана бутылку водки, из другого – химический карандаш, лизнул свою жуткую ладонищу и написал: "Он сюда явится". Я машинально кивнул, боязливо поглядывая на поллитровку. Гена покачал головой:
– Не-ет, брат, сегодня мы с тобой будем говорить на отвлеченные темы, что в переводе на русский означает…
– Напьемся, – мрачно завершил я его тираду. – Я ж не против. Но при условии, что за героя нашего мы пить не будем. Не надо ему почестей и чести, Гена, – что случилось, то и случилось. Не литературь.
Он кивнул.
Первую мы выпили молча и не чокаясь, как на поминках.
– Знаешь, какие дела в основном рассматриваются в судах? – начал Конь, задумчиво жуя корку хлеба, посыпанную серой солью. – Девяносто девять с половиной процентов – мелкие хищения да драки. За весь прошлый год по области – шесть убийств, четыре изнасилования, одно разбойное нападение. На самом деле, конечно, чуть больше, статистику правят, и ты знаешь – кто и почему, но не сильно правят. И вот на твоих глазах серая статистика…
– Мглистая, дымная, серная, – вставил я.
– …превращается в ад кромешный. Преступник зарезан в зале суда. Милиционер в обмороке, другой – намочил в штаны. И судья хохочет, как какая-нибудь второсортная оперная дьяволесса. Преступник же, поймав на миг судьбу за узду, дышит где хочет, и в эти мгновения он – прав, черт возьми, а мы со своим правом – не правы. Но ведь это мгновения! Разумеется, незабываемые и все такое прочее. Я понимаю, почему ты не хочешь поднимать тост за Сороку. И я понимаю, почему мы с тобой не в силах его осудить. С одной стороны, случился фарс в аду на смех всем чертям, а с другой настоящая трагедия. Количество перешло в качество. И самое удивительное во всей этой истории – свершилась юстиция в том виде и смысле, который нам достался от предков, из темного прошлого. В прошлое не плюют. Тому, кто плюнет прошлому в лицо, оно плюнет в могилу. – Он запнулся, вытаращился: Ты почему не записываешь, брат?
К нам подошел Старина Питер в бескозырке без ленточек. Сгорбленный, руки в карманах черного бушлата, он смотрел то на водку, то на Коня.
– Как служба? – заискивающе поинтересовался он. – Греетесь?
– У тебя стакан с собой? – деловито осведомился Конь. – Давай налью и сваливай. Ага?
Питер выхватил замызганный граненый стакан, с которым никогда не расставался, и Конь не глядя плеснул ему водки.
– Зараза. Забыл… а, нет! Мы же не о героях, правда?
Я кивнул.
– Я понял, что происходит, – сказал Конь. – Андрей сейчас чувствует себя новобрачным. Женихом смерти пред лицом Господа. В высях горних тихо и спокойно, темно и хладно, и перед алтарем лишь двое, он и она, а Он, – Гена ткнул пальцем вверх, не сводя с меня взгляда, – присутствует всем весом своего отсутствия. Ну не явится же Он им – не по чину. Однако они знают, что Он здесь, и ждут лишь знака, чтобы сочетаться узами и распахнуть дверь в спальню, каких на земле не бывает…
– Могил-то? – Я усмехнулся. – Хотя, конечно, могила – это уже не земля. Это что-то третье.
– Третье состояние души, – торжественно подхватил Конь. – Ни жив ни мертв. Вот что чувствует он. И не может – и ни за что не захочет уже остановиться: назвался груздем – продолжай лечиться. А?
– Резонно. – Я выпил третий стакан. – Можешь еще разок свою ладонь лизнуть?
Конь лизнул и протянул мне карандаш. Я написал: "Он здесь".
И пока Гена шарил взглядом по толпе, я смотрел на окна Веры Давыдовны. Они были темны. Неужели одна в темноте? Скорее – у дочери, которая жила с мужем где-то в районе Военно-инженерного училища.
– Они тоже тут, – тихо сказал Конь. – Ментура.
Я очнулся.
Из подъехавших с трех сторон джипов высыпали милиционеры в толстых куртках, но не успели они приблизиться к толпе, как грохнул выстрел. Десятка два мужчин, бросая недопитое пиво, кинулись врассыпную, оставив на ярко освещенном месте – у столика близ киоска – лишь одного человека в долгополом плаще. Правая рука его была вытянута в сторону милиционеров, которые прятались за машинами.
– Сорока! – раздался голос из мегафона. – Бросьте оружие и поднимите руки над головой! Высоко над головой! Предупреждаю: иначе мы будем стрелять!
– Больше у меня ничего нет! – закричал Сорока. – Я не бессмертен!
Кто-то громко выругался.
Андрей – лицо его в свете фонарей было лиловатым – выстрелил на голос, и тотчас в ответ защелкали пистолеты.
Сорока уронил обрез и пошатнулся.
Мы с Конем сидели враскоряку под столом.
– Mop up!2 – выдохнул я.
И тотчас раздался последний выстрел.
Сорока упал боком и скатился с асфальтового пригорка на тротуар. В киоске визжала Ссан Ссанна. Милиционеры вышли из-за машин и медленно двинулись к телу.
– Быстро! – сказал Конь. – Пошли!
Мы бросились через улицу к кочегарке, нырнули в подвал, пробежали через пустой и слабо освещенный зал бойлерной, где кисло пахло горелым углем, и через незапертую дверь ворвались в душевую. Остановились лишь в коридоре. Переглянулись.
– Только не в комнату, – сказал я. – Деньги при тебе? Хотя, черт, уже поздно! Где теперь достанешь? В ресторане если, а?
– Не достать? – сказал Конь. – Я знаю Ари! Ты не знаешь, а я знаю. У него есть все, и он добрый человек. Итак, в стихию вольную!
7
Таксист за десять минут довез нас до площади у Южного вокзала, где под боком у павильона похоронных принадлежностей стояла будка единственного на весь город холодного сапожника – Ари. Это был маленький армянин со смоляными коленями и лицом, будто вылепленным из сырой глины. Даже клочковатые брови его казались кусочками засохшей глины.
Мы поздоровались. Конь молча отсчитал деньги, и армянин выдал нам две бутылки водки.
– Сколько лет прошу его: продай картинку, а не продает, – сказал Конь, тыча пальцем в изображение Джоконды, вырезанное из «Огонька» и прикнопленное к стене за спиной сапожника. – В цене не сходимся. – Он одним движением отвернул пробку и глотнул из горлышка. Протянул мне. Я попытался повторить эту манипуляцию, и мне это удалось со второй попытки. – Тридцать копеек, Ари.
Армянин поднял свои глиняные веки и посмотрел на него укоризненно:
– Это же Мона Лиза, Гена, кисти великого Леонардо да Винчи. – Он вздохнул: – Пятьдесят.
– Да весь тот сраный журнал, из которого ты выдрал эту мазню, столько не стоит! – закричал Конь.
– Это – красота, Саша, – не повышая голоса, возразил Ари. – Пятьдесят копеек. И убери бутылку – мусора на горизонте.
Мы спрятали бутылки в карманы и поплелись пешком в сторону центра. Конь бурчал что-то себе под нос.
– Хочется этого, – вдруг сказал он, останавливая меня на эстакадном мосту через Преголю. – Почему, Борис? Я деревенский парень, который всю жизнь ссал с крыльца во двор, а первой моей бабой была сеструха. Двоюродная, правда, – уточнил он не особенно убедительным голосом. – Но ведь хочется! Угадай – чего.
Я кивнул.
– А как звали коня Александра Македонского – Буцефал, Цеденбал или…
– Задолбал! – закричал Конь во весь голос. – Я про Ари и Джоконду. Ты понял теперь, почему я люблю эту жизнь, а не ту, я Ари люблю, и тебя, и Джоконду за тридцать копеек и не хочу быть женихом и пить за героев, даже если они нас с тобой возвышают хрен знает куда? Понял? Это и есть моя юстиция, моп ее мать!
– Да. Пойдем-ка отсюда.








