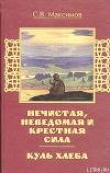Текст книги "Я жду отца (сборник)"
Автор книги: Юрий Воищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Звездочка
Мой сосед по парте – Гнилушкин – удивительный малый. Когда он говорит, у него движутся уши. Как я ни пробую шевелить ушами – ничего не получается.
– Уметь надо, – говорит Гнилушкин, и уши у него шевелятся.
Это верно: надо уметь. А я многого не умею. Например, я не умею писать букву «я». А Гнилушкин умеет.
На уроке письма я страдаю. Надо написать целых пять строчек. Надо заполнить их от начала до конца. И все одной и той же буквой – «я». А у меня не получается.
– Слышь, – Гнилушкину говорю, – напиши строчечку.
– А чего дашь?
А у меня и нет ничего.
– Бесплатно и в театре не работают! Сам пиши.
А у меня не получается. Буквы то взлетают, то падают. Страх сплошной. Гад ты, Гнилушкин!
А учительница ходит по классу и в тетрадки заглядывает. В мою глянет – в обморок упадет! «Издеваешься? – скажет. – Сколько пропустил, а издеваешься. Не хочешь учиться – уходи из школы. На улице твое место, а не в школе». И начнет. Не возрадуешься. Будет мать тягать, чтобы она повоздействовала. А разве я виноват, что не умею писать букву «я»? «А разве я тебя не учила? – скажет. – Разве я не вбивала в твою дурацкую башку и „я“ и все такое прочее?!» Не отвертишься. А мать раскричится на всю школу и начнет на тебя воздействовать при всем честном народе. Ох и смеху будет!
– Напиши!..
– Нина Осиповна, что меня Васильев отвлекает!
– Васильев! Прекрати хулиганство!
– Да я разве – что?
– Опять ты пререкаешься. Долго мне с тобой еще спорить?!
– Да я – молчу…
На том и съехало.
Теперь еще об одном человеке – дружке Гнилушкина, а потом уже о звездочке, которую мне подарил Назаров. Сейчас расскажу, почему вышла такая история. Был в нашем классе мальчик – Славка. Ничего себе, подходящий. Я его отца как-то видел. Он в школу приходил. Толстый мужик. Майор вроде. А там, кто его знает, может, и выше, может, и генерал, я в чинах не разбираюсь. Так вот, у всех пацанов отцы на фронте, а Славкин дома отирается. И на войне-то не был. А так, просидел в тылу, пока другие воевали. И все об этом, конечно, знают. Но никто Славку и не упрекал. Разве, мол, он виноватый, если отец дерьмо. Только Славка в папку вышел, натура такая же. А так прикидывается своим. Только важничает сильно, а так – ничего. И пацаны ему завидуют. Даже не ему самому, а его костюмчику. А костюмчик у Славки был – по всем правилам военной моды. Прямо настоящий мундир, с погонами, с широким ремнем. А на ремне – настоящая кобура. Только пистолет – игрушечный. Славка в школу один не ходил. Его провожал и встречал папин шофер, который и по дому иногда прислуживал. Пожилой такой мужчина. Добрый очень. С пацанами ладил.
Как-то я опоздал в школу. Бегу, смотрю в коридоре стоит дядя Кирилл, так шофера звали, и старушка уборщица. И о чем-то о своем они разговаривают. Я когда ближе подошел, смотрю, дядя Кирилл в платок сморкается и плачет вроде.
Меня как по сердцу царапнуло – жаль его стало. И идти как-то неловко: еще чего подумают. Так и стою. Жду, когда они в мою сторону посмотрят. А они меня и не видят. Стоят себе и тихонько говорят о чем-то своем. И слышу, дядя Кирилл говорит:
– А Славка-то опять нажалился своему… Вроде я его сапожки плохо почистил… А тот-то как рявкнет: «Я тебя в штрафники упеку!» Скажет такое! Я сам намедни ему говорю: «Отпустите вы меня в действующую…» А он стоит – пузо вперед, и вроде и не слышит и не видит… И милости ни от него, ни от всей ихней семьи никакой не вижу… одна ругань…
– Горе-то какое, – вздыхает старушка. – Ужасть просто…
– А из деревни вести паскудные ползут… голодают… Я-то как-никак и одет, и обут, и в тепле, и сытый, а там как же…
– Ох, господи, тяжки кары твои, – снова вздыхает старушка.
– Да не расстраивайтесь… расстроил я вас… Нынче-то у всех – беды да печали…
– И когда ж конец-то проклятой?!
– Мой говорит, скоро. Вот до Берлина дойдем – и конец. А ему виднее, он при штабе…
– Да уж скорей бы!
– Будем в надежде…
Они так и не заметили меня, потому что прозвенел звонок, и ребята посыпались из классов.
Весь день я думал об услышанном разговоре. И так мне хотелось поколотить Славку, даже руки гудели. На последней перемене я все-таки не выдержал и стал на него задираться. А он:
– Чего ты, чего ты… Это ж брехня… Папе завидуют…
И все такое прочее. Словом, отвертелся. Я ему даже поверил. Так он врал здорово. Но, чувствую, он затаился. И обязательно мне насолит. Ладно, думаю, подожду, а там – посмотрим.
А я в этот день пришел в школу в новой рубашке и на ней звезда. Подарок Назарова. Хожу – задаюсь. Не у всех такие звезды есть. Хвастаюсь:
– Отец с фронта прислал!
– Заливай, заливай, – сказал Гнилушкин. – Небось выменял у кого-нибудь.
– Говорю, отец прислал.
– Кончай арапа травить, – влез Славка. – Твой отец убитый давно…
Тут Гнилушкин как рванет звезду, так и выдрал живьем с куском рубахи. Отбежал и дразнит:
– Поймаешь – твоя, не поймаешь – моя.
– Отдай, – говорю, а сам чуть не реву. Обидно. – Гады! – говорю.
А чего я с ними могу сделать, когда их двое, а я один. А тут урок начался. Гнилушкин сел со Славкой позади меня, и стали они шепотом на меня задираться. Я сначала терпел. Ничего, думаю, пусть только урок кончится. А они мне пообещали после уроков веселую жизнь устроить и стали перьями колоть. Раз укололи. Я ничего. Другой укололи. Я говорю: может, хватит? А они – гы – ы – и опять. Я подскочил да как врежу – сначала одному, а потом другому, так у них сопатки и расплющились. Я вообще крепкий малый. Тихий только. Но им я хорошо приложил. Хотел пройтись еще раз, да не успел. Учительница взвыла, как сирена, и вышвырнула меня из класса.
Стою в коридоре, переживаю. Попух, думаю. Да и думать нечего: ясно – попух! Вижу, Гнилушкин выходит и нос в кулаке держит. Чтоб кровянка не капала. Я ему:
– Звезду давай!
Он отдал.
А Славка так и не вышел. Наверное, я ему хуже смазал.
Книги у меня отобрали и без матери велели не приходить.
На другой день мать пришла в школу. А учительница уже нас ждет. И около нее стоит Славкин отец. И злость от него летит на три километра.
Учительница и слова сказать не успела, как он понес и меня и мать. Мать с ходу заплакала. Мне было ее страшно жаль. И в то же время ругал ее в душе за то, что она не может отпеть этому жирному крокодилу. А крокодил брызгался слюной и злостью. Так он меня перепугал, что я потом целый месяц боялся, как бы за мной не приехала милицейская машина. В общем, смысл его обвинительной речи сводился к одному: он, мол, воевал, кровь проливал, а его сына какой-то чуть не убил.
– Я всю войну – на передовых! – шумел крокодил.
– А почему же вы тогда живой? – спрашиваю.
Он так и захлебнулся и забегал своими крокодильими глазками.
На том дело и кончилось. Учительница и не рада была, что пригласила его на назидательную беседу. Это над такими, как моя мать, поиздеваться можно, а крокодилы – они тебя сами съедят, не опомнишься!
Подлость
В холодное ноябрьское воскресенье Назаров снова пришел к нам. Дома был я один. А мать и бабка поехали на толкучку, чтобы купить мне валенки.
Назаров посидел немного со мной, а потом пришел Николай Палыч и зазвал его к себе. Я сидел и скучал. Мать велела от дому не отходить и дом сторожить. А чего его сторожить, когда и украсть нечего! Но сказано – сиди, я и сидел. Одному всегда скучно. Из ребят никто не приходил. Даже Сенька про меня забыл…
Дверь в комнату Николая Палыча была приоткрыта, и я невольно слышал, о чем они говорят.
Николай Палыч. Слышь, все поговорить с тобой хотел…
Назаров. Давай говори.
Николай Палыч. Да вот, понимаешь, такое дело… Ты ведь не в курсе… И все такое…
Назаров. Выкладывай. Начал, так говори.
Николай Палыч. Ведь вот ты сюда ходишь, а не понимаешь, что из-за тебя семья распасться может…
Назаров. То есть?
Николай Палыч. Ну, мы с Надей вроде как муж и жена… Одним словом, живем с ней. А ты ходишь, людей смущаешь. А Надя – молодая, неопытная. Всем и всему верит. А ты ей голову кружишь… Ты пойми простую истину: ты ей не пара. Ты же калека… А у нее – ребенок.
Я заглянул в комнату и снова увидел того огромного бешеного человека, которого впервые встретил в госпитале. Назаров схватил Николая Палыча за борта пиджака и прохрипел:
– Молчи, слышишь, ты!
Он оттолкнул Николая Палыча и застучал костылями к выходу. Лицо его почернело от ярости. Стало совсем черным, словно внутренний огонь спалил его.
Я отскочил от двери и уселся за стол. Он вошел уже спокойный и очень бледный. И я не узнал его. Великан был сражен. Великан умер. Передо мной стоял поникший, усталый и очень маленький сломленный человек.
– Пойду я, – бесцветно сказал он, и мне стало не по себе, такой тоской и одиночеством повеяло.
– Нет, – сказал я и ничего больше не смог добавить. Мне даже хотелось, чтобы он ушел, – так мне было тяжело.
– Пойду я, – повторил он, и мне стало ясно, что он больше никогда не зайдет к нам. – Всего, – сказал он. – Как-нибудь увидимся.
Но я уже знал, что он никогда больше не придет к нам. И тогда я обхватил его руками, как если бы это был отец, и сказал ему:
– Папа, не уходи, папа!
И он вздрогнул, и дернулся, и прижал меня к себе, и какое-то слово пойманной птицей билось в его онемевшем горле. И когда птица вырвалась, я услышал:
– Сынок!
Так мы и стояли, не отпуская друг друга.
А Назаров все шептал и шептал это слово. И никак не мог остановиться.
И тогда я понял: он плачет.
Не хочу сидеть дома!
Я не ошибся. Назаров больше не приходил к нам. Мать удивлялась:
– Вчера встретила его на улице. Увидел меня. Перешел на другую сторону… Обиделся он, что ли? А за что?
Бабка качала головой:
– Эх, Надежда!
Мне было тошно сидеть дома. Когда я вспоминал Назарова, тоска сжимала сердце и хотелось бежать отсюда. Я брал с собой Султана, и мы подолгу бродили с ним среди развалин, уходили к реке и снова возвращались назад. А было холодно, и я стыл намертво, но все равно не шел домой. Я не мог никого видеть. Ни мать, ни бабку, ни Николая Палыча. Мне казалось, что я их ненавижу.
Николай Палыч все больше и больше лез не в свои дела, и матери это вроде бы как нравилось. Во всяком случае, она вроде бы считалась с его мнением.
– Опять у Сергея двойка! А все потому, что вы его балуете. Я, Надя, давно говорю, что здесь требуется твердая мужская рука…
В его словах, собственно, ничего такого не было, но я ненавидел его. И когда не хватало сил терпеть, я взрывался:
– И чего вам надо?! Что вы всех учите?! И вообще, кто вы мне? Отец?
Николай Палыч не спорил со мной и уходил в свою комнату. И тогда меня начинали воспитывать мать и бабка.
– Как тебе не стыдно! – кипятилась мать.
– Он старше тебя! – кипятилась бабка.
А я молчал. И уходил из дому. Я ждал зимы. Я тосковал по снегу. Мне казалось, что снег успокоит меня. Я ждал снега, как спасения. А от чего мне спасаться – не знал. В детстве многое гораздо проще. Осенью, в грязь и холод, тебя что-то мучит, и кажется, стоит пойти снегу, как все мгновенно исчезнет – и смутное беспокойство, и тоска, и все, все, терзающее тебя.
Каждое утро я просыпался, и тоска мучила меня, как неотступная тошнота. И каждое утро я ждал – снег! А небо было мутное и тяжелое, как лицо человека после долгой болезни. А небо ничего не обещало, кроме дождя. И ничего не случалось в моей жизни. И жизнь словно остановилась на мгновенье. И это мгновенье растянулось, замедлилось, как во сне, когда падаешь куда-то и летишь, задыхаясь от ужаса, и не можешь ни остановиться, ни прервать падение.
Каждое утро, едва проснувшись, я кидался к окну. Я смотрел во двор. А двор был черный, грязный, отчетливый и пустой. И снега не было. Я отходил от окна. Я одевался. Я шел в школу. И с утра начинал ждать завтра. И с утра думал, что завтра обязательно пойдет снег.
И каждый вечер я слушал скрипучий голос Николая Палыча, и каждый вечер задыхался от ненависти, и каждый вечер ждал завтра.
А снега не было.
И когда я уже не в силах был ждать, наступила зима. И пошел снег. И это было так странно, что я даже не удивился. И мне стало даже немного досадно, что пошел снег. Слишком долго я его ждал. А он оказался таким обычным!
Снег
Вот идет снег! Он идет, идет. Странный снег. Осторожный. Крупный. Звездами. Падает – тает. Первый снег.
Сначала были заморозки. И утром, когда я шел в школу, дорога была белая, будто ее посыпали сахаром. И дорога хрустела. И льдинки на лужицах – маленькие оконца, маленькие глазенки наступающей зимы.
Сначала была сырость. И туманы. И заморозки. И изморозь, как белая паутина, опутывала деревья.
А потом приходило солнце. И паутина с деревьев улетала. И дорога становилась черной. И зима прятала глаза.
Сначала была сырость. И туманы. Густые, как дым, – такие густые туманы. И когда утром я шел в школу по белой, хрустящей дороге, казалось, дома плывут мне навстречу – такой туман!
А потом пошел снег.
Снег – он пахнет зимой. А этот снег зимой не пах. Он пах сыростью, туманами, изморозью, чем угодно, только не зимой.
Первый снег.
Он падал на сырую землю и исчезал в ней. А земля открывала все поры, все отверстия – сыпься, мол, сыпься. Мне-то тебя и надо. Тебя-то я и ждала.
Вот идет снег, идет снег, идет снег. Час идет. Два идет. Три идет. Летят белые парашютисты. Летят, чтобы погибнуть. А все равно летят. И падают на мокрую землю. Черную землю. Теплую землю. И умирают. И снова летят. Снова. Без конца.
А земля лежит. Молчит. Тяжело дышит земля. Спокойно дышит. Смеется про себя: зря стараешься, первый снег. Где тебе со мною справиться?! Притаилась земля. Лежит – молчит. А снег, глупый, сыплется. Падает снег. Думает: победил я тебя, земля!
А земля молчит. Лежит. Дышит. Глубоко, спокойно. «Посмотрим, снег, посмотрим, кто кого. Ты – меня. Или я – тебя».
Снег идет. Идет снег. Целый день идет снег. Насыпал по колени. Радуется: моя взяла!
А утром – солнце.
Снег побежал, заплакал: «Обманщики! На одного – вдвоем!»
А земля смеется. Хохочет земля. Солнце – заливается.
А зима сидит за холмами. Прячется. Злится. Дуется. Как дунет! И снова – снег. Снег. Снег. Земля – в снегу. Солнце – в снегу. Город – в снегу. Дома – в снегу. Люди – в снегу. Сугробы. Снег. Снег. Снег.
Утром, когда я иду в школу, – снег. Днем, когда я иду домой, – земля. А в промежутках – туманы, сырость, изморозь. А потом снова – снег.
И наконец земля уступила. Великодушно уступила земля. Ведь и ей надоели туманы, дожди, осень. Ведь и ей нужно новое платье. Белое, крахмальное, подвенечное. Каждую зиму земля бывает невестою. И каждую осень – вдовою. Потому что каждую зиму приходит жених – Новый год, и каждую осень он умирает.
А земля – вечно юная, вечно прекрасная, вечно желанная невеста.
Апельсин
Я как-то не помню праздников. Честное слово, не помню ни одного праздника тех лет.
А может, их и не было?!
Впрочем, я ведь совсем не жалуюсь! Не я один. Многим ребятам моего поколения выпало тяжелое детство. Но даже такое детство – все равно детство. Со всеми своими радостями и печалями. И если я скажу, что в моем детстве совсем не было светлых дней, я солгу. Были такие дни. И когда они наступали, я забывал обо всем: и о войне, и о голоде, и о холоде. Но праздников, в широком смысле слова, я не помню.
Под Новый год я встретил Назарова. Он был в потертом кожаном пальто. Оно так и скрипело, когда он переставлял костыли.
– А не холодно вам? – спросил я.
– Холодно, – сказал он. – Да ведь я редко на улице бываю. Пока меня при госпитале держат. Вроде из милости, что ли… А у вас как? Все живы – здоровы?
– Все…
– А ты как, Сергей? Как успехи?
– Да тройки…
– А ты старайся.
– И так – во всю!
– Ну, раз ты стараешься, – вот тебе. Получай… – Он вытащил из кармана – яблоко не яблоко, в общем, какой-то желтый фрукт.
– А что это?
– Неужели не пробовал никогда?
– Не-е…
– Апельсин это.
– А его едят?
– Еще как! Это одному майору посылка пришла с юга – а там апельсины. Я ему говорю: слышь, Степан Фомич, подкинь-ка парочку. А он: на какой предмет? Нужно, говорю. Он пожался, но один дал. А я все тебя ждал. Думал, зайдешь. А сегодня решил уж сам к вам пойти. И хорошо, что тебя встретил…
– Спасибо… Так пойдемте к нам.
– Знаешь, Сергей, в другой раз… Устал я сегодня. Долго хожу… Ты лучше проводи меня немного.
Мы пошли потихоньку. Когда Назаров передвигал костыли, кожаное пальто его отчаянно скрипело. И снег хрустел. И я вдруг услышал запах апельсина. Запах был невероятный. Сумасшедший запах. Это был запах праздника. Вернее, всех праздников, которых никогда не было в моей жизни.
– Ты что это? – спросил Назаров.
– Так… Праздник скоро…
– Совсем… Новый год. Сорок пятый…
Да, это был запах Нового года. Запах праздника. А праздник пах апельсином.
Маленькое солнце, которое я держу в руке, называется апельсин.

Маленькое, круглое солнце. И оно – оранжевое. И если вдавить в него пальцы – брызнет сок. Солнечный, душистый, апельсиновый. А новогодний праздник пахнет апельсином. А апельсин – солнце! Если бы я мог, я дарил бы всем, кого люблю, апельсины. Всегда бы дарил. Всю жизнь.
И дома мать сказала:
– Апельсин!
И бабка сказала:
– Апельсин!
А Николай Палыч сказал:
– Откуда?
И я крикнул:
– Назаров дал! Чтобы я съел! Один!
– Никто и не просит, – сказал Николай Палыч.
– Никто и не дает, – сказал я.
Николай Палыч дернулся и ушел.
И мать не поругала меня за грубость. И долго молчала. И вздыхала. И как бы про себя сказала, что за такой апельсин можно выменять полкачана капусты.
И выменяла.
И бабка сварила щи. И я ел щи. А в щах плавало маленькое солнце – кружок моркови. И щи пахли апельсином. А апельсина я так и не попробовал.
Говорят, есть страны, где войны никогда не было. И солнце там вовсю лупится и жарит прохожих. А мальчишки – каждый день едят апельсины.
Только я что-то в это не верю.
Сватовство шофера
Я готовлю уроки по вечерам. При электричестве. И каждый раз, поглядев на лампочку, вспоминаю коптилку. Нет, я не выбросил ее. Разве выбрасывают старых и верных друзей? Спасибо тебе, коптилка. За все. За твой слабый свет. За ласковость. За доброту. Нет, я не выбрасываю тебя. Я прощаюсь с тобой. Ведь и старые друзья умирают. Прощай, коптилка. Я не забуду тебя. Но прошу, никогда не возвращайся в мой дом. Ни в чей дом. Так нужно. И ты это должна понять.
Тихо у нас. Тепло. А на дворе – мороз. Поземка. Ветер воет – у – у. Как волк, отбившийся от стаи.
В такие вечера Николай Палыч любил говорить:
– Нам вот тепло. А в окопах?! Ну, скажем, наши ребятки – привычные. Крепкий народ. А вот немцы мерзнут. Помню, в сорок втором тоже морозы стояли, ничего себе. Так фрицы, как бревна, валялись в степи.
Николай Палыч любил поговорить о войне и о своих подвигах. Когда я слушал его рассказы, я почему-то вспоминал Назарова.
Назарову не нравились такие разговоры. Он никогда не распространялся на военные темы, словно и не воевал даже.
Он будто боялся рассказов о войне.
А Николай Палыч дышать не мог без военных воспоминаний. Меня всегда удивляло это. И только теперь я понял, в чем дело.
Командующим всей нашей армии, которого Николай Палыч возил на своем «газике», оказывается, был интендантский полковник. Так что Николай Палыч, как говорится, проехал мимо войны.
Я думал, что и сегодня, в новогоднюю ночь, он будет кормить нас своими боевыми приключениями. Но все вышло иначе.
Николай Палыч поднял стакан:
– Пью за счастье.
Мать задумчиво смотрела на темное окно. Словно ждала кого-то.
Полночь. Новый год.
– Пью за счастье. А еще, бабуся, – сказал Николай Палыч, – официально предлагаю вашей дочери расписаться со мной. У меня намерения серьезные… Семью буду строить…
– Как Надя, так и я, – сказала бабка.
– А Надя не против…
Мать быстро взглянула на Николая Палыча и вдруг уронила голову на стол и заплакала. А Николай Палыч стал гладить ее волосы и что-то быстро – быстро говорить.
Я сидел растерянный, ничего не понимая.
Мать вскочила, оделась и выбежала из дому. Николай Палыч выскочил за ней. А бабка разволновалась и велела мне ложиться спать. Так и встретили Новый год.
Скоро пришла мать. Не раздеваясь, села к столу и долго так сидела.
– К нему ходила? – строго и печально спросила бабка.
– К нему… А госпиталь закрыт. И в окнах темно… Спят, наверное… – И плача выдохнула: – Не пришел!
Свадьба
– Нет, – сказала мать. – Не пойду за него. Не хочу…
– Трудно нам, – сказала бабка. – Без мужика – ой как трудно. А у тебя – Сережа. Я помру, как жить будешь? А Николай Палыч хоть и пустобрех, а все равно мужик. И домовитый. Все в дом тащит.
– Да разве в этом дело?!
– В этом не в этом, а кто тебя с ребенком подхватит? Кому ты нужна?
И мать промолчала.
Я ушел на улицу. Мне было невесело. Даже с Сенькой я поругался. Он надулся и ушел домой. А мне домой идти совсем не хотелось.
Стемнело. Сумерки неспешными шагами вошли в город. Они были тихие и печальные. Зажглись окна в домах. Сыпался крупный снег. Люди спешили. И никому не было дела до мальчишки, одиноко стоящего на улице.
– Пойдем домой, – сказал Николай Палыч.
Я и не слышал, как он подошел.
– Пойдем, пойдем, нечего мерзнуть.
Дома он вытащил из кармана огромный бумажный пакет и протянул мне:
– Американская помощь… Конфеты, тушенка и тому подобное. Бери, бери, это тебе. Бери, говорю!
И я взял. И подумал: «А он добрый». А для меня доброта – главное. Но когда я увидел, как просияла мать, глядя на нас с Николаем Палычем, мне стало страшно тоскливо и захотелось отдать назад американскую помощь. Все отдать, лишь бы он не женился на матери.
В последний день моих каникул состоялась свадьба. Народу было немного. В основном – соседи.
Пили, шумели, кричали «горько». Мать и Николай Палыч целовались. Потом стали танцевать. И мать закружилась с Николаем Палычем.
И тут пришел Назаров. Он был пьян и неестественно весел.
– Гуляем, – сказал он. – Что ж, все правильно…
Он покачнулся и близко подошел к матери. Опять я узнал в нем того бешеного человека. Опять костыли прыгали в его руках.
– Поздравляю вас, Надя. Конечно, я калека, не пара вам, но все равно скажу – люблю я вас! А вы…
Он задохнулся, махнул рукой и ушел.
В комнате стояла тишина. Только патефонная игла, дойдя до конца пластинки, яростно шипела.
– Танцуйте! – крикнул Николай Палыч, и все опять зашумели, закружились.
Мать вышла во двор. Она стояла под звездами в белой кофточке, маленькая и одинокая. Я смотрел на нее из темных сеней, и мне хотелось обнять ее и плакать вместе с нею.
Быстро вышел Николай Палыч, набросил на плечи матери пальто и обнял ее.
– Уйди, – тихо сказала мать.
И было в ее голосе такое отчаяние, что он не сказал ни слова и ушел.
Когда мать вернулась, я не узнал ее. Она снова была веселая и беззаботная. И смеялась, танцевала, пела.
И, засыпая, я слышал ее смех.