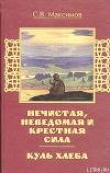Текст книги "Я жду отца (сборник)"
Автор книги: Юрий Воищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Юрий Тихонович Воищев
Я жду отца. Неодержанные победы (Повести)
Памяти моего отца
Тихона Ивановича Воищева,
погибшего в суровом сорок первом, –
посвящаю.

Я жду отца
Пролог
Не думай,
что мертвые мертвы,
пока существуют живые —
мертвые будут жить.
Мертвые будут жить.
Винсент Ван-Гог
Мальчик проснулся рано. Он долго лежал, не открывая глаз. Сегодня был день его рождения, и мальчику казалось, что, если долго – долго полежать с закрытыми глазами и задумать что-нибудь, – все обязательно исполнится.
В комнате плавало спокойное дыхание матери и равнодушное похрапывание бабки.
Мальчик загадал: если утро – солнечное, его желание обязательно сбудется…
Утро было солнечное. Стоял сентябрь, но солнце горело по – летнему.
Шел сорок четвертый год, и земля стонала под железными ногами войны.
Мальчику исполнилось девять лет, и по тем временам он считался взрослым.
Когда мать проснулась, мальчик сказал:
– Знаешь, я уверен, он скоро приедет.
Мать промолчала. Она не хотела разрушать его иллюзий. Она и сама в глубине сердца надеялась на чудо.
Сегодня был день рождения мальчика, и ему подарили большой ломоть черного хлеба и кусок сахару.
Шла война, и лучшим подарком был хлеб.
Мальчик грыз сахар и смотрел на солнце.
Он прикрывал рукою глаза и сквозь маленькую щелку глядел на пузатый комок огня, похожий на праздничный воздушный шар.
К середине дня стало жарко. Солнце работало вовсю. Даже хмурые развалины повеселели. Они хрипло шептали исковерканным деревьям:
«У этого мальчика сегодня день рождения. Улыбайтесь ему, пусть сегодня он будет счастливым».
Мудрые деревья покачивали головами:
«Конечно, конечно…»
Даже облезлый кот, сидя на подоконнике разбитого дома, умывался и мурлыкал только что сочиненную песенку:
«Мурлы, мур. Вот идет очень хороший и добрый мальчик. Он никогда не швыряет в меня камнями и не таскает за хвост, как некоторые другие хулиганы. Мурлы, мур. Мурлы, мур».
Солнце горело весь день. К вечеру от развалин потянулись тяжелые тени, и деревья печально разводили ветвями:
«Холодно!»
Солнце садилось. Оно медленно – медленно опускалось где-то далеко за городом и вдруг исчезало, словно лопнул воздушный шарик.
Когда мать пришла с работы и зажгла коптилку, мальчик вдруг подумал, что его желание никогда не исполнится.
Он заплакал горько и безутешно. Его долго не могли успокоить.
МАЛЬЧИК ЖДАЛ ОТЦА, ПОГИБШЕГО В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ.
Возвращение
Ночами я плакал. Мне хотелось есть. Мать зажигала коптилку, садилась возле меня, что-то говорила.
В комнате дрожал тусклый свет. Углы прятались в темноте.
Бабка ворочалась на своей кровати. Ей было холодно. Мне – страшно. Мать успокаивала меня. Я засыпал. Мне снилась зима.
Когда я просыпался, матери уже не было дома. Она уходила искать работу.
Шла осень сорок четвертого голодного года.
Город был разрушен. Но дом, в котором мы жили до войны, уцелел. Он стоял угрюмый, глубоко ушедший в землю, старый двухэтажный дом, и словно сам удивлялся: «И как это меня не разбомбило?!»
В тот день, когда мы вернулись, лил дождь. Такие равнодушные серые дожди бывают только осенью. Они начинаются ночью, идут днем, и даже когда люди засыпают, дождь по – прежнему стучит в окна.
Мы смотрели на дом, и он отвечал нам пронзительным взглядом пустых оконных проемов. Дождь стекал по старым побитым стенам с отвалившейся штукатуркой. Так текут слезы по морщинистым, старческим щекам.
Бедный старый дом! Он напоминал нас, вернувшихся, бесприютных, разбитых большой войной.
Люди, возвратившиеся в мертвый город, были похожи на муравьев. Из обломков кирпича вырастали стены. Из осколков стекла создавались крохотные мутные глазки – оконца.
Люди говорили друг другу:
– Никогда больше не буду покупать ничего лишнего. Всякие там тряпки, мебель. Только самое необходимое.
Люди возвращались домой. Пили водку из железных кружек. И водка была особенная – такой теперь не бывает, – прозрачная, как слезы, горькая, как горе, опьяняющая, как радость.
Горе объединяет людей. Первое время после возвращения жильцы нашего дома держались вместе. Помогали друг другу, были как одна семья. Потом – это произошло как-то незаметно – люди стали обособляться. У каждого появились свои заботы и интересы. И уже кто-то менял на «черном рынке» хлеб и картошку на тряпки и мебель. И уже на праздниках не пили водку вместе, потому что, во – первых, дорого, во – вторых, пусть каждый пьет отдельно, если хочет.
В сентябре было много дождей. Они шли днем и ночью. Вернее, шел один бесконечный, мутный, осенний дождь без начала и конца. От него некуда было спрятаться. С потолка лилось. Мокрая штукатурка шлепалась на исковерканный пол.
Мы сидели, закутавшись в старые одеяла и пальто. Мы ждали солнца, как доисторические люди, загнанные ливнем в пещеру. Мы мерзли. Печка была. Топить было нечем.
Но и дождь, и холод, и бездомность можно было вынести.
Невыносим был голод. Мы хотели есть. Мы очень хотели есть. Мы тосковали о еде. Эта тоска была невероятно одушевленной. Будто в понятие голод вселилось нечто живое. И это живое требовало пищи. Пищи – каждый день.
А есть было нечего.
Черный рынок
Однажды утром мы с бабкой пошли на базар. Несмотря на дождь, базар был многолюден и шумен.
Буханка черного – 200.
Можно купить полбуханки – 100.
Если есть деньги.
А если их нет, тогда можно поменять на хлеб одежду.
– Шерстяной платок? Посмотрим, посмотрим… Бабуся, это ведь воспоминание о платочке. Ну что вы, бабуся, человека от дела отрываете?! Я же вам русским языком говорю – это не платок, это воспоминание об оном! Бабуся, а золотишка не имеете? А? Тогда – извиняюсь… Виноват, говорю… Прощайте, бабуся. До свиданьица…
У меня в руках – книги. Старые книги. Никому не нужные книги.
– Дяденька, купите книжку! Купите? Посмотрите – с картинками! Сколько дадите… Газет у меня нету… Но и здесь бумага хорошая. Как раз для ваших самокруток! Куда же вы, дяденька?
Коммерсант из меня не вышел.
Из бабки тоже.
А золотишка мы не имеем.
Мы шли через базар. А дождь хлестал безжалостно и равнодушно. Суетились люди с лихорадочными голодными лицами. Продавали, меняли, воровали, дрались, плакали. А дождь перечеркивал всех, сминал, смывал. Будто говорил, зачем вы, куда вы, кому вы нужны?
Бешено вертелась рулетка. Какой-то толстый инвалид, сидел на скамеечке и орал:
– Подходи за счастьем!
Возле рулетки стоял длинный парень в шинели и держал зонт над инвалидом.
– Подходи за счастьем!
Рулетка кружилась, бегало перо по квадратам с цифрами, а те, кто подошел за счастьем, замирали – сейчас! Но счастье не выпадало. И они отходили, ссутулившись, кашляя и сморкаясь в мокрую землю. И ругались:
– Сволочь! Жулик! В окопах ты был?! У, гад!
С каждого выигрыша инвалид откладывал по рублю. И, когда набиралась нужная сумма, крякал. Парень отдавал инвалиду зонт, хватал деньги и, приговаривая: «Минуточку, Аким Степанович, ейн момент!» – мчался к известной торговке, покупал четвертку и бегом возвращался обратно.
– Прошу пана! Аким Степанович, вкусите!
Инвалид вставлял горлышко бутылки в рот, не глотая, выпивал водку, кричал:
– Ого! Хм! – И снова орал: – Подходи за счастьем!
В стороне от толпы сидел слепой. Он играл на трофейном аккордеоне. Пел:
Ты не плачь, моя бедная мама,
Что сынок не вернулся с войны…
Ты не жди от него телеграммы,
Не готовь для свиданья цветы.
Теплый ветер ползет по окопам,
Над окопами солнце горит!
Мама, сын твой в твое оконце
Никогда уж не постучит…
– Па – а-дайте калеке, братья, сестры, товарищи! Света белого он не видит. Трудиться не может… Спасибо, братик! Спасибо, сестричка!.. Спасибо, товарищ!..
За холмами, лесами, дорогами —
Где твой сын? Кто ответит тебе?!
И могилы ведь, и окопы —
Все в одной и той же земле…
Бабка сказала:
– И подать-то нечего…
Вечерело. Мы поплелись домой. На мне была серо – зеленая куртка, перешитая из немецкого мундира. И громадные дырявые сапоги с галошами. На бабке – телогрейка. Спины наши дымились. От сырой одежды валил пар, и мы с бабкой были похожи на небольшие вулканы.
Хлеб
Дома было холодно, сыро, неуютно. В помятое корыто капала вода. Я сидел на кровати не раздеваясь и смотрел, как бабка возится с коптилкой. Наконец фитилек загорелся, тени запрыгали по комнате.
– Где это Надежда пропадает? – сказала бабка, чтобы хоть что-нибудь сказать. – Опять небось работу не найдет! Дюже мы все деликатные стали. То нам не подходит, это не подходит! То подавай, это подавай!
– Чего ты ворчишь?
– А как не ворчать? Сил моих нету… Как такое терпеть?! С голоду подохнем. Кабы я помоложе была, за любую работу схватилась бы! А Надежда, она, видишь, миндальничает. Конечно, привыкла за мужем ничего не делать…
Бабке не удалось поораторствовать. Пришла мать.
– Вот и хлеб, – сказала она и положила на стол буханку.
Мне показалось, что в комнате стало теплее. Что в комнату вошло солнце. Что вернулось лето. Даже ветер утих. Даже дождь перестал. Так мне показалось. Мать несла буханку на груди, и хлеб был теплый. Хлеб был живой. Хлеб пах хлебом!
Я схватил маленький кусочек. Он был и упруг и податлив. Он дышал ровно и спокойно, как спящий ребенок.
Я нюхал его. Я ласкал его. Я жил им.
Хлеб таял во рту.
Мы ели хлеб, и бабка плакала и вздыхала:
– Хлебушко!
О хлеб! Ты не знаешь, какой ты, хлеб! Ты не знаешь, как нужен мне, матери, бабке, людям. Будь всегда с нами, хлеб. Никогда не покидай нас, хлеб! Никогда, слышишь, никогда!
Сейчас мы забыли вкус хлеба. Вкус того хлеба. Хлеба тех лет. Мы многое забываем. Мы отбрасываем куски хлеба. Хлеба, который спас нас тогда. Хлеба, который был равен жизни.
Хлеб, прости нас! Слышишь, хлеб?!
Ты по – прежнему нужен людям.
Будь всегда с нами.
Никогда не покидай нас, хлеб!
Половину буханки бабка завернула в чистое полотенце и положила на стол.
У меня слипались глаза. Мне было тепло, словно во мне горело маленькое солнце.
Засыпая, я смотрел на стол. Коптилка, тусклый нож, хлеб в полотенце – натюрморт «Осень 44–го года».
Отчаяние
Теплые волны понесли меня. Океан тепла убаюкивал. Я спал.
И вдруг я проснулся от шороха.
Было темно. Тихо. Дождь перестал.
Опять зашуршало, затрещало. Что-то мягкое шлепнулось на пол.
– Мама! – крикнул я.
Она вскочила. Чиркнула спичкой.
Хлеба не было!
На полу валялось полотенце. Тени громадных крыс лениво убегали в угол.
– Хлеб… Крысы… Хлеб… – бессмысленно бормотал я.
Мать подняла полотенце. Ни крошки.
– У, проклятые! – растерянно сказала бабка. – Здоровенные, как лошади. Им такой кусочек – на один зубочек! И как они на стол залезли?!
Бабка зажгла коптилку. Опять в комнату вошли неуютность и бездомность. Солнце во мне погасло.
Мать стояла неподвижно. Полотенце беспомощно висело в ее руках, как белое знамя капитуляции.
Вдруг мать рухнула на кровать и забилась в истерике. Она выкрикивала одно и то же:
– О господи, господи!
И от этого становилось еще страшнее.
Я сжался в комочек и с ужасом смотрел на нее.
– Надь, а Надь, – бормотала бабка, – ну, чегой-то ты? Ну, чегой-то ты убиваешься? Ну, не надо, Надь. Не переживай!
– Знала б ты, чего стоил мне этот хлеб! Знала б ты цену этому проклятому хлебу! – кричала мать.
– Ну, не надо, Надь, – говорила бабка. – Мальчонку напугаешь. Не надо, доченька.
Я долго не мог заснуть. Я лежал и думал о матери, о бабке, об отце. Я думал обо всем. И ни о чем. Мысли разбегались, расплывались, таяли.
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я сдаюсь. У меня нет больше сил. Вы победили. Идите возьмите меня. Мне все равно. Я не могу больше бороться с вами. Вы самые сильные. Вы сильнее солнца, лета, хлеба. Вы сильнее всего на свете. Сильнее любви, жизни, надежды.
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я сдаюсь!
Война и дети
Утром, как всегда, мать отправилась искать работу, а мы с бабкой поплелись за топливом.
Дождя не было. Но было сумрачно и холодно. Тучи низко висели над развалинами, и мне казалось, что какая-нибудь не очень ловкая тучка обязательно зацепится за ржавый крест сгоревшей церкви.
Мы плелись в лабиринте развалин. Улицы были засыпаны щебнем, обломками кирпичей, битым стеклом. Это был наш обычный рейс за топливом. В развалинах валялись куски гнилых досок, обрывки толи, бумаги. Мы их собирали.
Кое – где люди расчищали улицы. Людей было мало. Развалин много. Но на всех стенах белела надпись: «Мин нет».
Любое дело становится интересным, если его превратить в игру. Я воображал себя сапером. Я держал длинный прут. Это был миноискатель. Временами мина взрывалась. Я орал:
– Трах, бум, бум!
Бабка шарахалась от меня в сторону:
– У, чертеняка!
– Мина, – говорил я.
– Накаркаешь ты беду на нашу голову, – негодовала бабка. – Вон, Васька Мамалыгин тоже придурялся вроде тебя. Мину нашел и молотком по ей, по грешной! А она, голубушка, только того и ждала. Как вдарит! Только твоего Ваську и видели.
– Ничего ты в войне не понимаешь! – отвечал я.
– Дурной ты, – злилась бабка. – Смотри, доиграешься. Разорвет!
– Ну и ладно! – говорил я и взрывал новую «мину».
Дети тех лет были заражены ложной романтикой войны. Наслушавшись пьяных рассказов базарных инвалидов, которые, возможно, и в окопах не были, дети воображали себя героями, которым все нипочем. Дети играли в самую страшную игру, какую только можно придумать, – войну. Однажды несколько ребят с нашей улицы нашли противотанковую гранату. Стали делиться на «наших» и «немцев». «Немцами» никто не хотел быть. Наконец после долгих споров разделились. Два «немца» засели в развалину, изображавшую дзот. Остальные пошли в атаку.
«Немцы» были упорны. Все атаки «наших» ни к чему не приводили. Тогда один из «наших» сказал:
– Иду на подвиг. Если погибну, сообщите жене и родным, что я умер героем.
С гранатой он пополз к дзоту. «Немцы» лениво «постреливали». Им надоело быть «немцами».
«Наш» подполз к «дзоту» и, несмотря на то что «немцы» орали: «Сдаюсь, рус, сдаюсь!» – по всем правилам метнул гранату.
От «немцев» и от «героя» нашли жалкие обрывки мяса.
Дети тех лет, война коснулась и вас. Сколько вас погибло от мин, от бомб, от гранат, от снарядов! Или просто от голода. Дети тех лет, и вы воевали, и вы погибали. Была большая война. И скажите, есть ли такие, кого она не коснулась?
Запах черного хлеба
Куда бы мы с бабкой ни шли, всюду нас преследовал запах черного хлеба. Казалось, он идет от земли. Казалось, небо, развалины, город пахнут хлебом. Теплый, зовущий запах хлеба бил нам в лицо.
Мне было девять лет. Я не помнил вкуса пирожных и других невероятно вкусных вещей. Я не хотел их. Я хотел простого, черного, живого, дышащего хлеба.
Я хотел есть. Есть. Есть. Хотел опьянеть от сытости. От тепла. От солнца, которое каждый раз загоралось во мне, когда я был сыт.
Мне хотелось лета и хлеба.
А была осень. Беспощадная голодная осень. И осени не было конца.
Тепло
Сегодня мы топим печку. Это не такое простое дело. Особенно когда топить нечем. А есть у нас только жалкие кусочки толи, гнилые доски, мокрая бумага.
Бабка колет доски на тонкие щепочки. Бабка колдует. Она кладет щепочки в голодную пасть печки. Она перекладывает щепочки толью.
– Зажечь спичку? – спрашиваю.
– Что ты, что ты! – говорит бабка. – Ты еще маленький. Печка тебя не послушается.
Да, да, я еще маленький. Печка меня не послушается. Не загорится. Не зашумит. Не загудит. Пламя не забьется. Тепла не будет.
Печка не доверяет маленьким.
Печка верит взрослым. Тем, кто делал ее из обломков кирпича. Тем, кто замазывал ее щели. Тем, кто познал суровую радость ее тепла.
Бабка чиркает спичкой. Огонек бежит по толи. Горит. Щепки трещат, шипят. Дым валит в комнату. И вдруг вырывается пламя. Печка – ожила. Загудела:
«Сейчас, сейчас… Потерпите немного. Сейчас будет тепло. Терпение… Терпение… Главное – я снова с вами! Послушайте, какой у меня ровный, гулкий голос – у – у-у!..»
Я сижу на полу возле печки. Я смотрю на огонь. Тепло! Я плыву в теплом море. Я взмахиваю руками. Плыть! Плыть! Или – жить, жить! Одно и то же!
Красные отсветы пламени играют на полотенце, висящем на спинке стула. Это – не полотенце. Это – знамя зари!
Слушайте, дожди, осени, войны, зимы, холода, голод, я не боюсь вас. Плевал я на вас. Никогда не победите меня. Это я вам говорю, человек!
Я сижу на полу. У печки. Я смотрю на огонь.
А бабка крутит мясорубку. Ее одолжил наш сосед – шофер. Он одолжил нам мясорубку и несколько картофелин.
Бабка крутит мясорубку. Земля крутится. Комната крутится. Тепло!
Драники
Знаете, что такое драники? Это самая вкусная штука после хлеба! Уверяю вас, это потрясающе вкусно. Как приготовить? Спросите у бабки. Она лучше меня вам расскажет.
– Берете картошку. Так. Трете на терке. Или пропускаете через мясорубку. Добавляете немного отрубей. Делаете лепешки. Кладете на раскаленную сковородку. Если есть рыбий жир, льете одну столовую ложку. Если нету – воды. Жарите. Вот вам и драники.
Драники – от глагола драть, тереть. Перетирать картофель на терке или пропускать через мясорубку. Тут все зависит от вкуса. Если вы вегетарианец, трите. Если вы любите мясо, пропускаете через мясорубку. Драники, драники – деликатес! Оладьи – на рыбьем жиру или на воде.
Есть и другой способ. Аккуратно чистите картошку. Затем пропускаете шелуху через мясорубку и из «фарша» делаете драники. Картошку следует варить отдельно. Тогда у вас получится три блюда. Первое – картофельный бульон. Второе – пюре. Третье – драники… И если у вас вдобавок найдется кусочек хлеба, то…
К приходу матери у нас было все готово – и обед, и тепло. Мать улыбнулась.
– Разве сегодня праздник? А впрочем, – сказала мать, – сегодня праздник. Завтра я выхожу на работу. Буду расчищать улицы. Нас целая бригада… А потом мы будем строить… Дома, театры – все, что было до войны.
Солнце взошло вечером
За окном неожиданно посветлело. Тучи ушли, и робкое сентябрьское солнце глянуло на землю. Оно висело низко – низко, вот – вот готовое спрятаться за городом.
Солнце. Солнце. Солнце.
Солнце взошло вечером.
Но оно будет теперь всходить каждый день. Утром.
Кончились дожди. Солнце, солнце. Солнце – надо мной. Над нами. Над городом. Над домами. Над землей.
А земля кружится в сентябре. Летят желтые листья – печальные письма осени. Летят письма с фронта. И много таких писем, каких лучше бы никогда и не получать.
Это извещения о смерти. Похоронки.
«Ваш сын (муж, отец) пал смертью храбрых в бою под Ленинградом (Воронежем, Курском, Орлом, Минском)».
Лежат мертвые. В их глазах стынет солнце.
Глаза мертвых – солнца. Они – стынут. Они – умирают.
А солнце кружится в сентябре. А сентябрь рассылает печальные письма. А письма получают – сыновья, матери, жены, братья, сестры. И плачут. И кричат:
– Будь проклят тот, кто убил вас!
Они проклинают войну.
А старики говорят о войне:
– Нынче, безмозглая, у Анютки сына уволокла. И когда придавят эту гадину? Когда?
Люди верят: скоро!
Люди хотят: мир!
Люди знают: солнце будет всходить утром!
Так должно быть. Так будет!
Георгины
Осень называли сиротской. Тогда много солдат вернулось домой инвалидами. А еще больше – не вернулось.
Приходили санитарные эшелоны. Много – много эшелонов. Я смотрел на солдат, и каждый из них казался мне отцом.
Солдат встречали с цветами. Кипели пламенем георгины, и ораторы говорили о вечной славе погибшим.
Я брел с вокзала, и закатное сентябрьское солнце переходило мне дорогу и, засыпая на ходу, пряталось за дальними развалинами.
Когда мать приходила с работы, я говорил ей:
– Скоро и папа вернется.
Она кивала головой и смотрела на пламя в печке. Пламя было похоже на георгины. Мать всегда молчала, когда я говорил об отце. А бабка всегда говорила:
– Неизвестно, какой он еще вернется. Может, такой, что лучше бы ему и не возвращаться.
Я знаю, почему она так говорит. Я знаю, почему молчит мать. Они думают, что я маленький и многого не понимаю. Но это понятно и мне.
«Верьте, надейтесь, ждите»
Мой отец не вернется. Он погиб в сорок первом. Так было сказано в извещении – маленьком квадратном бумажном листке.
Погиб… Черное слово… Белая бумага… Белая – белая…
Мать: «Не верю! Не верю!»
Бабка: «Надо ждать. В такой неразберихе легко ошибиться».
Я: «Папа, это ведь неправда, что ты погиб? Скажи, папа!»
Мать берет меня за руку. Сорок второй – отступление.
Усталые лица солдат. Черная лента людей, покидающих город.
– Сейчас невозможно выяснить, насколько это верно, – сказали матери в военкомате. – Возможно, ваш муж попал в окружение… Без вести пропал…
– Но мне прислали похоронную…
– Я могу выдать вам извещение, что ваш муж жив и здоров.
– Как вы жестоки!
– Война… Нет времени для чувств… Простите, если обидел. Вы должны понимать… Скажу одно – верьте, надейтесь, ждите. Чудеса бывают.
Верьте. Надейтесь. Ждите. Чудеса бывают…
Да, чудеса бывают. Вот вернулся же Маруськин Петька. Без руки, а вернулся.
– Петь, ты Ивана не встречал?
– А Тихона?
– А Сергея?
– А Трофима?
– А Василия?
– Граждане соседки! – кричал Петька. – Отвалите! Живы ваши, живы! И Тихона видал, и Ивана, и Трохвима, и Ваську. Всех видал. Все живы. Поклоны вам шлют… А писем писать – некогда! Какие письма, женщины?! Война… Ждите, вернутся ваши мужики. Мое слово – закон!
Женщины уходили:
– Слава те господи! Спасибо, Петечка, утешил. Да и верно, какие тут письма! Им, нашим солдатикам, некогда. Воюют…
А Петька пил водку, орал песни, а потом рыдал:
– Никого не видел! Из этой мясорубки сам черт не вырвется… Войнища проклятая! Инвалидом сделала!