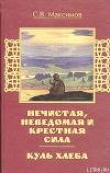Текст книги "Я жду отца (сборник)"
Автор книги: Юрий Воищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Карточки
Ура, ура, ура!!! Мать получила карточки. Продуктовые карточки! Карточки, по которым мы будем получать хлеб!
Вот они. Я держу их в руках. Мне кажется, я держу хлеб.
– Не порви, – говорит бабка.
– Да ты что!
Карточки, продуктовые карточки! Вы еще не забыли их? Или уже забыли? И не вспоминаете? И не помните, как они выглядят? Как пахнут карточки – право на жизнь? Карточки – билеты в мечту? Карточки – оглушительный запах хлеба?

Не верю, что вы забыли. Их нельзя забыть…
А если забыли, значит, забыли многое. Значит, забыли войну, холод, голод, тоску, дожди.
А если забыли, значит, забыли, что каждый день надо драться за мир, солнце, хлеб, улыбки. Каждый день надо сражаться за то, чтобы нигде, никогда, никто не держал в руках карточки и не плакал над ними от счастья.
Я прыгаю по комнате. Я целую карточки. Я целую хлеб, хлеб!
Бабка отбирает у меня карточки.
Я ору:
– Ура, ура, ура!!! Карточки, карточки, карточки!
А в магазинах стоят люди. Они держат карточки. И продавцы отрезают талоны от карточек. И люди несут хлеб.
А карточки прячут, чтобы не потерять. Никак нельзя терять карточки. Слишком суровое время для того, чтобы терять. Потеряешь – будешь без хлеба. Никто не даст новых карточек…
А продавцы режут хлеб. И люди просят:
– С довеском, пожалуйста.
Потому что очень хочется есть. И качает от голода. А когда идешь домой, можно съесть довесок. Маленький кусочек жизни.
И люди несут хлеб. И едят довески. И ломают от довесков маленькие кусочки. И сосут их, как конфету.
А хлеб тает во рту. А хлеб – совершенно невероятный – такой вкусный. И почему эти довески такие маленькие?!
Карточки, карточки, карточки!
Скоро и я пойду в магазин за хлебом. И буду просить:
– С довеском, пожалуйста…
И буду по кусочку есть довесок. Сосать его, как конфету…
Скоро и я пойду в магазин за хлебом.
Султан
Наконец-то! Я иду за хлебом.
Обычно за хлебом ходила бабка или мать. Но сегодня бабка прихворнула, а матери – некогда, и послали меня.
Я взял карточки и пошел.
За мной увязался Султан. Так звали пса, которого подарил мне Сенька Барсиков. Султан был инвалид. Задняя лапа у него перебита. Сенька говорил, что это немцы покалечили Султана. Они всех собак убивали, а Султана только подстрелили.
Султан, вероятно, был самой обыкновенной дворнягой. Но зато какой умница! Он даже сам и дверь стучался. Стучит и стучит, пока не впустят.
Я сразу его полюбил. И он меня. Куда бы я ни пошел, он обязательно за мной увязывался. И никак его не прогонишь.
У нас все Султана любили. И мать. И бабка. Только Николай Палыч ворчал:
– Негодная скотина. Хлеб задарма ест…
Магазин был недалеко. За несколько кварталов.
Я шел не торопясь, сжимая в руке заветные карточки.
На углу стояли мальчишки и хохотали на всю улицу. Я знал их. Это местные хулиганы Васька Гнус, Витька Телок, Жора Керя и гроза всей нашей улицы Колька Фикс. О нем говорили, что он ворует. Ребята то ли с восторгом, то ли с испугом называли его уркой.
Я был тихий малый, и меня часто колотили. К мальчишкам со своей улицы я относился с недоверием, а Кольку и его друзей просто боялся.
Они увидели меня и перестали смеяться.
Я никак не мог разойтись с ними. А удирать было стыдно.
Я шел на них. А они молча смотрели на меня. Я сжался, приготовился к их насмешкам, но они молчали. И от этого становилось еще страшнее.
Когда я поравнялся с ними, Витька Телок сказал:
– Стой.
Я остановился и тоскливо подумал: «Начинается!»
– Ишь ты, зазнался, – сказал Васька Гнус, худой и страшный, как мертвец.
– Угу, – подтвердил Жора Керя, неестественно выпучивая глаза.
– Чего вам надо? – дрожащим голосом спросил я, сдерживаясь, чтобы не зареветь от собственного бессилия.
– Спрашивает! – захихикал Телок. – Коля, объяснить ему, что ли?
Колька Фикс сказал:
– У тебя железо есть?
– Ага, – обрадовался я, думая дешево отделаться от них. – У нас во дворе за уборной много валяется… даже кровать есть… только она ржавая…
Мальчики заржали:
– Вот дурак! У тебя русским языком спрашивают: есть железо или нет?
Тут я понял, что разговор идет о деньгах и молча вывернул карманы. Кроме тетради с буквами, там ничего не нашлось. А карточки я держал в руке.
Мальчишки разочарованно порвали мою тетрадь и швырнули обрывки в лужу.
– Как же ты смеешь ходить по моей улице, да еще с кобелем, не имея железа?! – грозно спросил Колька, и сердце мое подпрыгнуло и упало от ужаса.
– Ладно, – смилостивился Колька, увидя, что я испугался. – На первый раз пропущу… Но кобеля заберу себе.
Оп стащил с себя ремень и, сделав петлю, набросил ее на шею Султана.
– Приветик! – крикнул Колька, и вся орава с криками и смехом потащила Султана за собой.
Султан рвался от них. Но петля сдавливала его шею, и он поневоле скакал на своих трех лапах за мучителями.
Он прыгал, пытаясь повернуть ко мне морду: где же я? На миг я увидел его черные расширенные от ужаса глаза, и меня словно толкнуло:
– Пацаны! – крикнул я и побежал за ними.
Они остановились.
– Пацаны, – сказал я, – отпустите собаку. Зачем она вам?
– А что дашь? – спросил Колька.
Думать было некогда.
– Вот! – Я протянул потные карточки.
Колька вырвал их у меня и, скинув ремень с шеи Султана, толкнул его ко мне:
– Целуйся с ним!
Ярость ослепила меня. Я швырнул кулак в его хохочущий рот, и Колька захлебнулся болью и криком.
На меня накинулись, смяли, швырнули на землю. Моя рука подвернулась. Что-то хрустнуло. И красные круги замелькали в глазах.
Боль
Плача, я пришел домой. Боль была во всем теле. Правая рука стала непомерно тяжелой. Она тянула меня к земле. Хотелось лечь и лежать долго и неподвижно.
Не раздеваясь, я свалился на кровать и с ужасом думал, что придется снимать пальто.
Рука горела. Казалось, она заполнила весь рукав, и всякое прикосновение к ней вызывало боль.
– Что с тобой? – испуганно и растерянно спросила бабка.
– Рука, – дернулся я.
– Поднимись, я сниму пальто…
После мучительных усилий сняли пальто. Рука сильно опухла.
– Ох, господи, как же ты так?! – спросила бабка.
– Упал, – соврал я.
О карточках промолчал.
Я снова лег, гримасничая от боли.
Бабка суетилась, меняла холодные компрессы, охала:
– Где же Надя?
За окном быстро темнело. Вечер. Мать задержалась на работе.
Бабка успокаивала и себя и меня:
– Ты не волнуйся… Это, наверное, вывих. Если бы ты сломал руку, было бы иначе…
Как иначе – она не сказала. Но я понял, что рука у меня сломана.
Я впал в странное полуобморочное состояние – полусон, полубред. Все было и отчетливо и нереально. Вроде бы комнату разделили на две части, и одну я видел отчетливо, а другую как сквозь дымку сна.
Бабка непрерывно ходила взад и вперед по комнате. И, когда она пересекала невидимую границу между сном и явью, мне казалось, что она раздваивается. И две старухи устало бродят по комнате, ищут друг друга и не могут найти. Мне становилось жутко. Мне хотелось кричать. Но боль стискивала горло, и только слезы сами собой катились и капали на рубашку.
– Что это вы без света сидите?
Это пришел Николай Палыч.
Бабка стала ему рассказывать о случившемся.
– Эх, юноша, – сказал Николай Палыч. – Руки надо беречь.
Не помню, что я говорил ему, знаю, что с его приходом боль вдруг стала невыносимой.
Бабка зажгла коптилку, и Николай Палыч принялся осматривать мою руку.
– Больно? – спросил он, осторожно дотрагиваясь до руки.
Меня словно дернуло током, и я закричал, вернее, завизжал от боли.
Николай Палыч сильно испугался и сказал:
– Ничего, бывает хуже.
Рука пылала. Я подумал: а вдруг загорится рубашка?
Продираясь сквозь мучительные приливы и отливы боли, я нетерпеливо чего-то ожидал. Это ожидание томило меня. Я никак не мог понять, чего я жду. Мне вдруг показалось, что я забыл самое главное, и от этого боль становилась сильнее и сильнее. Я никак не мог уловить мысль, не дававшую мне покоя. Казалось, она близко, и я вот – вот поймаю ее, но мысль ускользала. И я опять мучительно думал, что же мне нужно вспомнить.
И только тогда, когда пришла мать, я понял, что все время думаю о карточках. Меня бросило в жар. И не потому, что я боялся наказания, просто мне стало страшно, как же мы целый месяц будем сидеть без хлеба?!
Мать кинулась ко мне. Целовала. Плакала:
– Сыночка мой, сыночка!
О карточках никто не вспоминал.
Мать сразу засуетилась:
– Надо идти в «скорую помощь».
– Не пойду, – заныл я. – Спать хочется…
Мне действительно хотелось спать. Я судорожно зевал. «Спать, спать», – билось в мозгу.
Но мать была неумолима:
– Одевайся.
– Не пойду! Завтра…
Тогда меня стали уговаривать.
– Я тебя завтра на самосвале покатаю, – пообещал Николай Палыч.
– Не – е…
– Я тебе леденцового петуха куплю, – пообещала мать.
– Не надо! Хочу спать. Не пойду!
Бабка оказалась хитрее всех. Она сказала, что врач «скорой помощи» всем больным, которые приходят к нему на прием, дарит интересные книжки с картинками.
– Так уж и дарит?! – недоверчиво протянул я.
– Обязательно! – подтвердил Николай Палыч. – Закон такой! А иначе, какой интерес было бы туда идти?!
От книг я никогда не отказывался. Их было мало, а с картинками – тем более. И достать их было трудно. Да и негде.
– Ну тогда…
И на меня стали надевать пальто. Его надевали со всеми предосторожностями. Но все равно я вздрагивал, когда рука ползла по тесной трубе рукава. Наконец пальто надели. Мать застегнула меня на все пуговицы и еще обмотала старым шерстяным платком – чтобы не продуло. От платка мне так и не удалось отделаться.
После нашей плохо освещенной комнаты улица показалась мне совсем темной и мрачной.
Спотыкаясь, мы вылезли на гору и среди развалин поплелись в сторону центральных улиц. О фонарях тогда и не мечтали, а свой фонарик Николай Палыч забыл дома. Так мы и плелись вчетвером: мать, бабка, Николай Палыч и я, спотыкаясь о камни и мечтая выбраться на ровную дорогу. Развалины наплывали справа и слева. Темные, выщербленные стены то надвигались, то отступали. И мне начинало казаться, что развалины дышат, хрипло, надсадно и вот – вот набросятся на нас, маленьких, слабых человечков, нарушивших тишину руин.
«Скорая помощь» находилась на другом конце города. Пока мы до нее добрались, прошло немало времени. Спустившись по темной лестнице, мы очутились в ярко освещенном помещении. Это было нечто вроде приемной. Николай Палыч заглянул в другую комнату, и через секунду я уже стоял перед врачом – веселой, полной женщиной.
– Терпи, – сказала она. – А если будет очень больно – кричи во все горло.
Она потянула меня за руку. Я только кряхтел. Все боялся рассердить врача и не получить книгу.
Наконец руку уложили в лубки, и мне стало гораздо легче.
– А ты молодец, – заулыбалась женщина. – И не крикнул.
Я тоже заулыбался:
– Да, тут закричи! Небось книгу тогда бы не дали?
– Какую книгу? – удивилась женщина.
Бабушка ей что-то быстро зашептала на ухо.
– Ах, да. Чуть не забыла!
Женщина вышла и вернулась с книгой, немного потрепанной, но зато с картинками. Я схватил книгу, крикнул спасибо и, спотыкаясь на каждой букве, прочитал название: «Приключения Тома Сойера».
Лишь спустя много времени я узнал, что бабка принесла книгу с собой и попросила врача отдать ее мне.
В обратный путь мы двинулись, лишь когда начало рассветать. Утро было туманное, и у нас слипались глаза – так хотелось спать.
Развалины выплывали из тумана, но они уже не казались такими страшными и угрюмыми, как ночью. Я еще подумал – и чего это я их боялся?
Когда я нырнул под одеяло, на меня вдруг теплой волной хлынуло предчувствие счастья. Я уснул улыбаясь.
И лишь когда мать разбудила меня, чтобы идти в больницу, я понял, что предчувствия не всегда исполняются.
Гипс
– Ну, пошли, – говорит мать.
Ранним утром мы идем в больницу. Надо положить руку в гипс.
Конец октября. Резкий ветер. Голые деревья. И мы идем в больницу, чтобы мою сломанную руку положили в гипс.
Две тоненькие дощечки, между которыми дремлет боль, называются лубками. Если их снять, боль проснется. И я очень боюсь того момента, когда снимут лубки, чтобы положить руку в гипс.
– Вот одному мальчишке тоже сломали руку, – говорю, – и ничего. Срослась. И в гипс не клали… В лубках проходил, и ничего, срослась…
Мать молчит, и мы приходим в больницу. «Гипса нет! Подождите главного». Ждем. Целый день ждем. Главный: «Гипса нет. Я все прекрасно понимаю! Да, да. Рука сломана… Но гипса нет. А где достать, не знаю… Разумеется у нас больница, а не что-нибудь такое! А гипса нет! Потрудитесь выбирать выражения! Здесь вам не базар! Что?! У всех мужья погибли!»
И мы идем домой.
Мать впереди, я сзади.
А зря она сказала про отца. И почему она решила, что он погиб?! А вдруг мы придем домой, а он дома. И говорит: «Эх, вы, спекулируете мной! А я-то думал! Эх, вы!» А главный – тоже хорош! Подумаешь – гипса нет! Вот был бы я генералом, пришел бы к нему. Выкладывай гипс! Он бы тогда не очень-то орал! Выложил бы да еще спасибо сказал, что цел остался…
– Отказали вам? – спрашивает бабка.
– Отказали…
– Оно и правильно: бедному жениться – ночь коротка.
– Просто гипса нет…
– Кому нет, а кому есть. Так всегда было… И в мирное время, до революции, богачи жили, а бедняки терпели. И сейчас так же, бедный куда ни кинь – всюду клин!
– Ничего ты не понимаешь, – сказала мать. – И глупости говоришь. Война ведь! Всем очень трудно, не нам одним…
Бабка поворчала – поворчала, потом сказала:
– Это правда, всем сейчас тяжело, потому война как… И гипсу этого опять же нет… Да вить только мальчонку оттого не легче. У меня сердце кровью обливается, на него глядючи… А может, его к бабке свести? Заговорит. Она одному военному зубы заговаривала. Вмиг прошли. А военный тот – не нам чета. Представительный такой мужчина. Все зубы, как один, золотые. А болят! Ведь, скажи пожалуйста, золотые, а болят! Спасу нет. А та бабка – вмиг заговорила. Налила в блюдечко святой водицы, пошептала, подула, на военного брызнула. Он и ожил. Вот ведь как, дочка…
– А эта бабка – колдунья? – спрашиваю.
– Не скажу… Но слух такой был. И в медицине – толковая.
Мать, конечно, отказалась идти к знахарке. А жаль! Я ведь страх как люблю фокусы! Может, и сам чему-нибудь научился б. А потом ребятам показывал. А то Сенька меня раз обманул. «Хочешь, говорит, фокус покажу?» – «Хочу», – говорю. «На, говорит, тебе бумажку, жми ее, дави как хочешь. Я ее потом в момент расправлю. Будет как новенькая». Я и поверил. Взял бумажку и давай ее комкать, тереть – чуть не порвал. Ну, думаю, ни за что Сеньке ее не расправить. «На, говорю, расправляй». А Сенька бумажку взял, дико заржал и говорит: «Спасибо, есть теперь чем подтереться!» Так разве это фокус?! Я его одному семикласснику показал, так он меня чуть не пришиб…
После длительных разговоров о гипсе Николай Палыч решил, что, пожалуй, лучше всего пойти в госпиталь и попробовать достать там.
На другой день он отвез нас с матерью туда на своем самосвале. Но и там мы потерпели неудачу. Мать долго с кем-то говорила, умоляла, спорила, но так как я не был военным, гипсу не дали.
Мы шли по длинному, бесконечному коридору, и мать в бессильной ярости ударила кулаком о стену и заплакала. Так она и шла, плача и не вытирая слезы. А мне почему-то было мучительно стыдно, и я все вертел головой – не идет ли кто, и боялся, что кто-нибудь увидит, как плачет мать. И, как назло, вывернулся какой-то. Он был в больничном халате, небритый, огромный. И очень быстро двигался на костылях. Левой ноги у него не было.
Он посмотрел на мать и остановился:
– Простите, что лезу не в свое дело, но, может, смогу чем помочь? Почему вы плачете? Муж здесь лежит?
Мать даже не остановилась. Он поймал ее за руку.
– Послушайте, не сердитесь. Я ведь просто подумал, что, может, могу вам чем помочь…
– Никто мне не поможет, – выдергивая руку, сказала мать. – Во всех больницах не нашлось какого-то жалкого гипса. А у мальчика рука сломана…
Огромный человек дернулся, будто его ударили…
– Идемте, – выдохнул он и бешено застучал костылями по коридору.
Мы с матерью, ошеломленные, невольно пошли за ним.
Он ворвался в кабинет главврача и закричал седому, печальному человеку, поднявшемуся нам навстречу:
– Развели бюрократию, тыловые крысы! Сидите здесь, а мы там… Дерьмового гипса не нашли! Да подавитесь вы им! Гады! А пацан без руки из-за вас останется… Да за такие штучки!..
Он говорил надрывно, бессвязно. Костыли так и прыгали в его руках. Главврач спокойно и, как мне показалось, равнодушно смотрел на него. Наконец раненый выдохся.
– Вы все сказали, Назаров? – спросил главврач. – Покажи руку, мальчик…
Мать сняла «шины». На руку жалко было смотреть – такая она была распухшая и синяя.
– Вам надо было сразу прийти ко мне, – сказал главврач.
– Я не знала, – начала оправдываться мать.
Но он уже кого-то вызвал, меня куда-то повели, и вот уже рука лежит в гипсе, спокойно и хорошо.
Мать стала прощаться и благодарить главврача.
– Зайдите с мальчиком через месяц – снимем гипс. А благодарите не меня, а его.
И он указал на Назарова, который стоял в уголке и, потихоньку покуривая в кулак, виновато поглядывал на главврача.
– И не курите. Что вы мне обещали?
Это уже относилось к Назарову.
Мы пошли. Назаров проводил нас до выхода.
– Огромное вам спасибо, – сказала мать. – Никогда не забуду… Вы обязательно приходите к нам, когда поправитесь.
Она написала адрес на клочке бумаги и отдала его Назарову.
– Обязательно приходите, – повторила мать, и мы залезли в машину.
– Спасибо… Возможно, зайду… Когда поправлюсь…
Николай Палыч с мученическим видом сидел в самосвале и курил папиросу за папиросой. Ни слова не сказав, он бешено рванул машину с места. Я оглянулся. Огромный добрый человек стоял в дверях госпиталя и улыбчиво смотрел нам вслед.
Николай Палыч долго – долго молчал и подчеркнуто обращался только ко мне. На мать он даже не смотрел. Видимо, он обиделся на нее за то, что она так долго говорила с Назаровым и еще пригласила его в гости.
Рука под гипсом страшно чесалась. И когда дома я сказал бабке об этом, та успокоила меня:
– Заживает.
Наконец я решился сказать матери о потерянных карточках. Она махнула рукой:
– Проживем как-нибудь…
Наверное, после всех этих страшных мытарств ей было не до карточек.
Вечером я лежал в постели и рассматривал картинки в «Сказках» Андерсена и «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена. Было тихо – тихо. И на душе у меня было спокойно. И непонятная радость переполняла меня. А когда я заснул, мне приснился маленький добрый человек – волшебник Андерсен и веселый мальчишка Том Сойер.
С главврачом я так больше и не встретился. Когда через месяц снимали гипс, я услышал от санитарок, что он уехал на фронт с санитарным эшелоном и погиб во время авиационного налета.
Мой друг Сенька и другие
Я и не знал, что у меня столько друзей. Пришли почти все ребята из нашего касса. Их притащил Сенька.
– Ну, говорите чего-нибудь, – сказал Сенька. – Развлекайте…
Говорить было не о чем. Ребята сидели, скучали, бормотали…
– Ну как, лучше себя чувствуешь?
– Ага…
– А мы алфавит закончили…
– Ух, ты!
– Буквы пишем… Приходи скорей…
– Приду…
– Ну мы пошли… Пока.
– Пока.
– Поправляйся.
– Поправлюсь.
– Всего…
– Всего…
Когда они ушли, Сенька недовольно пробурчал:
– Тоже мне – развлекатели! Так – мелкота. И говорить-то не умеют.
– Чего ты на них?
– Да так. Надоели… Пока уговаривал их прийти, язык заболел. То одному некогда, то другому, то мамочка не пускает: «Куда идешь? А может, у него болезнь заразная?» Мелкота, словом… Вот у нас в классе ребята! Друг за дружку держатся. Друг дружке помогают. А говорить начнут – не наслушаешься! А у вас, так – тупари одни!
– Давай загинай! Знаю я ваш класс!
Сенька страшно злился, но все равно ходил ко мне каждый день. И все рассказывал разные необыкновенные истории, вроде бы с ним случившиеся. А когда я ему не верил, страшно обижался:
– Скажи спасибо, что у тебя рука сломана, а то бы…
И сейчас, много лет спустя, мы по – прежнему дружим с Сенькой. И по – прежнему он рассказывает мне всякие невероятные истории, вроде бы с ним случившиеся. И по – прежнему задирается, когда я ему не верю.
Назаров
В коридоре школы висел плакат. Улыбающийся солдат держал на руках ребенка. Внизу была надпись: «Он вернется с победой».
Я смотрел на плакат, и мне казалось, что однажды я приду домой и увижу отца. Он подхватит меня на руки и будет улыбаться, как боец на плакате.
Иногда я настолько начинал верить в это, что мне трудно было высидеть до конца занятий, и я убегал с уроков.
Я бежал по улицам, задыхаясь от ожидания. Но когда из-за угла наш дом выступал мне навстречу, я останавливался и понимал вдруг, что бежал напрасно.
Я подолгу стоял возле дома. Ветер надрывал луженое ноябрьское горло. Деревья стучали ветками, будто хотели согреться. Плакало небо, как старая женщина, поминая усопших. И я, наверное, плакал. Сейчас не помню. Да это и не важно. Главное, я понимал, что плакат – это плакат, не больше и не меньше. А война – это не только фильмы с обязательно счастливыми концами, но и бесконечное ожидание тех, кто уже никогда не вернется.
В тот день я тоже долго стоял возле дома. Я просто боялся заходить. Боялся потерять всякую надежду.
Так я стоял и смотрел в конец улицы, словно именно оттуда и должен был появиться отец. Улица была пустынная. Только далеко – далеко, в самом ее конце, медленно двигался мужчина на костылях.
Меня будто бы толкнуло, и я побежал к нему навстречу. Я узнал его. Это был тот самый человек из госпиталя, который кричал на главврача. Это был Назаров.
– Узнал меня? – спросил Назаров. – А я пришел к тебе чай пить… Не прогонишь?
– Да что вы! – заулыбался я.
– Дома кто есть?
– Ага… Все дома… И мама… У нее выходной сегодня…
– Значит, удачно я зашел, – засмеялся он. – Все в сборе.
– А мы вас давно ждем… Только вы все не идете и не идете…
– Лечили меня. Как видишь, вылечили…
Мы прошли в комнату. Мать стояла к нам спиной и что-то говорила бабке.
– Здравствуйте, – тихо сказал Назаров, и я не узнал этого огромного человека. Так он смутился и походил на застенчивого, растерявшегося мальчишку.
Мать обернулась.
И вдруг – о чудо! – мать засмеялась. Она засмеялась так, как смеюсь я, когда что-то меня обрадует.
– Здравствуйте, – сказала мать.
Она близко подошла к Назарову и пожала руку.
– Проходите… Садитесь…
Назаров застенчиво улыбался:
– Да я на минутку…
– Нет, нет, раздевайтесь… А это мама. Знакомьтесь.
– Очень приятно, – сказала бабка. – А я вас совсем другим представляла…
– Наверное, вроде сумасшедшего, – засмеялся Назаров.
– Что вы, что вы! – смутилась бабка.
Назаров повесил шинель и обвел глазами комнату.
– Темно у вас…
– Темно, – сказала мать. – Слава богу, что хоть крыша над головой есть… Другие-то как мучаются! В землянках живут.
Наша комната – совсем темная. Единственное окно до половины заложено кирпичами. А крохотный осколок стекла, вмазанный в кирпичи, дает так мало света, что часто даже днем, когда я готовлю уроки, приходится зажигать коптилку. Наша комната – совсем темная. Совсем. Но можно ли жаловаться, когда другие и этого не имеют? Даже крыши над головой. Даже такого крохотного оконца, как у нас?! Да никто и не жалуется! Просто так. К слову пришлось.
– А как вы поживаете? – спросила мать.
– Да так… Прыгаю. Живу пока при госпитале. Думаю работу найти какую-либо.
– А из родных у вас есть кто-нибудь? – спросила бабка.
– Никого, – сказал Назаров. – До войны жил с мамой – старушкой в Крыму, в Севастополе. Потом уехал… в летной школе учился. А перед самой войной мама умерла… Так что один – разъединственный по свету брожу.
– А как же вы теперь жить думаете? – спросила бабка.
– Не знаю… Пока воевал, все было ясно: драться до победы. А сейчас и не знаю, что делать… Как говорится, вышиб меня немец из колеи… Что я теперь? Инвалид! Гляну в небо – душе больно: ребята мои летают, а я по земле прыгаю. Вроде стрекозы, а только без крыльев…
Назаров долго рассказывал о себе. Он был летчик. Капитан. В начале сорок четвертого его подбили. Он выбросился с парашютом. Немец из пулемета изрешетил ему ноги. Одну отняли.
– Ампутация, – сказал он.
Как жил до войны…
– Это я уже вам рассказывал…
Жениться не успел. Вернее, не захотел.
– Слишком большая роскошь для летчика. Тем более для военного… Так вот и живу.
Бабка жалела.
– Бедный!.. Не горюйте, – говорила она Назарову. – Жизнь порой горче горечи. Не везет и не везет. А потом смотришь – и солнышко проглянет. Улыбнется счастье… И нет человека такого, кому счастье ни разу бы не светило. Ведь и жизнь-то так устроена: после горести – радость, как после ливня – солнце. И вам повезет…
Назаров не успел ответить – пришел Николай Палыч. Он так и застыл на пороге, увидев Назарова. Николай Палыч изобразил улыбку и закивал Назарову:
– А у нас гости, как я вижу. Будем знакомы…
И Николай Палыч без умолку начал говорить обо всем на свете: и о погоде, которая нынче не ахти какая, и о ценах на «черном рынке», и о том, где он работает и сколько получает, и о том, и о сем, и ни о чем. Особенно он нажимал на слово «мы». Мы, мол, одной семьей живем, мы, мол, сделали то-то и то-то, у нас, мол, все в относительном порядке – живем, хлеб жуем да на небо смотрим. А у вас, мол как?
– Да так себе, ничего, – сказал Назаров. – Как у всех, так и у нас.
Я слушал и удивлялся: почему ни мать, ни бабка не одернут Николая Палыча? И какая у нас одна семья? Он живет сам по себе, а мы сами по себе. Ну, приходит он к нам каждый день, так что здесь такого? Посидит, посидит да уйдет. Ведь соседи все-таки. Пусть ходит. Только зачем он за нас расписывается? Мы да мы. Говорил бы уж за себя… И чего его не одернут?
И мать меня тоже удивила. Я не узнавал ее. Она смотрела на Назарова и тихонько улыбалась. Я словно впервые увидел ее и поразился – такая она была красивая. Это была не обычная будничная красота, к которой я привык, – это была праздничная, яркая красота, какой я еще никогда не видел, и я поразился. И я подумал, что когда человек долго ждет счастья, и счастье вдруг приходит – он должен быть таким же необыкновенно празднично красивым, какой была тогда моя мать.
Наконец бабка догадалась позвать всех к столу, и мы сосредоточенно начали прихлебывать чай.
– Разве это чай, – пробурчал Николай Палыч. – Это ж не чай, а вода на сахарине…
Он пошел к себе и принес четвертку спирта.
– Вот и чай, – сказал Николай Палыч.
– Ну что ж, выпьем, – сказал Назаров.
Они выпили, и Николая Палыча понесло.
Он с ходу принялся излагать свою неповторимую теорию продления жизни. Бабка внимательно слушала.
– А что, Николай Палыч, кажись, какое-то новое средство открыли? – спросила бабка.
Николай Палыч оскорбился и отрезал, что его йод – самое последнее и новейшее средство. А все остальное – надувательство и шарлатанство.
Он говорил, а сам все поглядывал на мать и Назарова. Но они не замечали его взглядов. Они видели только друг друга. Все остальное мало их интересовало. Они не разговаривали, а сидели и молча смотрели друг на друга. Но даже я слышал их разговор. Даже я слышал слова, которые они не произносили. И мне вдруг показалось, что я иду полем на рассвете. И очень тихо, и прохладно, и сумерки лиловыми глыбами отваливаются от неба. И трава – высокая, росная, и запоздалые звезды лежат в траве. И я жду чего-то, жду. И томлюсь ожиданием. И ноги мои мокры от росы. И губы мои сухи от несказанных слов. И сам я – слово, еще не сказанное кем-то.
– …приходит муж, а жена с любовником, – донесся до меня голос Николая Палыча.
Он «выдавал» какой-то очередной анекдот. Мы с бабкой посмеялись из вежливости, и наступило молчание.
И вдруг мать и Назаров засмеялись громко и радостно. И было видно, что смеются они чему-то своему, о чем у них шел разговор без слов, а совсем не анекдоту.
Николай Палыч вздрогнул, поднялся и, бросив в пространство: «Привет!» – ушел. Никто его не задерживал.
Вскоре после него поднялся и Назаров. Мы с матерью пошли его провожать. На углу нашей улицы Назаров остановился.
– Спасибо вам, – сказал он матери.
– За что, Алексей Иванович?
– Спасибо… Тосковал я все дни… У вас побывал – отлегло от сердца…
– Вы к нам заходите… Почаще… Ведь и мы – совсем одни… Ни родных, ни близких.
– Горькая штука – одиночество. Человек без людей и себя потерять может…
– Я понимаю…
– Ну, Сергей, – сказал Назаров, – давай руку… А это тебе от меня на память. Всю войну, можно сказать, проносил.
И он протянул мне звездочку, которую солдаты носят на пилотках. И я взял потускневшую солдатскую звездочку, которая – как памятник всем погибшим в этой войне и как высшая награда всем, кто воевал и вернулся живым.
Когда мы вернулись, мать вдруг подхватила меня на руки и закружилась по комнате. И смеялась. И я смеялся. И бабка смеялась.

И вдруг мне показалось, что я снова бегу по полю. И горит надо мною громадное солнце. И травы – сухие, мертвые – путают ноги. И сердце сжимается – такое пустое поле. И нет никого. Только мертвые травы и цвелое рыжее солнце на пыльном небе. И я бегу и тоскую – так мне страшно. И тогда я вижу: далеко – далеко, на самом конце поля, – отец. Мне кажется, он идет мне навстречу. Но чем ближе я подбегаю к нему, тем яснее вижу, что он медленно уходит от меня.
«Папа!» – кричу.
А он уходит.
«Папа!» – кричу.
Уходит.
Не обернется. Не глянет. Уходит. В шинели. Худой. Длинный. Небритый. Уходит.
Я бегу, и кричу, и машу руками. А земля бешено вращается под ногами. И земля похожа на гигантское колесо, какие обычно стоят в парках и по которому надо бежать, не останавливаясь ни на секунду – иначе свалишься.
«Папа!» – кричу и останавливаюсь.
Колесо отбрасывает меня. Лежу – лицом в землю. Потом поднимаю голову. Отца нет. Ушел.
Мать кружит меня по комнате. Я вырываюсь из ее рук.
– Ты не знаешь, где у нас фотокарточка отца? – спрашиваю.
Улыбка исчезает с ее губ. Она долго смотрит на меня.
– Зачем она тебе? – спрашивает.
– Нужна, – говорю.
– Сейчас найду…
Мать долго копается в старых бумагах и письмах. Находит фото.
– Зачем оно тебе? – спрашивает.
– А разве тебе оно уже незачем?!
– Не смей говорить так! Что ты понимаешь в жизни?!
Молчу. Разглядываю фотографию. Не хочу говорить с матерью. Ненавижу ее. Всех ненавижу – и Назарова, и Николая Палыча. Что им нужно?! Чего они лезут?
– Что я тебе сделала?
Спрашивает! Другие матери ждут и с чужими мужиками не разговаривают. А она!..
– Почему ты молчишь? Что я тебе сделала?
– Ничего, – говорю.
И вдруг мне становится страшно жаль ее. И себя. И всех других пацанов, которые без отцов. И матерей – тоже жаль. А чем я им могу помочь?! А мне кто поможет?! Я молча разглаживаю карточку. Потом бабкиной булавкой прикалываю ее к стене над своей постелью. И отец смотрит на меня со стены задумчиво и печально.