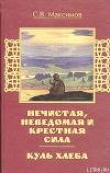Текст книги "Я жду отца (сборник)"
Автор книги: Юрий Воищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Гадания
Тогда все гадали. Гадали на картах, воске, пепле. Гадали для того, чтобы хоть чем-то подкрепить свою надежду.
Бабка тоже гадала. Мы с матерью садились за стол и смотрели на нее. А бабка брала затертую колоду карт, тасовала, бормотала и начинала гадание. Сначала она доставала трефового короля. Говорила матери:
– Задумай крепко…
Мать брала карту. Долго держала ее. Потом осторожно клала на стол.
Бабка раскидывала карты:
– У – у, Надя, хорошая карта! Видишь, у него на сердце дама. Ты – значит. Тоскует по тебе. В голове – собственный дом… Дальняя дорога… Не иначе, отпуск получит. Что было – хлопоты… Что будет – радость… Сердце успокоится – выпивкой. Жив он, Надя, жив. Не я говорю – карты! Ты смотри, как ему хорошо выпало. Не иначе, к Новому году в отпуск приедет.
Потом бабка гадала на мать. И выходило, что ее ждет скоро свиданье по «близкой дорожке» с военным королем – мужем, значит.
Потом гадали на меня. И мне выходило, что меня любит какая-то пустая дама и что по «дальней дороге» ко мне должен скоро приехать военный король.
О гаданья наивные! Вы утешали. Вы помогали верить, надеяться, ждать. Гадали женщины. Им выходило, что скоро – скоро вернется военный король. И жены плакали от тихого счастья. И ждали, замирая, этого свиданья и шептали: «Скорей, скорей!»
А военный король, изображенный на карте великолепным мужчиной на лихом скакуне, лежал молчаливый и равнодушный. Мертвый.
А жена ждала его. А жена говорила с ним. А жена видела его во сне. А жена гадала – скоро увидимся! А муж был мертв.
И все равно, даже зная об этом, женщины гадали. Женщины верили, надеялись, ждали. Чудеса бывают. Это верно.
Так почему же и я не могу надеяться на чудо?!
Отец
Я лежу укрытый одеялом и пальто. Печка давно погасла. Холодно.
Мать сидит рядом и рассказывает об отце.
Так бывает каждый вечер. Когда я ложусь спать, мать подсаживается ко мне и начинает рассказывать.
Бабка дремлет возле коптилки. Она пытается штопать мою рубашку, но ее клонит в сон. И она засыпает сидя.
Мать говорит ей:
– Ты бы легла, мама.
Бабка вздыхает, вздрагивает, бормочет:
– Кажись, я заснула…
Кряхтит, ложится, храпит.
Мать рассказывает об отце. Сейчас мне кажется, что она говорила для самой себя. Образ мужа начинал стираться в ее памяти, тускнеть, уходить, и она каждый раз вызывала его, возвращала его обратно.
– Ты был совсем маленький. А папка – огромный. Большой – большой. Громадный. Как великан. И сильный. Самый сильный… И добрый. Самый добрый… А тебя он любил! И все таскал на руках, хотя ты уже был тяжелый – претяжелый. И еще – он подбрасывал тебя к потолку. А потом ловил над самым полом. А я на него ругалась: «Уронишь!» А он смеялся: «Дуреха! Разве я его уроню!» А я так боялась, так боялась, что он тебя уронит…
– Не надо, мамочка… Ну, не плачь!
– Глупенький, разве я плачу?! Это коптилка мигает, тебе и кажется… Так вот… Мы часто ходили гулять. Втроем. Это – когда ты уже подрос. И даже бегал. Но ты был ужасно ленивый. И все хныкал: «Хочу на ручки!» А папка не разрешал мне брать тебя на руки. «Он уже большой», – говорил. А я сердилась: «Маленький!» Он мне не разрешал носить тебя. «Надорвешься», – смеялся. А сам подхватит тебя, посадит на плечо. И идет. А люди на него смотрят – такой он высокий, веселый, красивый. А я ему – по плечо. И люди улыбаются – такой молодой, а уже двое больших детей! Он меня звал – маленькая мама. Я, и правда, по сравнению с ним была очень маленькая. А когда тебя возьму на руки, то со стороны это очень смешно. Ты большой, тяжелый. Я тебя тащу, а ты ногами за землю цепляешься…
Мать говорит тихо – тихо. Совсем тихо. Ее еле слышно. Коптилка гаснет. В темноте я не вижу лица матери. Мне кажется, она плачет.
Рассказы тянутся, кружатся, повторяются. Я засыпаю. Но и сквозь сон до меня доносится голос матери.
Мне часто снится одно и то же. Мы идем с отцом по какому-то городу. Город – знакомый и незнакомый. Но я знаю: это город, где я родился.
Я вижу много людей. Они работают, поют, смеются. Они строят дома. И отец строит дома. И говорит мне:
– Для тебя строю. А вырастешь – будешь строить для своего сына.
Мы идем с отцом по земле. По разным городам. Я не знаю, что это за города. Я вижу – они цветные. Один город – синий, другой – зеленый… И всюду люди работают, поют, смеются.
А потом я вижу мать. Она идет нам навстречу и что-то говорит. И отец что-то говорит ей. И они улыбаются. И они целуются. И они шутливо грозят мне – не подглядывай.
И вдруг – черное небо, черные птицы, черные кресты. И люди бегут. И здания падают. И земля летит в небо. Тогда я слышу, невероятно отчетливо слышу суровый голос: «Война…» А дальше – темнота. Потом вспыхивает оглушительное солнце. И я просыпаюсь.
Сны исчезают – остается действительность. Сны – это только сны. Ни больше ни меньше. Можно верить хорошим снам. Можно не верить. Лучше не верить. Потому что сны редко сбываются.
А моя бабка верила снам. И мать тоже. И я верил. И все, кто ждал, верили. А иначе невозможно было жить. А сны – они обманывали. На то они и сны.

Вода
В воскресенье у нас воскресник. Мать стирает, моет полы. Бабка готовит обед. Как всегда, из трех блюд. А я ношу воду.
Я беру ведро и иду под гору. Там колонка. Совсем недавно дали воду, и теперь у колонки постоянно торчит очередь. Вода еле льется. Ведро – 15 минут.
Люди в очереди молчат. Стоят неподвижно. Медленно – медленно льется водяная струйка. Медленно – медленно движется очередь.
Вода ударяет в дно ведра. Струйка тонкая – тонкая. Кажется, она вот – вот оборвется.
Вода. Ты льешься, значит, город начинает жить! А совсем недавно мы ходили за тобой на реку. Далеко ходили. Ходили с ведрами, жбанами, тащили на тележках бочки.
А сейчас ты льешься из колонки.
Ты еще слабая пока, вода. Но знаю, скоро город оживет. И тогда ты загудишь по трубам. Ты ударишь сильно и упруго в дно ведра, вода.
Пусть пока тоненькая струйка. Пусть! Это очень здорово, что ты рядом, вода. И не надо ходить за тобой на реку. Не надо выставлять корыта, тазы, кастрюли во время дождя. Не надо ловить тебя, вода.
Ах, какой был зной, когда мы уходили из города! И воды не было. А хотелось пить. Люди плакали тогда, жалея о том, сколько воды они раньше тратили на стирку, на купанье, сколько воды они раньше пили, выливали, выплескивали, теряли. «Ах, вода!» – говорили люди. И солнце катилось раскаленной сковородой. И земля крутилась раскаленной сковородой. И небо падало раскаленной сковородой. Так хотелось пить. И люди ждали дождя. И молились о дожде. И плакали о дожде. О воде.
Есть милые банальности: солнце – теплое, хлеб вкусный, вода – сладкая. И я никогда не боюсь сказать банально: солнце – теплое, хлеб – вкусный, вода – сладкая!
Я поднимаю полное ведро двумя руками. Вода вот – вот перельется через край. Мне тяжело. Мне радостно – вода!
Я тащу ведро двумя руками. Я прижимаю, ведро к животу. Бережно. Как ребенка. Я иду медленно – медленно. Чтобы не расплескать воду. Чтобы не потерять ни капли.
Ох, какое тяжелое ведро! Пот капает с моего лба в воду. Ведро давит на мой живот. Ох, и сильная же ты, вода! Вот упрямая! Так и хочет выскочить из ведра… Хе – хе, только без щекотки!.. Вот возьму и брошу тебя, ведро. Будешь знать, как хулиганить. Не брошу? Брошу. Спорим, брошу? Бросаю!
Я осторожно ставлю ведро на землю.
Я размахиваю руками. На ладонях – красные полосы. Глубокие – глубокие. И руки болят.
Я злюсь. Снова тащу ведро. Каждые пять шагов я останавливаюсь, ставлю ведро на землю, отдыхаю.
Фу – у влез на гору! Я весь мокрый. Жарко… Еще немного… совсем немного… ну, еще один шаг! Еще один. Еще. Стоп. Дверь. Стучу ногой. Дверь распахивается. Дверь толкает ведро. Ведро толкает меня. Я падаю на землю. Вода льется на меня. Я ору:
– Ой – ой! Брр!
Потом сижу мокрый и реву. Слезы капают в лужу. Слезы смешиваются с водой… А может, это я такой рева и наплакал целую лужу?!
– Что ж ты так дверь открываешь?! – говорю бабке. – Не умеешь открывать, так и не открывай! Видишь, мокрый весь из-за тебя…
– Ах, ах! – суетится бабка. – Простудится!
– Ах, ах! – суетится мать. – Простудится!
– Ах, ах! – говорю. – Обязательно простужусь!
И реву. Реву не из-за того, что промок. Не из-за того, что напрасно надрывался. Реву просто из-за воды. Реву, и все!
– Ну чего ты? – говорит бабка.
– Ну чего ты? – говорит мать.
– «Чего ты, чего ты»! – говорю. – Вам бы так!
– Переодевайся скорей, – суетится бабка.
Снимаю куртку, сшитую из немецкого мундира, рубашку, переделанную из маминой кофточки, сапоги сорок восьмого размера, штаны неизвестно из чего сделанные. Стою голый. А на голове у меня дореволюционная папаха. От деда наследство. Стою. Уже не реву. Вздыхаю.
– Обед скоро? – спрашиваю.
– Готов, готов, – говорит бабка.
– Садись, садись, – говорит мать.
Закутываюсь в одеяло. Сажусь к столу. Ем три блюда. И вздыхаю о пролитой воде.
Сосед
Хорошо, когда есть соседи. А еще лучше, когда соседи – добрые. Я считаю, что нам здорово повезло в этом отношении. Наш сосед – Николай Палыч – шофер и вообще хороший дядька. Не раз выручал он нас в трудную минуту. Бабка души в нем не чаяла.
– Какой человек! – говорила бабка. – И помощь окажет, и словом утешит.
Меня больше привлекала машина, на которой ездил Николай Палыч. Правда, машина как машина. Довольно старая и потрепанная полуторка. Николай Палыч вывозил на ней за город мусор и прочие ненужности. Но, как сказал он сам, без его машины строители загнулись бы.
– Ведь понимаешь, парень, какое дело, завод восстанавливаем. Надо сначала территорию расчистить. Это можно. А мусор? Вот я его и вывожу. И получается, если бы не моя старушка, тяжело ребяткам пришлось бы. Ох как тяжело! Куда б они мусор девали? Ну, скажи, куда?
– Но ведь там и другие машины есть…
– Конечно. Ты резонный парень. Есть и другие. Но в каждом деле нужен запевала. Бригадир я. Понятно?
– Понятно, – говорю.
Но мне все-таки непонятно.
Вечерами Николай Палыч приходил к нам. Он приносил сахарин, хлеб.
– Да что вы! – говорила бабка. – Ну, зачем вы расходуетесь?! Мы и так рады.
Но продукты принимала. И мы пили чай. Вернее, подслащенный кипяток.
Николай Палыч пил старательно. На лбу у него блестел пот. Он пил чай с таким усердием, словно ворочал тяжести.
Когда Николай Палыч что-нибудь говорил, то поглядывал на мать. Слушает или нет?
Мать смущалась. Говорила «да», «нет». Кивала. Улыбалась. Улыбалась слабо. Растерянно.
Николай Палыч рассказывал только о себе.
– Скромными бывают только подлецы, – изрек он.
И не был скромен.
Вот он говорит:
– Жизнь – это шашки. Доска в клеточку. А мы – фигуры. Пешечки. Но стремимся вылезти в дамки. Одни вылезают. Другие попадаются. И тогда – небо в клеточку. Но когда живешь честно, тебе это не угрожает. Я вот на фронте командующего всей нашей армией возил. Подвиги совершал. Он, командующий, значит, говорит мне: «Фирсов, хотишь, я тебя в подполковники за храбрость произведу?» – «Никак нет, говорю. Я говорю, сержант. И желаю, говорю, дойти до звания подполковника обычным путем». Глянул он на меня из-под своих орлиных бровей, руку пожал, прижал к своему боевому сердцу. «Честный ты очень, товарищ Фирсов, говорит, уж, больно ты честный. Ну, да ты не волнуйся, это я тебя проверял – клюнешь или как?» Такие вот делы. Да, если бы не контузия, я бы уже генералом армии был. Контузия помешала. Но все равно, несмотря на контузию, я командующего от верной гибели спас. Бомба рванула, газик мой – кувырк, и кверху лапками. Я поначалу сознательность потерял. А потом, придя в себя, вижу – лежит мой генерал. Помирает вроде. Я его на плечо и в санбат. Вовремя пришел. Еще бы пять минут, и помер бы… Да нет, не я помер бы, а он. Спасли ему жизнь наши врачи. А у меня – контузия сурьезная. Глазами вращать не могу, и все тут. Так и списали меня по чистой. Пенсию дают. А я завсегда могу самый геройский подвиг совершить.
– Ну, а сейчас как? – спросила бабка.
– Чего «как»?
– Да с глазами…
– Порядочек. Вращаются…
Николай Палыч может часами рассказывать о своих военных приключениях.
Фронт. Бомбежка. Мчится на своем верном «газике» Николай Палыч. Везет пакет командующему. Немцы швыряют бомбы прямо в Николай Палыча. Но все мимо.
И вдруг – прокол. А немцы-то рядом. И не дремлют. Вот они мчатся на мотоциклах. Погиб ты, Николай Палыч! Но Николай Палыч тоже в сукно одет! Паф! Паф! Ближайший немец рухнул с мотоцикла. Николай Палыч уверенно занимает его место и благополучно привозит пакет командующему.
– Вы не думайте, что я просто шофер, – прервал он свой рассказ. – Да, конечно, шофер. Но призвания у меня другие. Сейчас я разрабатываю теорию о продлении жизни человека на земле. И нашел, что для этого необходим йод. Угу, угу, самый обыкновенный йод. Одна капля продлевает жизнь человека на год. Я систематически ввожу йод в организм. Начал с одной капли, а сейчас дошел до пяти…
Он снова перескочил на события военных лет и стал рассказывать, как ему было поручено подслушать секретный разговор немецкого командования (он ведь прекрасно знает немецкий язык. «Хочешь, парень, тебя так немецкому обучу – своих не поймешь?»). Николай Палыч прокрался к блиндажу, где шло совещание, снял часового, узнал, что надо, и бросил в блиндаж связку гранат. Все легли!
Он сбегал в свою комнату и принес показать нам финку, которой он снял часового.
– Дарю, – сказал Николай Палыч, протягивая мне финку.
– Что вы, – испугалась мать. – Такие вещи не для детей…
– И то верно, – согласился Николай Палыч и взял финку назад.
Когда он ушел, бабка с восхищением сказала:
– Ох и брехун! Пустомеля, а вроде ничего мужик. И в тебя, Надь, метит.
Мать ничего не ответила. Вздохнула. Стала стелить постель.
А мне Николай Палыч понравился.
Ненависть пришла позже.
Коптилка
Наша старая коптилка совсем никуда не годится. Ну, совсем не годится. Не горит.
Бабка станет ее зажигать – она загорится и тухнет. Сразу тухнет. И чадит.
– Испортилась коптилка, – говорит бабка. – Новую надо…
Коптилка – это моя область. Моя специальность. Я умею делать коптилки. Патента на это изобретение у меня нет. Но могу раскрыть секрет производства.
Надо найти гильзу от снаряда. Средних размеров. Пробить в ней отверстие для керосина. Верхушку сплющить. Затем вставить фитиль из марли. И коптилка готова.
Бабка наливает керосин в новую коптилку. Бормочет:
– Сколько керосину берет, проклятая! У, ненасытная! Все ей мало…
Бабка говорит мне:
– Ты бы еще побольше гильзу взял. Где я керосина наберусь?!
Я молчу. Я ни гугу. У меня свои далеко идущие планы. Во – первых, чем больше коптилка, тем ярче она горит. А это очень здорово, когда в комнате светло. Во – вторых, я скажу мальчишкам, что у нас электричество. Не верите?! Идем, идем, посмотрим!
Наше окно плотно занавешено. Светомаскировка. Но свет от коптилки такой яркий, что кажется, действительно горит электрическая лампочка.
– Правда! – говорят мальчишки. – А откуда?
– Сам сделал!
– Вре – е-ешь, – тянут они.
– Вру?! А это что! Свет или не свет?! Горит или не горит?
– Горит, – уныло говорят мальчишки. – А у нас темно… У нас – коптилки… Эх, хорошо тебе! Свет! Как при мирной жизни.
Мне жаль их немного. Но все равно я страшно горжусь. И хожу, сдерживая улыбку.
Я стою под своим окном и вдруг сам начинаю верить. Верю, что у нас снова свет. Верю, что кончилась война. Верю, что когда я войду в комнату, то увижу отца.
– Пока! – кричу ребятам.
Бегу. Дергаю дверь. В глаза – свет. Неужели?! Правда?! Стою.
Коптилка. Стол. Сидит бабка. Читает.
– Ты чего? – спрашивает.
– Я?.. А мама не пришла?
– Нет еще… Иди домой. Хватит тебе по улице гонять. Поздно уже…
Я раздеваюсь. Сажусь к столу. Смотрю на бабку. Как она читает. Бабка шевелит губами, будто разжевывает каждое слово. Долго – долго жует. Потом мусолит палец. Переворачивает страницу.
Тихо у нас. Печка еще не погасла, не совсем простыла. Коптилка горит ярко – ярко. Ну, прямо как электролампочка.
Бабка читает. А я смотрю, как она читает, и думаю, как было бы здорово, если в нашей комнате зажечь одну… нет, десять… нет, сто лампочек. Как бы они горели! Было бы светлее, чем в самые солнечные дни. Ох, как было бы светло!
Приходит мать.
– А я думала – свет дали… А это коптилка…
А это – коптилка. Всего – навсего – коптилка. Из снарядной гильзы.
Зверь пострашнее тигра
У меня появилась забота. Среди старых книг и тетрадей я нашел букварь. Бабка показала, как пишутся буквы, и я целыми днями исписывал ими стены, забор, ворота, двери – вообще все, на чем можно было писать мелом.
Почему-то мне не давалась буква «я». Я писал ее и так, и этак, и все она была у меня похожа скорее на «R», чем на «я». Но я не унывал. И писал, и писал.
Бабка, видя мое усердие, дала мне тетрадь и карандаш. Я исписал ее огромными буквами. Каждая буква была в полстраницы.
Свою «работу» я показал третьекласснику Сеньке Барсикову.
Сенька был маленький, рыжий и важный. Он осмотрел тетрадь со всех сторон и хмыкнул:
– В школу захотел?
– Ага…
– Ну и дурак. Погоди: пойдешь в школу – наплачешься. Учиться – это тебе не тетради марать разными дурацкими буквами.
– А я все равно пойду…
– А тебя еще не примут… Ты переросток. Будь я на твоем месте, я бы из дома сбежал и на фронт подался…
– На фронт тебя не примут… Ты дурак. А там знаешь каким умным надо быть!
– Это кто дурак? Я, что ли?
– А что?
– А то, смотри, перепущу. На меня где сядешь, там и слезешь, – пообещал Сенька и величественно удалился.
Сенька был страшный задира и всех пугал своей воображаемой силой.
– А знаешь, что моя фамилия означает? – спрашивал он перед началом драки у противника.
– Не – е…
– Тигра видел?
– Не – е…
– Так вот, барс – это тигр. Только пострашнее. Недаром же я свою фамилию ношу!
А через минуту, зажав в кулаке разбитый нос и громко призывая маму на помощь, Сенька мчался с поля боя. На другой день Сенька объяснял:
– Видел, как я вчера Петьке наподдал? Он с испугу голову потерял и стал метаться в разные стороны. Тут меня домой позвали, а он как чумовой бежит за мной и бежит. Пришлось еще ему подвалить… Не веришь? Кто брехло?! Пойдем стукнемся.
Зато никто из мальчишек на улице не знал интересных историй больше, чем он, – о кладоискателях, пиратах и путешествиях. Вечерами мальчишки собирались в укромном уголке нашего двора, и Сенька рассказывал, как барон Мюнхаузен летал на луну.
– И что он там увидел? – нетерпеливо спрашивали мы.
– А ничего он не увидел, – говорил Сенька. – Там же никого нет. Моя бабка говорила…
И Сенька рассказывал, что ему говорила бабка.
– И среди бабок есть умнейшие старухи, – говорил Сенька. – Вот моя бабка рассказывала, как ее мать крепостной была. При царе цепи носила. А сбежать – никакой возможности. Побежишь, а они, проклятые, как забренчат, как забренчат…
Когда мать увидела мою «писанину», она поцеловала меня и на другой день принесла большую довоенную книжку с цветными картинками. Это были «Сказки» Андерсена.
По ним я учился читать.
Школа
Ого – го! Я иду в школу. Иду в школу. Иду в школу. Конец сентября. Солнце – вовсю! Я иду в школу. За спиной у меня болтается старая полевая сумка. В сумке – тетради и кусок хлеба. Как здорово, что я иду в школу! Вы даже не представляете, как я хочу учиться. Хочу в школу, где много мальчишек и девчонок. Где изучают буквы и цифры, где очень интересно…
И вот я иду в школу.
Иду – боюсь: а вдруг не примут?!
Иду – трушу, хотя знаю, что уж давно записан в первый класс. По нашей улице ходила женщина и переписывала всех детей школьного возраста. И меня записала.
А я все равно боюсь.
Ох как боюсь! А вдруг не примут? А вдруг прогонят? Скажут, почему ты не в белой рубашке? А у меня нет такой. А говорят – надо обязательно быть в белой рубашке и черных штанах. Потому что – открытие школы.
А на мне – зеленая рубашка. Из гимнастерки. И серые штаны, от убитого немца. И сапоги с галошами.
Иду – думаю: вот если бы рубашку мелом покрасить. Или белой краской. А штаны – черной. Или углем…
А еще я боюсь, скажут, почему не подстрижен? Бабка стала меня стричь. А ножницы – тупые. Она меня ощипала порогами, зигзагами. Не голова – бугор. Как будто овцу стригли.
А может, шапку не снимать?
Нельзя. Заругают.
А может, все-таки не снимать?
Вхожу. Коридор. Шум.
Бабка однажды мне говорила:
– Придешь в школу, а там шум стоит, как туман. Только в тумане ничего не видно, а здесь – не слышно. Станешь быстро закрывать и открывать ладонями уши – как собаки лают: гав, гав, гав.
Я тоже ухватился за уши. Открываю и закрываю. Закрываю и открываю. И по сторонам смотрю. Мальчишки и девчонки разбегаются по классам. А я не знаю, куда мне идти. Стою. Верчу головой. Не знаю, куда идти – и все. Хоть умри.
– Мальчик, у тебя уши болят? – спрашивает меня худенькая женщина.
– Нет…
– А что же ты не идешь в класс?
– Не знаю, куда идти, – говорю.
– Как не знаешь? Разве твоя мама не была на родительском собрании?
– Нет…
Краснею. Боюсь, ох сейчас прогонят.
– Очень плохо, – строго говорит женщина. – Как же нам теперь с тобою быть? Первых классов у нас – четыре…
– Не знаю…
Не могу удержать слезы.
– Ну – ну, – говорит женщина и улыбается. – Такой большой мальчик, а плачешь.
– Да – a, вам-то хорошо… А меня теперь в школу не примут.
– Ладно, ладно, – смеется женщина. – Не плачь. Эх ты, ревушка – коровушка. Никто тебя не прогонит. Ну, успокоился? Вот так. А теперь пойдем искать твой класс. И, кстати, сними шапку. Когда входишь в помещение, а особенно в школу, надо обязательно снимать головной убор.
– Я это знаю, – говорю. – Только понимаете… Мне без шапки никак нельзя… Вдруг меня продует?!
– Не бойся. В школе очень тепло и сквозняков нет…
– А можно не снимать?
– Какой ты упрямый! – сердится женщина. – К тому же, я вижу, ты совсем не слушаешься взрослых. А нам в школе такие не нужны. Если ты не снимешь шапку, можешь идти домой.
– Ой, сниму…
Снимаю. Женщина мельком смотрит на мою голову. Чувствую, что она еле – еле сдерживает смех.
– Кто тебя так остриг? – спрашивает.
– Бабушка. Только у нее – ножницы тупые. Вот и получилось так…
Я опять готов зареветь. Женщина смеется. Хохочет. Но совсем не обидно.
Я смотрю на нее сначала мрачно, потом, представив свою голову, остриженную под овцу, тоже смеюсь.
Ох и посмеялись мы! У меня даже живот заболел. Я сразу скислился.
– Ты чего? – спрашивает. – Неужели обиделся?
– Да что вы, – говорю. – Только я подумал, что меня мальчишки задирать будут. Да еще овцой прозовут. А кому такое понравится?
– Верно, – говорит, – никому не понравится. Поэтому пойдем ко мне в кабинет, подумаем, что можно сделать с твоей прической.
Тут я сразу догадался, что она директор. Меня даже дрожь прошибла.
– Ты вроде испугался? – спрашивает.
– Нет, – говорю.
А сам зубами стучу. Стучу как заводной. Никак не могу остановиться. Так испугался.
– А вы меня… из школы…
– Не бойся. Из школы тебя никто не выгонит. Разве ты виноват, что у вас ножницы тупые?
И правда, разве я виноват?! Улыбаюсь. Иду за ней.
Большая комната. Письменный стол. На стене чей-то портрет.
Женщина достает из стола ножницы. Смеется:
– Как тебя зовут? А то и не знаю, кого стричь буду.
– Сережа, – говорю. – Сережа Васильев…
– А меня зовут Ирина Викторовна. Вот мы и познакомились… А теперь подставляй голову.
Сажусь. Она начинает щелкать ножницами, как заправский парикмахер. Руки у нее – ласковые, нежные, быстрые. Веселые руки. Мне хочется прижаться к ним лицом и сидеть долго – долго, не шевелясь, – такие они добрые.
Доброта… Не понимаю, почему люди прячут тебя друг от друга?
А может быть, так надо? Так и должно быть? Надо прятать тебя, чтобы в нужные, именно в нужные минуты ты океаном врывалась в человеческое сердце? Топила его в своих волнах?
Нет, тебя нельзя прятать, доброта! Тебя надо беречь. Охранять. И дарить тем, кто тебя заслуживает. Иначе ты перерастешь в злобу.
Надо быть добрым. Терпимым к людям. К людям, которые порой кажутся ненужными, смешными или злыми. К людям, с которыми мы каждый день встречаемся и о которых почти ничего не знаем. Или не хотим знать.
А что, если им нужна наша доброта? Так нужна, что они погибнут без нее. А мы не думаем об этом. А сами они об этом не скажут.
Не прячьте доброту. Ведь она, как и все другое, умирает…
– Готово, – говорит Ирина Викторовна. – Теперь вполне прилично.
Я ищу глазами зеркало.
– Какой требовательный молодой человек, – смеется она. – Ему и зеркало подавай…
Дает мне круглое карманное зеркальце. Смотрю на себя – ничего. Дразнить не будут.
– Спасибо, – говорю. – Большое спасибо.
– Пожалуйста. Только в следующий раз ты уж не стригись так. Ладно?
– Ладно, – говорю.
Зазвенел звонок. Мы пошли искать мой класс.
В первом «А» учительница сказала, что я – не ее.
В первом «Б» – то же самое.
В первом «В» – наконец-то! – я оказался в списке.
– Иди учись, – сказала Ирина Викторовна. – Смотри, чтобы мне на тебя не жаловались.
– Не будут, – заверил я и уселся за первую парту.
– Это место уже занято, – сказала учительница. Глаза ее зло смотрели сквозь очки. Она была похожа на сову. – Вообще, я не знаю куда тебя посадить… Класс переполнен.
– Да поместимся, – заулыбался я.
– Чего это ты такой веселый? Не на утренник пришел, а в школу. Если б не Ирина Викторовна, я бы тебя за родителями послала. Почему опаздываешь? Да еще в самый первый день занятий…
– Я больше не буду…
– «Не буду, не буду»! Все вы так говорите. А сами не даете работать. И как только не стыдно!
«И чего это она? – думал я. – И за что это она меня ругает?»
Когда она наконец выдохлась, я спросил:
– А можно, я с кем-нибудь втроем сяду?
– Садись, – буркнула она.
Я сел рядом с двумя мальчишками и целый час просидел глядя в одну точку. Даже не шевелился.