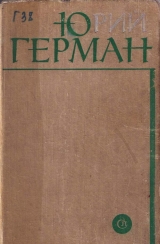
Текст книги "Лапшин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
9
Разработка дела Мамалыги и его группы шла удачно, и накануне намеченной операции, утром, Лапшин созвал у себя в кабинете оперативное совещание.
Поглаживая макушку и глядя в блокнот, он сказал, что несомненно и трикотаж, и кожевенное сырье, и налет с убийством, и вооруженное разбойное нападение, и ранение кассира – все это работа банды Мамалыги.
– Таким образом, – говорил он, строго оглядывая присутствующих, – тут орудовал не один человек, а группа, возглавляемая Иофаном Мамалыгой, или Георгием Андреевичем Зубцовым. Мы с вами знаем бежавшего из заключения Иофана Мамалыгу, сына расстрелянного белыми паропроводчика. Но тот Иофан – не Зубцов, а этот – Зубцов, и Зубцов – не сын паропроводчика и из беспризорных, а сын известного белого генерала Зубцова, кадет, юнкер, колчаковец и каратель. Таким путем ми имеем…
Скрипнула дверь, и вошел запоздавший Васька Окошкин:
– Вы ко мне? – спросил Лапшин.
– Позволите доложить? – спросил Васька.
– Докладывайте!
Васька подошел к столу, встал «смирно» и, торжествующе улыбаясь глазами, негромко рассказал, что им в автомате у Гостиного двора только что задержан Воробейчик с подложными документами, а главное – с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви.
– Куда адресованы грузы?
– В Малоярославец и в Вологду, – сказал Васька, – в Зеленый Бор и в Некурихино.
– Ничего себе! – сказал Лапшин. – Ну ладно, садись, мы тут совещаемся.
Окошкин сел и жадно затянулся папиросой, а Лапшин начал развивать свой план операции.
– Товары сосредоточены главным образом в доме девять, – говорил он, – у Кукленкова, и затем в кочегарке по Лесному. У Кукленкова придется ломать полы, там сосредоточена замша и фетровые заготовки для бурок… Сопротивление здесь оказано не будет. В кочегарке тоже не будет. Таким путем остается малина Мамалыги…
Совещание кончилось через сорок минут, а через час Лапшин обошел всю бригаду и приказал расходиться по домам.
– Нечего! – говорил он. – Спать пора!
Как всегда в дни окончания подготовки крупного дела, бригаду лихорадило, и только один Лапшин сохранял спокойствие и подшучивал даже больше, чем обычно. Это было в его характере. Чем яснее он понимал, что Мамалыга даром не сдастся, тем благодушнее и покойнее он выглядел и тем меньше говорил о предстоящем деле.
В самый день операции, когда ему докладывали о ходе подготовки, он рассеянно морщился и говорил:
– Да? Ну что ж, ладно!
Ранним вечером у него в кабинете зазвонил телефон, и он услышал голос Адашовой.
– Иван Михайлович?
– Точно, – сказал Лапшин.
– Можно к вам приехать? – спросила Адашова. – У меня вечер свободный.
– Да сейчас я занят, – сказал он, – тут у меня всякие делишки.
Она помолчала.
– Как вы живете? – спросил Лапшин.
От звука ее голоса у него билось сердце, он не знал, что сказать, и во второй раз спросил:
– Как же вы живете?
– Да никак, – вяло сказала она, – работаю, репетирую.
Ему хотелось сказать ей, что он, вероятно, любит ее, что он думает о ней все время и что он понимает, насколько все это глупо. Но он спросил, как Захаров и переделали ли уже пьесу или еще нет.
– Переделали, – грустно сказала она. – До свидания, Иван Михайлович!
Лапшин помолчал, ожидая чего-то, и услышал, как Адашова повесила трубку. «В девчонку, – думал он, шагая по кабинету, – ну ей двадцать семь – двадцать восемь, и что нам с ней делать? Про жуликов говорить?» Он постучал себя по лбу и постоял у окна, глядя на площадь Урицкого.
В восьмом часу вечера Окошкин на оперативной машине привез из кафе «Европа» двух участников группы Мамалыги. У одного из них был наган, у другого – пистолет Борхарда, правда без патронов. Первый назвался Петром Седых, второй показал паспорт иностранного подданного.
– Ах, вот как, – сказал Лапшин тонким голосом, – целый цирк!
Он позвонил, чтобы иностранного подданного увели, и стал допрашивать Седых. Он уже ни о чем не думал, ее предстоящего ныне дела, ни о чем не помнил, ничего не понимал. И выражение глаз у него сделалось неприятное, спрятанное, и только голос был как обычно – покойный, иногда с растяжечкой. Седых ничего нового ему не сказал, а только подтвердил то, что было известно еще вчера: у Мамалыги вечером большое гуляние. Седых увели, Лапшин залпом выпил стакан остывшего чаю с лимоном и, скрипя сапогами, пошел по комнатам бригады.
Везде было тихо и пусто, и только в той комнате, где сидел Васька Окошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными легкими голосами, которые известны военным и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Васьки Окошкипа и вот товарищи обсуждают, что именно могло заесть.
– Ну как? – спросил Лапшин.
– Да все в порядке, товарищ начальник! – весело и ловко сказал Побужинский. – Вот болтаем.
Лапшин сел на край стола и закурил папиросу.
– Побриться бы надо, Побужинский! – сказал он. – Некрасиво, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся!
– Слушаюсь! – сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки.
Окошкин и Бычков оба машинально попробовали, как у них с бородами, очень ли заросли.
– Ну как, товарищ Окошкин, Тамаркина дело? – спросил Лапшин: – Много там жуликов у них в артели?
– Хватает, товарищ начальник, – скромно сказал Васька.
– Сознаются?
– Очень сознаются, товарищ начальник, – сказал Васька.
– А почему у тебя на губе чернила?
– Такое вечное перо попалось, – сказал Васька, трогая губу, – выстреливает, собака, Как начнешь писать, – оно чирк! – и в рожу.
– Вот напасть, – сказал Лапшин.
Пришло еще несколько человек – вспомогательная группа. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса враз сказали:
– Здравствуйте, товарищ начальник!
Лапшин поглядел на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом.
– Не можешь? – сказал Лапшин. – Стыд какой! Давай сюда помазок!
Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты.
Ему вдруг захотелось позвонить Адашовой, но он не знал ее телефона, а спрашивать у Ханина было неловко. Вынув из стола кольт – оружие, с которым не расставался больше десяти лет, – Лапшин проверил его, надел шапку-ушанку, фетровые бурки и позвонил вниз в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре.
– Давайте! – сказал Лапшин. – Можно ехать.
Рядом с ним по старшинству сел Бычков, сзади – Побужинский, Окошкин и шофер.
– Тормоза немножко слабоваты, – сказал шофер, – так что вы не надейтесь, товарищ начальник!
Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Васька сзади завел длинный анекдот про попа, попадью и работника.
– Во зверь! – поощрительно сказал Побужинский и засмеялся.
Машина обогнула площадь Урицкого. Лапшин рванул сирену, и регулировщик дал зеленый свет.
Был подвыходной. Проспект 25 Октября, несмотря на мороз, кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломами сбивали с торцов ледяную корку. Ревело радио, и даже в машине были слышны шарканье ног гуляющих, смех и отдельные слова. Замерзшие витрины магазинов сверкали, как глыбы цельного льда, над подъездами кинематографов вилась и блистала огненная реклама картин, регулировщик на углу внезапно дал красный свет.
С проспекта Нахимсона, под грохот дюжины барабанов, шли пионеры. Их было много, отряд шел за отрядом, барабаны мерно и возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение мирного, покойного, праздничного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, что через полчаса или через час может произойти в этом же самом городе, и, представив, озлобился. Все было просто и ясно – под грохот барабанов шли дети с какого-то своего праздника, огромный город готовился ко дню отдыха, магазины были полны народу, играла музыка…
– Эх! – огорченно сказал Бычков и плевком потушил окурок. Он, вероятно, чувствовал то же, что и Лапшин.
– Чего, Бычков? – спросил Лапшин.
– Да так, товарищ начальник, – с сердцем сказал Бычков, – надоели мне жулики!
Васька сзади все рассказывал про попадью и работника, и Побужинский восхищенно спросил:
– Так и решили?
– Так и решили, – сказал Васька.
– А поп?
– Чего поп?
– Будет вам! – строго сказал Лапшин. – Нашли смехоту!
Васька замолчал, потом опять зашептал, и Побужинский веселым шепотом порой спрашивал:
– Что, что?
Проехали завод Ленина, Фарфоровый завод, Щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал морозный ветер.
– А наши едут? – спросил Лапшин.
– Едут, – сказал Васька и опять зашептал Побужинскому: – Тогда работник этот самый берет колун, щуку и – ходу в овин. А уж в овине они оба два…
Лапшин остановил машину возле каменного дома, вылез и пошел вперед. Бычков перешел на другую сторону переулка, а Васька и Побужинский пошли сзади. Оглянувшись, Лапшин увидел, что вторая машина уже чернеет рядом с первой.
Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармони и топот пляшущих.
– Обязательно шухер поднимут, – сказал Лапшин, дождавшись Бычкова. – Ты со мной не ходи, я сам пойду!
Бычков молчал. По негласной традиции работников розыска, на самое опасное дело первым шел старший по чипу и, следовательно, самый опытный.
– Обкладывай ребятами всю хазу! – сказал Лапшин – Коли из окон полезут – ты тово! Понял?
Из-за угла вышли Окошкин, Побужинский и еще пятеро оперуполномоченных.
– Ну ладно! – сказал Лапшин, посасывая конфетку. – Пойдем, Окошкин, со мною. Принимай крещение!
Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звуки гармони и топот ног стали тут особенно слышны.
– За пистолет раньше времени не хватайся, – сказал Лапшин. – И вообще вперед черта не лезь.
– А что это вы сосете? – спросил Васька.
– Мое дело, – сказал Лапшин.
Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман.
Васька отвернулся к стене и, расстегивая шубу, озабоченно спросил:
– Отчего это мне в самый последний момент всегда занадобится? А, Иван Михайлович? Нервы, что ли?
Подошли два уполномоченных, назначение которых было – стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, и она ему говорила:
– Не психуйте, Толя! Держите себя в руках! Зараза какая!
Они прошли незамеченными, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сенцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил и ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились возле порога, и Лапшин сразу же узнал Мамалыгу – его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но Мамалыга стоял боком и не видел Лапшина – любезно улыбаясь, разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Васька сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его.
Гармонь смолкла, и в наступившей тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричат команду «По коням!»:
– Сидеть смирно!
Из его рта выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду Мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку.
– Ложись! – покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин. – Не двигайся!
Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. Женщина в красном платье вырвалась от него и покатилась по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо, и стрелял вверх.
– А, свинья! – сказал Лапшин и, не целясь, выстрелил в Мамалыгу. Васька в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреневом костюме, покатился с ним по полу.
– Сдаюсь! – сказал Мамалыга и поднял обе руки; из одной текла кровь.
Шагая через лежащих, он подошел к Лапшину и дал себя обыскать. Пока Васька его обыскивал, Лапшин отворил заклеенное окно и негромко сказал:
– Давайте сюда! Можно брать!
Когда Мамалыгу выводили вниз, он вдруг укусил себя за здоровую руку и сказал воющим голосом:
– Пропал! Закопали!
– Давай, давай! – сказал ему Васька. – Гроза морей чертов!
В драке Окошкину разорвали губу, и он сплевывал кровь и злился.
– Попало? – спросил у него Побужинский. – А?
– Поди к черту! – угрюмо сказал Васька.
Все вышло иначе, чем он думал: стрелять ему не пришлось, бомб никто не бросал, и рана оказалась какой-то стыдной – жулик в сиреневом костюме разорвал ему рот.
10
А дело Тамаркина все тянулось, и украденный мотор уже перестал существовать в деле серьезным обвинением. Моторов оказалось много, и Тамаркин не был один, а те, которых выдавал он, выдавали других, и каждый говорил, что он не виноват, а вот такой-то действительно виноват, и Васька Окошкин только крутил головой и вздыхал. Внезапно вынырнули какие-то четыре тонны коленкора, затем Тамаркин сознался, что украл семнадцать ящиков экспортных куриных яиц.
– Ну? – удивился Васька.
– Позвольте папиросочку! – попросил Тамаркин.
Он уже совсем освоился в тюрьме, был старшиной в камере и даже написал Лапшину жалобу на своего соседа по камере, причем жалоба была написана таким языком, что Лапшин, читая ее, сделал губами, будто дул, и сказал:
– От чешет!
– Куда же вы яйца распределили? – спросил Васька, стараясь отточить карандаш новой машинкой. – А, Тамаркин?
– Куда? Мама продавала, – сказал Тамаркин.
– Знакомым?
– Какая разница? – сказал Тамаркин. – Ну, знакомым!
Васька предостерегающе взглянул на Тамаркина, и Тамаркин понял этот взгляд, так как добавил:
– Можно написать, что именно знакомым, и можно написать фамилии и адреса, и можно написать адрес одной дамы – некто мадам Хавина Инна Олеговна. Через нее прошло четырнадцать ящиков – и после она себе сделала норковую шубку.
Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали и будто он ребенок. На допросе он часто говорил про себя:
– Ах, гражданин начальник, все мы – Тамаркины – слабовольные люди!
А на очной ставке с главой всего предприятия Тамаркин говорил:
– Это мучительно! Это мучительно! Поймите, Ихельсон, что я еще ребенок, а вы старый зверь.
Ихельсон помолчал, потом ответил:
– Если кто получит стенку, так это вы, ребенок!
Поговорив про семнадцать ящиков яиц, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным.
– Это вас не касается, – сказал Васька.
– Во всяком случае, – сказал Тамаркин, я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами не было.
И он сделал такую поганую морду, что Васька швырнул об стол карандаш и крикнул:
– Вас не просят! И с вами тут не шутки шутят! Отвечайте по существу!
Оттого что он крикнул, у него из разорванного рта пошла кровь. Он зажал рот платком и стал писать протокол допроса. – Дальше, – иногда говорил он или опрашивал: – Вы хотите разговаривать или хотите обратно в камеру? – и при этом косился на Тамаркина.
В двенадцатом часу ночи вошел Лапшин и сел рядом е Васькой.
– Это и есть Тамаркин? – спросил он.
– Совершенно верно, – сказал Тамаркин, – но вернее – это все, что осталось от Тамаркина.
Лапшин почитал дело и покачал головой.
– Жуки! – сказал он. – Что только делают!
И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений.
– На пять лет потянет? – развязно спросил Тамаркин.
– Там увидим, – сказал Лапшин. – Суд знает, кому что требуется.
Попыхивая папиросой, он вышел на цыпочках и спустился вниз к начальству с докладом за день. У начальника в кабинете горела уютная зеленая лампа и топился камин. Когда Лапшин вошел, начальник приложил палец к губам и потом погрозил Лапшину кулаком. Лапшин сел в кресло и, сделав осторожное лицо, стал слушать радио. «Михайлов Иван Алексеевич, – говорил диктор, – Диц Герберт Адольфович, Смирнов…» Лапшин позевал, стянул со стола у начальника вечернюю газету и, чтобы не шуршать бумагой, прочитал какую-то статейку только с левой стороны, то есть одну половину столбца. Наконец диктор кончил.
– Да-а, – сказал начальник, – слышал, Иван Михайлович?
Лапшин положил газету на стол.
– Не слыхал? – спросил начальник.
– Нет, – сказал Лапшин.
– Ну, тогда поздравляю! – сказал начальник и снял пенсне. – Слышишь, поздравляю, Иван Михайлович! Тебя наградили орденом Красной Звезды.
Он обошел стол кругом, споткнулся об угол ковра и подошел к Лапшину вплотную. Оба они не знали, что теперь делать. У Лапшина было по-прежнему осторожное лицо, он только очень побледнел и опять взял со стола газету.
– Да нет, – сказал начальник, – тут нету, в газетах еще нету, – сейчас по радио передали…
Он взял из рук Лапшина газету и бросил ее на стол.
– И меня, брат, наградили, и Бычкова.
– Троих? – спросил Лапшин. – А как сформулировано?
– Не знаю, – сказал начальник, – забыл.
Помолчав, он спросил:
– Что ж теперь будем делать? Или, вернее, что надо делать? А?
– Да что, – сказал Лапшин, – ничего.
Он сел в кресло и почувствовал, что весь вспотел, до того, что даже ногам сыро.
– Ах, Бычкова нет! – сказал он. – Ну подите, как нарочно услали парня за тридевять земель. Ах, жалость…
Начальник привязал пенсне за цепочку к пальцу и ходил по кабинету, близоруко щурясь.
– Ну ладно, докладывай, Иван Михайлович! – сказал он. – Как там дела?
И Лапшин, чувствуя почему-то облегчение, начал докладывать, и начальник слушал его и говорил по своей манере:
– Чудненько! Чудненько!
11
Когда он вернулся к себе в бригаду, то никого уже не было, один только дежурный, упершись локтями в стол, читал «Курс физики». Лицо у него было напряженное, непонимающее.
– Учитесь, товарищ Панченко? – спросил Лапшин.
– Да, надо немножко, – сказал Панченко, – подразобраться хочу в явлениях природы.
– Разбираешься?
– Да не очень, товарищ начальник.
Лапшин заглянул в книгу, – она была раскрыта на «теплоте», на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Панченко тоже читает.
– Ты листочек бумаги возьми, – сказал Лапшин, – точные науки всегда советую тебе с бумагой, графически выражать. И карандашик возьми. Это не роман, не стихи, наука.
Он сел на стул Панченки и велел Панченке тоже сесть.
– Гляди сюда! – сказал он. – Вот я изображаю ее через эту латинскую литеру. Тебе известен латинский алфавит? Я тебе его сейчас запишу, а ты как что – заглядывай…
– Слушаюсь!.. – сказал Панченко.
– И слушайся! – басом сказал Лапшин. – Слушайся. Я тебя плохому не научу…
И он, заглядывая в книгу, стал объяснять Панченке «теплоту», которую, как и всю физику, как и химию и биологию, в свое время, в девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом годах, читал во время ночных дежурств при свете коптилки или электрической лампочки, горевшей в четверть накала.
Позанимавшись, он велел Панченке найти домашний телефон Бычковой и позвонил. Сказали, что Бычкова спит.
– Разбудите! – приказал он.
Она подошла не скоро.
– Разоспалась, матушка! – сказал Лапшин. – Какой сон видела?
– А это хто? – спросила она. – Это Бычков?
– Это я, – сказал Лапшин, – я, Лапшин.
– А-а, – разочарованно сказала она. – Ну чего?
– Твоего Бычкова наградили орденом Знак Почета, – сказал Лапшин. – Слышишь?
Она молчала.
– Слышишь пли нет? – спросил Лапшин.
– Слышу, – тихо сказала она и покашляла.
Домой он шел пешком, курил и думал и очень обрадовался, что Ханин, Окошкин и Ашкенази ничего не знали. Ханин сидел верхом на стуле и читал вслух листы, напечатанные на машинке.
– Это что? – спросил Лапшин, наливая себе чай.
– Не мешайте! – сказал Ханин. – Вас не перебивали.
Это был дневник летчика, и Лапшин понял, что дневник не выдуманный, а настоящий.
– Нравится? – спросил Ханин, кончив чтение.
– Красиво, – сказала Патрикеевна из ниши. – Не дай бог за такого замуж выйти!
Все переглянулись, и Васька сказал:
– О смерти думай, а не о муже! Саван шей, вредная женщина!
Было слышно, как Патрикеевна плюнула. Лапшин снял сапоги, Ашкенази ушел, а Васька заснул, как только коснулся подушки. Лапшин тоже делал вид, что спит. И только Ханин трещал на пишущей машинке и пил холодный чай. Под утро, стуча деревяшкой, из ниши вышла Патрикеевна, согрела Ханину чаю и достала из буфета ветчину, которую ни Лапшин, ни Васька не получили.
– Возьми, покушай! – сказала она. – Ты деньги платишь, не как Васька-приживал. Покушай ветчинки, бессонница!
– Бог подаст, бог подаст, – сказал Ханин, треща на машинке, – бог подаст!
– А Васька подлец – ну ни копья не платит! – быстрым шепотом сказала старуха. – Сел хозяину на шею и едет… Глядеть страшно!
– Ну и не гляди! – сказал Ханин. – И не мешай мне.
Но потом он съел всю ветчину и, заметив, что Лапшин не спит, спросил:
– Доволен, что орден получил?
– Доволен, – сказал Лапшин. – А ты откуда знаешь?
– Я все знаю, – сказал Ханин. – Я даже знаю, о чем ты думаешь и почему не спишь.
– Ну, почему? – спросил Лапшин испуганным голосом.
Ханин молчал.
– Ладно уж, – сказал он, – не буду. Тут Адашова звонила.
– Ну?
– Завтра пойду к ней в гости, – сказал Ханин, – пирог буду есть с визигой.
Днем к нему в управление пришел артист с большой челюстью, Захаров, и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь – ему казалось, что сейчас войдет Адашова, но ее не было.
– Я, батюшка, один, – поняв его взгляд, сказал Захаров, – фертов своих к вам не повел. Не умеют себя сети, пусть и сидят дома. – И он начал длинно говорить про каких-то братьев Гонкур, которые, описывая смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.
– Так уж я вам надоедать не буду, – сказал Захаров, – пойду попасусь среди ваших работников, если позволите.
Лапшин проводил артиста к Побужинскому, оделся и пошел вниз, чтобы ехать в суд. Вахтер, смущенно улыбаясь, остановил его в вестибюле и сказал, что какие-то двое парней просили передать товарищу Лапшину корзину цветов и записку. Лапшин надорвал бумагу. В записке было всего несколько слов:
«Вы нас не помните, а мы вас помним. Мы, бывшие жулики, поздравляем товарища Лапшина с наградой правительства».
Дальше шли четыре подписи.
Лапшин спрятал записку в бумажник, отправил цветы к себе в кабинет и, с удовольствием набирая воздух и легкие, сел за руль автомобиля. День был мягкий, с серебристыми облаками на голубом небе, с капелью, с влажным, уже весенним ветром, и настроение у Лапшина было праздничное, необыкновенное. Несмотря на то что оба они, и Лапшин и начальник, из скромности делали такой вид, будто решительно ничего не произошло, для обоих, как, впрочем, и для всего учреждения, в котором они работали, был праздник, особенный, отличный от других день, и все – от начальника и Лапшина до вахтера – были в немного приподнятом, торжественном настроении.
Все утро Лапшина поздравляли – и по телефону и заходили в кабинет начальники бригад, приносили телеграммы от старых друзей, работающих не в Ленинграде, позвонили вдруг с завода, которому Лапшин вернул несколько лет назад украденную машину, позвонили из пригорода, в котором он в годы гражданской войны бился с бандой, и старческий голос сказал:
– Не помните? Густав Густавович Леман, конфетчик. Не помните?
– Не помню, – сказал Лапшин.
– В девятнадцатом году вы в моей хижине отлеживались, – сказал Леман, – вас тогда ранили в голень. Не помните?
– А, помню! – радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного немца, возившегося с канарейками, и вкусный кофе, и булочки из картофельной кожуры…
– Мы с женой вас поздравляем, – сказал старческий голос, – и желаем вам долгой жизни.
Лапшин молчал, вспоминая молодость.
– Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством, – сказал Леман, – а вы храбрый и доблестный человек. До свидания, я звоню с почты, и мои три минуты кончились.
Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое – перестрелку на Севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестянкой вроде кокарды. Девушка была толстая, и Лапшин никак не мог вспомнить, где и когда он ее видел. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт остался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть. Подумав, он разрезал его и каждому, кто приходил с докладом или по делу, клал кусок на бумагу, говоря:
– На-ка, покушай!
И только Адашова ему не позвонила, «Обиделась, наверно, – думал он, – ну что ж я могу поделать!»
Пришла Галя Бычкова, съела два больших куска торта и сказала:
– А вы якись тихий, Иван Михайлович! Да?
– Почему тихий? – удивился Лапшин.
В суде он пробыл до вечера, слушая дело растратчиков, и остался недоволен приговором. А возвращаясь в управление, думал о том, что, наверно, пока его не было, звонила Адашова и что теперь уже поздно и она не позвонит больше.
Как только он сел в кресло, пришел Васька Окошкин сказал дрогнувшим голосом:
– Поздравляю, товарищ начальник, с высокой наградой!
– Спасибо, Вася! – сказал Лапшин и дал Окошкину торта на листке календаря.
Окошкин слизал крем, потом спросил:
– Почем дали растратчикам?
– Мало дали, – сказал Лапшин, – безобразное получилось положение…
И он стал рассказывать о процессе.
– Я еще скушаю, – сказал Васька, – крем здорово хороший!
– Ну кушай, – сказал Лапшин, – кушай и слушай!
Поговорив о процессе, Васька ушел к себе, а Лапшин вызвал Мамалыгу и стал его допрашивать тем холодным и гладким тоном, каким всегда допрашивал таких людей, как Мамалыга.
Мамалыга отводил глаза, а Лапшин в упор глядел на него своими яркими глазами и спрашивал, пока еще только изучая Мамалыгу, нащупывая слабые и сильные стороны его характера и в то же время давая Мамалыге понять, что тут уже все известно, что не следует терять время на пустые разговоры.
Мамалыга решительно сопротивлялся, но ушел от Лапшина подавленным и разбитым.
«Ничего, заговоришь, – думал Лапшин, провожая его глазами, – очень мило будем беседовать».
Зазвонил городской телефон, и Лапшин узнал голос Адашовой.
– Иван Михайлович, миленький, – быстро говорила она. – Я только что узнала о вашем событии. У меня Ханин, и он мне сказал…
– Да, – сказал Лапшин, – так точно.
– Приходите ко мне, – сказала она, – если можете. У меня никого нет, только Ханин. Приходите, пожалуйста! Я пирог испекла.
– Так точно, – сказал он, – приду.
Повесил трубку, сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как бывало только в детстве, поехал и Адашовой. Комнатка у нее была маленькая, и стояли в ней только рояль, диван и круглый стол, накрытый к ужину. Было очень светло, и Ханин без пиджака топил печку.
– Ну, здравствуй! – сказал Ханин. – Сейчас Наташа придет, она в кухне. Или ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной?
– Оставь пожалуйста! – сказал Лапшин.
На маленькой этажерке стояли книги, и Лапшин взял одну из них. Это были стихи, но у него так билось сердце, что он долго читал одну и ту же строчку и не понимал ничего. Вошла Адашова в сером платье с белым воротничком и поздравила его. От нее пахло кухней; она наклонила голову и спросила:
– Видите, как волосы сожгла? Сейчас будем ужинать.
Он сел на диван, а она ходила мимо него, и он чувствовал, что счастлив, и стыдился на нее смотреть – видел только ее ноги в черных чулках и дешевых туфлях.
За ужином он смотрел в тарелку и изредка говорил:
– Так точно.
Или:
– Совершенно верно.
Или:
– Нет, очень вкусно.
Угощая, Адашова часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на обшлаг его гимнастерки. И он ждал и пугался прикосновений и мучился, чувствуя себя связанным, неестественным, жалким.
На обратном пути Ханин спросил у него:
– Ты меня прости, Иван Михайлович, но у тебя романы в жизни были?
– Нет, – помолчав, сказал Лапшин, – не было у меня никаких романов. Не занимался.
И, поскользнувшись, добавил:
– Вот у Васьки романы, это да!
Приняв перед сном ванну и растирая свое сильное тело полотенцем, Лапшин понял, что и сегодня ему не спать, но, как давеча, лег в постель и притворился, что спит. Ханин опять трещал на машинке, а Лапшин думал, что любит Адашову и что если бы она к нему тоже хорошо отнеслась (он не решался думать о том, что и его могут полюбить), то он бы женился, и тогда, как многие его товарищи по работе, звонил бы домой и говорил с домашними, и все бы понимали, что у него тоже есть своя семья, и свой дом, и в комнате перестало бы пахнуть сапогами, табаком и парикмахерской, и он тоже устроил бы у себя ремонт, и в кабинете начальника после ночного доклада они говорили бы о семьях, о квартирах, о детях.
– Чего не спишь? – спросил Ханин. – Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?
– Вот именно, – сказал Лапшин, – пирога.
– Ну соды! – посоветовал Ханин.
– А ты пишешь, писатель? – спросил Лапшин.
– Писатели-читатели, – сказал Ханин, – давай чай пить.
Они пили чай, курили и молчали, и обоим было грустно.








