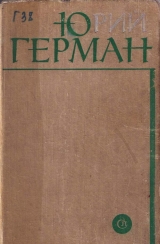
Текст книги "Лапшин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
5
Васька от безделья и скуки обзвонил всех своих знакомых и сообщил, что болен, поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон беспрерывно трещал, и Васька живым голосом поминутно с кем-то объяснялся. Пока обедали, Лапшин терпел, потом сказал:
– Довольно! Надоело! Сними трубку!
Он разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос передавал «Крестьянскую газету», потом кто-то сказал:
– Вогульские народные песни, собраны исполнительницей…
– Черта собраны! – сказал Лапшин, но все-таки послушал. При этом у него было плачущее лицо.
Бросите, Иван Михайлович! – крикнул с постели Васька. – Пусть лучше лекцию читают.
Наконец Лапшин услышал, что сейчас будет сыграно действие из какой-то пьесы. Мужской голос с железными перекатами говорил, кто кого будет играть.
– Это про посевы, – сказал Васька, – я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой – за подсолнух, третий – за сельдерей…
– Помолчи! – сказал Лапшин..
Тут давеча без вас картошка пела, – не унимался Васька, – так жалобно, печально: «Меня надо окучивать-окучивать…» Не слыхали?
– Нет, – сказал Лапшин и лег в постель.
Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцепы, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти мысли обнаружить, даже если их и вовсе не было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило бы хотя на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И как многие скромные люди, он почти никогда не позволял себе вслух судить об искусстве и если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:
– Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу…
Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он забывал о мыслях, сам не думал и только напряженно и счастливо улыбался, гляди на сцену, или на экран, или читая книгу, – независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в управлении:
– Сходил я вчера в театр. Видел пьеску одну. Да-а!
И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотал своей круглой упряги головой и опять говорил через месяц или через полгода:
– Представлен там был один старичок. Егор Булычев некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких встречал, но не догадывался. Это старичок!
И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.
– Интересно? – спрашивал собеседник.
– Да пожалуй, что интересно, – неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.
По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которая ему чем-то была неприятна. На эту пьесу устраивали культпоход, и товарищи Лапшина очень ее хвалили, и когда хвалили, Лапшин почему-то не верил и улыбался. В культпоходах он никогда не принимал участия – любил бывать в театре один. Ему не нравилось в антрактах обмениваться впечатлениями и вместе пить лимонад. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно, и слишком много говорили.
В этой пьесе речь шла о каком-то, вероятно уже пожилом, человеке, который предполагал, что умирает из-за неизлечимой болезни, и который на этом основании держался особенно жизнерадостно, бодро и притом с ненавистной Лапшину многозначительной простотой, Каждая фраза этого человека раздражала Лапшина. Ему было обидно и грустно еще и потому, что артист, игравший умирающего, с превосходной внешней точностью и правдивостью изображал голосом человека, Лапшину как бы известного, как бы близко знакомого, несомненно существующего и если бы даже и заболевшего смертельной болезнью, то ни в коем случае так бы не державшегося.
Лежа, по своей привычке, лицом к стене и слушая, как обреченный к смерти человек правдивым голосом поучал других восторженных и глупых людей разводить кроликов, Лапшин хотел было уже выключить радио, как вдруг его внимание привлек знакомый голос актрисы, которая давеча похвалила его фотографии. Он сразу узнал ее голос и вспомнил ее лицо – некрасивое, молодое, с круглыми глазами и большим ртом, розовым и ненакрашеным, как у других актрис. Оттого что он узнал ее голос по радио, Лапшину стало приятно. Он повернулся на спину и крикнул Патрикеевне, чтобы она не бормотала и не мешала. В голосе актрисы ему послышалась интонация, обрадовавшая его, – правдивая и, как показалось ему, уловленная не внешне, а изнутри.
Актриса играла комсомолку, молоденькую и разбитную девушку, искреннюю, неглупую, по не постигшую еще всей сложности жизни и потому наивную. И несмотря на то что Лапшину противен был тот длинно и демонстративно просто умирающий человек, он почти с умилением слушал трогательные по прямоте, восторженности и наивности фразы девушки. То, что написал драматург, было пошло, кокетливо и лживо. Актриса же осветила все это по-своему, и Лапшин, лежа на кровати с закрытыми глазами, думал о том, что он знает таких девушек и юношей, верит им и любит их. И чем дальше, тем менее лжив становился умирающий, тем мягче и умиленнее разговаривал он с этой молодой и наивной девушкой, и Лапшин вдруг, сам того не желая, поверил в реальность разговора и вздохнул коротенько и жалобно, подумав, что все умрем и что умирать жалко.
– Здорово, собака, играет! – размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Васька.
Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник скоро умрет.
– Все там будем! – по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.
Явилось какое-то третье лицо, и опять умирающий заговорил отвратительно-скромным и ханжески-простым голосом. Девушка попрощалась, еще поплакала и ушла.
Действие кончилось. Диктор медным голосом прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Адашова, артистка театра, по названию напоминавшего ДЛТ – Дом ленинградской торговли.
– Важно разыграли! – сказал Васька. – Верно, Иван Михайлович?
– Важно, – согласился Лапшин и опять вздохнул – Как бы она ревела, – сказал он, садясь на матраце, – ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе, – я тогда на борьбе с бандитизмом работал, – и был у меня такой паренек Першенко, молодой еще, совсем юный, так вот он умирал. Ну, брат…
Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Першенко.
– А когда мы его хоронили, – говорил Лапшин, – то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Смехота! Красивый был парень Першенко, Жора его звали, смелый! Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязала, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Жоркиным. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелясу, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к ним, к Першенкам, – ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, замухрышка! Кассир в театре. Конечно, кассир тоже дело делает, – можно билеты медленно продавать, а можно быстро. Только за Жорку мне обидно. Орел был!
– Коммунист? – спросил Окошкин.
– Беспартийный.
Постучал Ашкенази, поставил Ваське термометр и сказал:
– Умерла у меня сегодня одна старушка. Я к ней пришел, разговариваю, а она бац – и преставилась. Милая была старушка, сама для себя мыло варила, покупным не мылась – говорила, что оно из покойников. И в свое клала ягоды – землянику. И вдруг запятая! А?
– Бывает, – сказал Лапшин.
– Тридцать семь и семь, – скатал Васька. – Привет от старушки!
Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы – было половина двенадцатого – и вызвал машину.
– Куда? – спросил Васька.
– Поеду к Бычкову, – сказал Лапшин, – на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.
Он надел шинель, сунул в карман дареный браунинг и сказал из двери:
– Ты микстуру пей, дурак!
– Оревуар, резервуар, самовар! – сказал Васька. – Привези папирос, Иван Михайлович.
6
Когда он вошел в комнату, на лице Бычковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешанным у печи бельем.
– Бычкова нет дома, – сказала она, – и он нескоро, наверно, придет.
– Я к вам, – сказал Лапшин, – и знаю, что он не скоро придет.
– Ко мне? – удивилась она. – Ну садитесь!
Стулья были все мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему. Он видел, что она поглядывает на его нашивки.
– Вы стирайте, – сказал он, – не стесняйтесь! Я ведь без дела, так просто заглянул.
Она ловко вынесла корыто в кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо ее выражало недоверие.
– Полный парад! – сказал Лапшин.
Бычкова промолчала.
– А вы кто будете? – спросила она. – Я ведь даже и не знаю.
Голос у нее был приятный, мягкий, выговаривала она по-украински – не «кто», а «хто».
– Моя фамилия Лапшин, – сказал он. – Я начальник той группы, в которой работает Бычков. А вас Галина Петровна величать?
– Да, – сказала она.
Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязался разговор. Но Бычкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо спросил, что у нее происходит с мужем.
– А вам спрос? – внезапно блеснув глазами, сказала она. – Який прыткий!
– Не хотите разговаривать?
– Что ж тут разговаривать?
Он молча глядел на ее порозовевшее миловидно лицо, на волосы, подстриженные чёлкой, на внезапно задрожавшие губы и не заметил, что она уже плачет.
– Ну вас! – сказала она, сморкаясь в полотенце. – Вы чужой человек, чего вам мешаться… Еще растравляете меня…
Полотенцем она со злобой отерла глаза, поднялась и сказала:
– А он пускай не жалуется! Як баба! Ой да ай! Тоже герой!
– Герой, – сказал Лапшин. – Что же вы думаете, товарищ Бычков – герой!
– Герой спекулянтов ловить, – со злобой сказала она. – Герой, действительно!
– Ваш Бычков герой, – спокойно сказал Лапшин, – и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе – дело первой важности. Он дядю Паву поймал, слыхали?
– Слыхала, – робко сказала Бычкова.
– А кто дядя Пава, слыхали?
– Конокрад, – сказала Бычкова, – лошадей уворовал.
– «Уворовал», – передразнил Лапшин. – Увел, не уворовал.
– Ну, увел, – согласилась Бычкова.
– А что он в вашего Бычкова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете?
– Нет, – сказала она.
– Не знаете! – как бы с сочувствием сказал Лапшин и подогнул один палец. – Не знаете, – повторил он. – А что вашему Бычкову два года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки-конокрады перебили ногу и он в болоте, в осоке, восемь суток умирал от потери крови и от голода, это вы знаете?
– Нет, – тихо сказала она, – не знаю.
– Так! И это не знаешь, – со злорадством в голосе, внезапно перейдя на «ты», сказал Лапшин и подогнул второй палец. – Что же ты знаешь? – спросил он, – А, Галина Петровна?
Она молчала, опустив голову.
– Твой Бычков знаешь какой человек? – спросил Лапшин. – Знаешь?
Она взглянула на него, Он вдруг чихнул и сказал в платок:
– Нелюбопытная вы женщина, вот что!
Лапшин еще чихнул и крикнул, морщась:
– Понесли, черти! У меня форточка в кабинете, и в затылок дует.
Отдышавшись, он сказал:
– Вот как!
И добавил:
– Так-то! Вы бы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут, он спаситель и охранитель колхозного добра…
– Я ж этого ничего не знаю, – сказала она, – он же мне ничего не говорит. «Поймал жулика, жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал…»
– А вы спросите! – назидательно, опять перейдя на «вы», сказал Лапшин. – Чего ж не спросить?
– Да он не скажет.
– Чего нельзя – не скажет, а что можно – скажет. Я его знаю, из него всякое слово надо клещами вытягивать. Он боится, что неинтересно, что подумают, будто он трепач, хвастун. Он знаете какой человек? Махорку всегда курил, а хороший табак любит, это мне известно. Премировали мы его, – так он табаку себе все-таки не купил. Говорит – а чего там, подумают, Бычков загордился. А деньги небось вам отдал?
– Мне, – сказала Бычкова, – на пальто. У меня пальто не было зимнего.
– А вы ему табаку купили?
– Так он не хочет, – густо краснея, ответила она, – курит свою махорку…
– «Махорку», – передразнил Лапшин, – «махорку»! Эх вы, дамочка!
– Я не дамочка, – сказала Бычкова, – сразу уж в дамочки попала.
Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала.
– Сами плачете, – кротко сказал Лапшин, – а сами ему глотку переедаете. Нехорошо так!
– Я себе в Каменце жила, – говорила она, плача и пальцами вытирая слезы. – Он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорит – поедем, поедем! В оперетку два раза сходили, на «Марицу», знаете, и на «Веселую вдову». Видали? И потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю – гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками…
Она засмеялась, и слезы еще чаще полились из ее черных больших глаз.
– Жалко, так жалко мне стало! «Дайте, кажу, вашу гимнастерку…» И потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уже пошли, расписались. Несчастье мое, поехала с ним в Ленинград, «У нас, каже, театры, кино, опера, балет…»
– Ну? – спросил Лапшин.
– От вам и ну, – плача все сильнее и сильнее, воскликнула она, – чтоб она сгорела, тая жизнь. Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет – одна эта комната, а он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц! Позвонит из управления: «До свидания, Галочка, будь здорова, я в Петрозаводск уезжаю!» – «Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка!» Трубку телефонную як кину об стенку, аж брызги полетели. Двенадцать рублей за ремонт отдала…
Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда послышались ее горькие, громкие рыдания.
Лапшин вспотел, уши у него горели: «Вот антимония!»– думал он, уставившись в полуоткрытую дверь.
– Чай будете пить? – крикнула она из кухни. – Мне мама варенья прислала вишневого.
– Буду, – сказал он.
Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала:
– Опять чайник утянули, холера вам в бок!
И как старушечий голос ответил:
– Психопатка дурная! Задавись своим чайником!
Лапшин покрутил головой и вздохнул.
Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина:
– Вот так и живу. Хорошо?
– Ничего, – сказал Лапшин, – надо лучше.
– А то гулять пойду, – сказала она и вспыхнула, – пойду и пойду…
– Очень вы себя жалеете, – сказал Лапшин. – Что тут особенного, подумаешь?
Он поднялся, сбросил шинель и прошелся по комнате из угла в угол.
– Я сама машинистка, – сказала она, глядя на него снизу, – я в Каменце в милиции работала – двести ударов в минуту делала, а тут уже не работаю. Если работать, тогда я его вовсе и не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы?
– Почему я? – удивился Лапшин.
Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба.
– Если хотите, – предложил он, – то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову – он просил. Будете вместе с Бычковым работать.
– Хочу, – тихо сказала она.
Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга, и Лапшин видел, что глаза у Бычковой еще полны слез. Выпив два стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно.
– И табаку Бычкову купите, – неожиданно сказал он, – Уважьте его. Есть табак под названием «Ялта» или «Особенный». Вот купите четвертку. Он и будет заворачивать.
Наклонившись через стол, Лапшин добавил:
– Время не такое. Неловко, с другой стороны, махорку курить. Поняла?
– Поняла.
Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим – и мужу и жене – надо бы летом съездить на юг, на море или в Боржоми.
– О, брат, Боржоми! – говорил Лапшин, налегая на стол и тараща глаза. – Лечение блестящее, но моря нет. Без воды. А? Помиритесь без воды?
– Нет, с морем лучше, – сказала Бычкова. – Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря?
– А Кировск? – воскликнул Лапшин.
– Хорошо?
– Спрашиваете! – сказал Лапшин. – Конечно хорошо.
– Нет уж, север – это какой курорт! Это не курорт…
– Глупо говорите! – сказал Лапшин. – Не знаете – не говорите.
Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку:
– Ленинград?
– Да.
– А сюда Рыбинск. Раз, два, три – через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку. Из Баку в Тбилиси. Раз! Из Тбилиси в Батуми – два! Из Батуми на теплоходе до Одессы – четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград – раз, два, три!
– Да, – сказала Бычкова.
Во втором часу ночи вернулся Бычков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.
– Вы заходите, – говорила Бычкова, провожая Лапшина по коридору. – Или хотите, я к вам зайду?
– Ладно, зайдите, – сказал Лапшин. – А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!
Так как шофера он отпустил, то назад пришлось идти пешком. Очень хотелось спать. Но все-таки по дороге он заглянул в две пивные. Заведующий пивной-подвальчиком сказал ему:
– Не извольте беспокоиться! Полный порядочек! Был тут один, по прозванию Козодой, – наладили в отделение.
– Кривой, что ли?
– Так точно.
– А прилавок кто разворотил?
Заведующий смущенно улыбался.
– Поцарапались тут две мышки.
– То-то мышки! – сказал Лапшин. – А еще культурная пивная! Безобразие разводите! Ваша как фамилия?
– Разводящий, – сказал заведующий.
– Так вот, чтобы был порядок!
– Слушаюсь.
– И никаких мышек! И руки надо чистые иметь! Попятно?
Он ушел, коротко козырнув. Дома разделся, снял телефонную трубку и заснул с нею в руке – не успел ее повесить.
7
Его разбудила Патрикеевна, – нужны были деньги – идти на рынок. Он долго ничего не понимал, потом сказал:
– Поди ты, ей-богу! Откуда у меня деньги перед получкой?
– У меня есть свои, – сказала Патрикеевна, – могу на свои в долг сходить. Вы запомните!
– Ну и чудно!
Он проспал еще минут десять-пятнадцать и, проснувшись, вдруг вспомнил вчерашний свой разговор с Бычковой. «Им бы квартиру дать, – сонно думал он, – под охру бы всю. А? С кухней, с уборной, с ванной, чтобы культурненько. И с медной дощечкой на дверь». Он дремал, ворочался на воющих пружинах матраца и сквозь дремоту вдруг размечтался о том, чтобы всем работникам своего отделения выдать по квартире, «А чего ж, – думал он, – построю дом на сорок шесть квартир – и пожалуйста! И распишусь!» И, уже заснув, он сделал такое движение рукой под одеялом, как будто расписывался. «И семафор, – решил он, – и двадцать пять этих…» – Он что-то забыл, взглянул на новый дом и сказал: «Вот чудненько!» И понял, что все это ему приснилось. «Ничего, построим, – думал он, – и Ваське комнату дадим! Хорошо бы рояли в квартирах, пальмы. Телевизоры, черт бы их драл, бассейн там плавательный».
– Вставай, Васюта, – сказал он. – Пора!
Встал, вскипятил чайник и сел за стол в кальсонах с завязками, почесывая голову.
– Здоров? – спросил он.
– Ослабел, – сказал Васька, – Пропал мальчик!
Все утро Лапшин не мог отделаться от мыслей по поводу дома и, вздыхая, придумывал новые и новые усовершенствования: детскую площадку, лифты, дырки в стенах, чтобы грязное белье проваливалось прямо в прачечную.
Потом привели дядю Паву – степенного, очень красивого конокрада. Покашляв в ладонь, дядя Пава сел на стул и положил руки на колени. Когда Лапшин на него взглянул, он произнес:
– Здравия желаем!
– Здравствуйте! – сказал Лапшин. – Что имеете добавить к показаниям?
– Никаких я показаний не давал, – произнес дядя Пава, – которое у вас написано – все вранье. В расстройстве был за несправедливость и наговорил невесть чего.
Злобно-лукавые его глаза внезапно погасли, сделаюсь мутными. Он пригладил большой ладонью синие, с цыганскими кольцами, кудри и потупился.
Лапшин молчал.
– Да-с, – сказал дядя Пава, – оговорили меня. Паршивец стал парод.
– Сам у себя коней ворует? – спросил Лапшин.
– Вполне возможно, – сказал дядя Пава, – ворует мало – еще клевещет.
Лапшин опять замолчал. Его большое лицо потемнело. Он покашлял, порылся в деле, потом позвонил и велел вызвать Бычкова. Тот пришел, хромая, в дверях вынул изо рта пустой мундштук и встал «смирно».
– Дело можно полагать законченным, – сказал Лапшин. – Следствием установлено, что кулак Шкаденков действительно совершал налеты, уводил копей и так далее. Тут я выделил убийство конюха Мищенко. Обратите внимание!
– Слушаюсь! – сказал Бычков.
Вошел секретарь и сказал, что к Лапшину пришла какая-то гражданка из театра.
– Пустите, – сказал Лапшин.
Тяжело поднявшись с кресла, он встретил Адашову у двери. Она была в той же пегой собачьей шубе, и лицо се с мороза выглядело свежим и совсем еще юным.
– Можно? – робко спросила она, но, заметив спину дяди Павы и фигуру Бычкова, торопливо шагнула назад.
– Ничего, – сказал Лапшин, – посидите пока.
Она села на стул у двери, а Лапшин опять опустился в свое кресло.
– На расстрел дельце пошили, – сказал дядя Пава. – Верно, гражданин Лапшин?
Он глядел на Лапшина из-под припухших коричневых век таким острым, ничего не боящимся взором, что Лапшину вдруг кровь кинулась в голову. Он ударил кулаком по столу и крикнул:
– Молчать!
По тотчас же сдержался и сказал:
– Я спрашиваю, а не вы.
– Это конечно, – согласился дядя Пава.
Он опять провел ладонью по кудрям, и Лапшин заметил его взгляд, брошенный на Бычкова, – косой, летящий и ненавидящий. Бычков же поглядел на него внимательно и вдруг усмехнулся.
– Дело прошлое, – сказал он, – это вы мне ногу прострелили, Шкаденков?
– Боже упаси! – ответил конокрад. – В жизни я по людям не стрелял.
И он облизал свои красные, еще красивые губы.
– Резал, верно, – сказал он, – ножиком резал. И вас порезал на Береклестовом болоте, ударил ножиком, помните?
– Как же, – сказал Бычков, – в плечо. Верно?
– И в спину еще ударил, – напоминал конокрад, – думал, грешным делом, мертвого режу, но нет – не вышло.
– Не вышло, – подтвердил Бычков.
– Живучи, – почтительно сказал конокрад, – аж завидно.
– Живуч, – согласился Бычков и спросил: – Все за свое, за доброе?
– Не за чужое, – сказал конокрад, – но при помощи.
Он оглядел Лапшина и Бычкова и добавил:
– Я смелый. Как вы считаете?
– Мертвого ножом резать – это, конечно, смелость, – сказал Бычков и спросил у Лапшина, можно ли идти.
Он увел с собой дядю Паву, и Лапшин сказал Адашовой:
– И такие тоже бывают. Но редко.
– Страшный господинчик, – сказала Адашова.
– Ничего, достали, – ответил Лапшин.
Он молча поглядел Адашовой в глаза, потом спросил:
– За что это меня ваш старик чиновником обругал? Не помните?
Адашова потупилась и покраснела до того, что Лапшину стало ее жалко.
– Ну, леший с ним! – сказал он, по-детски складывая губы и сдувая со стола папиросный пепел. – Шут с ним, с вашим артистом!
– Все это было позорно, – сказала она, – весь этот наш визит к вам. Такие глупые вопросы…
– Да нет, вопросы не то чтобы уж и глупые, – сказал Лапшин, – но не люблю я про психологию разговаривать. Вот возился я с одним убийцей восемь месяцев – жену он свою убил, а тут вынь да по ложь – психологию. Не так это просто!
И, чтобы кончить неприятный разговор, он спросил у Адашовой: показать ей типов или она еще посмотрит фотографии?
– Не знаю, – сказала она, – как вам удобно, мне все интересно… Я, видите ли, должна играть проститутку в этой пьесе, воровку и немного даже психопатку. Так если можно, я бы поглядела…
– Точно, – сказал он, – будет устроено. Тут у меня сидит одна такая, Катька-Наполеон называется. Заводная дамочка… Вы мне про роль поподробнее изложите, я вам, может, чего посоветую, – смущенно добавил он. – Я этот народ отлично знаю.
Она стала рассказывать, а он слушал, подперев свое большое лицо руками и иногда поматывая головой. Вначале Адашова путалась и волновалась, потом стала рассказывать спокойно.
– Мне, в общем, все не нравится, – сказала она, – но роль может выйти. Как вам кажется?
– А вы с тем стариком, который с челюстью, против пьесы?
– Ах, с Захаровым! – улыбнувшись, сказала Адашова. – Нет, мы против режиссера. Режиссер у нас плохой, пошлый. А Захаров – сам режиссер. Кажется, теперь Захаров будет эту пьесу ставить. У него интересные мысли есть, и мы с ним тогда у вас так радовались потому что все наши мысли совпадали с тем, что вы говорили. И мы пьесу теперь переделываем… Драматург сам приехал сюда…
И Адашова стала рассказывать о том, как будет переделана пьеса.
– Так, конечно, лучше, – сказал Лапшин, – так даже и вовсе неплохо!
Он перестал чувствовать себя стесненным, и на лице его проступило выражение спокойной, даже ленивой деловитости, очень ему идущее. Адашова сидела у него долго, опрашивала, и оп охотно отвечал. Говорил он обстоятельно, серьезно, задумывался и, как человек, много знающий о жизни, ничего не обшучивал. Слушать его было приятно еще и потому, что, рассказывая, он избегал какой бы то ни было наукообразности и держался так, точно ему самому не все еще было ясно и попятно.
– Темные дела происходят на свете, – говорил он, и нельзя было разобрать, осуждает он эти темные дела или находит их заслуживающими внимания и изучения.
– Вам, наверно, все люди кажутся жуликами, или ворами, или убийцами? – спросила Адашова.
– Нет, зачем же? – спокойно ответил он. – Люди – хороший народ.
И Адашова вдруг подумала, что люди – действительно хороший народ, если Лапшин говорит об этом с такой спокойной уверенностью.
– Ну а этот? – спросила она, кивнув на стул, на котором давеча сидел дядя Пава.
– Шкаденков-то? Ну, Шкаденков разве человек? Шкаденков взбесился, его стрелять надо.
– Как – стрелять? – не поняла Адашова.
– Расстреливать, – с неудовольствием объяснил Лапшин.
– И вам никогда не бывает их жалко? – спросила Адашова и испугалась, что бестактна.
– Нет, – медленно сказал Лапшин, – никогда. Был у меня один дружок, – в бандотделе {1}
[Закрыть] мы с ним работали, – так он говорил: «Вычистим землю, посадим сад, погуляем с тобой в саду…» И не погулял, – повесило его кулачье за ноги и такое натворили с ним…
Лапшин махнул рукой и, поднявшись, спросил:
– Позвать Наполеона?
– Позовите! – сказала Адашова, и Лапшин вдруг увидел в ее глазах слезы.
– Это очень хорошо, – сказала она дрожащим голосом, – очень!
– Что? – не понял Лапшин.
– Вычистим землю, посадим сад, – сказала она, – погуляем в саду.
– Да, – сказал Лапшин, раскуривая папиросу, – я часто вспоминаю.
Он позвонил и велел вызвать Наполеона. Пока ходили за Наполеоном, пришла Бычкова в коричневом кожаном пальто и в белой шапочке, принесла очень длинное и выразительное заявление.
– Садитесь! – сказал Лапшин. – Гостьей будете!
Написав резолюцию, он спросил:
– Своего видели?
– Видела, – сказала Бычкова, – якогось цыгана допрашивает.
– Этот цыган ему ногу прострелил, – сказал Лапшин, – и ножом его порезал.
– От зверюга чертова! – сказала Бычкова угрожающим голосом.
– Теперь идите в отдел кадров, – сказал Лапшин, – и оформляйтесь!
– Она уполномоченной работает? – спросила Адашова, когда Бычкова ушла, – тоже жуликов ловит?
– Главный Пинкертон, – сказал Лапшин смеясь, – Машинисткой она у нас будет.
Катька-Наполеон была в дурном настроении, и Лапшин долго ее уламывал, прежде чем она согласилась поговорить с Адашовой.
– Мы здесь как птицы-чайки, – говорила она, – стонем и плачем, плачем и стонем. За что вы меня держите?
– За налет, – сказал Лапшин, – забыла?
– Налет тоже! – сказала Наполеон. – Четыре пары лодочек…
– И сукно, – напомнил Лапшин.
– Надоело! – сказала Наполеон. – Считаете, считаете. Возьмите счеты, посчитайте!
– Не груби, – спокойно сказал Лапшин, – не надо.
– Как-то все стало мелко, – говорила Катька, – серо, неизящно. Взяли меня из квартиры, я в ванной мылась. Выхожу чистенькая, свеженькая, а в комнате у меня начальнички. Скушала суп холодный, чтобы не пропадал, и поехала.
Она была в зеленой вязаной кофточке с большими пуговицами, в узкой юбке, в ботах и в шляпе, похожей на охотничий пирожок. Потасканное лицо ее было еще привлекательно, по глаза уже поблекли, помутнели, и зубы тоже были нехороши – мелкие и не белые.
– Стонем и плачем, – говорила она, – плачем и стонем. Поеду теперь на край света, буду там, как Робинзон Крузо, с попкой жить. Да, товарищ начальничек? И на гавайской гитаре играть.
– Там поиграешь! – неопределенно сказал Лапшин и ушел вниз в партийный комитет.
Оттуда он поднялся к начальнику и застал там прокурора, отличного охотника, с которым не чаще раза в год лазал по болотам и бил уток.
– А я, брат, очки надел, – сказал ему прокурор. – Старею.
– Фасонишь! – сказал Лапшин. – Роговые какие-то выдумал!
– Ну что артисты? – спросил начальник. – Канительный народ? Чуть было не пропал с ними, – сказал начальник, обращаясь к прокурору, – наговорил им невесть чего…
Он вопросительно замолчал, надеясь, что Лапшин скажет, будто все было в порядке, но Лапшин только густо покашлял.
– Что ж, Иван Михайлович, не женишься? – спросил прокурор. – Позвал бы на свадьбу, погуляли бы!
– Да нет, – сказал Лапшин, – куда мне, я старый старичок.
– Ну уж, старичок! – смеясь, сказал прокурор и снял очки, к которым не привык и которые его стесняли. – Такие старички, Иван Михайлович, самый бедовый народ…
И вдвоем с начальником они стали подсмеиваться над Лапшиным и рассказывать про него те небылицы, которые мужчины рассказывают только мужчинам.
– Ладно уж! – сказал Лапшин, сам смеясь. – Вот языки-то у вас подвешены!
Начался разговор о хищениях кожи с одного склада на Пороховых и о трикотажных спекулянтах, но долго еще и прокурор, и Лапшин, и начальник во время разговора посмеивались, вспоминая шутки и анекдоты, придуманные про Лапшина.
– Мое мнение, что тут Мамалыга шурует, – сказал Лапшин, – его рук дело. И то ограбление магазина в районе с убийством сторожа – это тоже он. И с трикотажем штучки…








