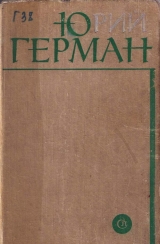
Текст книги "Лапшин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
«Да, да, – думал он, – довольно! Хватит!»
И раздраженными глазами смотрел на гладкое, замерзшее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены санатория, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать, не кончив срока, и он не уезжал только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз его государство послало отдыхать, то он должен это делать как следует.
В Ленинграде на вокзале его встречал Васька Окошкин, приехавший в автомобиле. Моросил дождь, и все было так, как Лапшин мечтал.
– У нас холода, – говорил Васька. – Я еле на потах держусь, застудился.
Дома они пили чай с рогульками. Патрикеевна гневно молилась в нише. Зашел Ашкенази, потом позвонил телефон, и Лапшин очнулся только на другой день к вечеру, – так внезапно и круто захватила его работа. И он был счастлив, глядя в окно на асфальт площади Урицкого, пузырящийся под дождиком, был счастлив, разговаривая с прокурором о деле, был счастлив, распекая Побужинского и говоря ему громко и отрывисто:
– Работа спасает от всего, это извольте знать! У вас умер брат, я все это понимаю и готов вам помочь всем тем, что в моих силах. С братом вы вместе росли и вместе жили, все понимаю. Но он умер, а вы ничего решительно не делаете, – это мне непонятно. Чем больше вы будете работать, тем лучше и легче вам будет. Поверьте мне! Ваш брат был честным и горячим работником, и хотя бы в его честь вам не следовало так запутывать и запускать свои дела. Самое же главное не в этом, а в том, милый человек, что вначале у вас действительно было горе, а сейчас вы просто разленились и на своем горе спекулируете. Это дело надо бросить и надо как следует за работу взяться. С сегодняшнего дня извольте каждое утро являться ко мне с докладом!
После он допрашивал старого своего «знакомого», вора-рецидивиста Сашеньку и пил чай. Сашеньку взяли минут двадцать назад в трамвае. Он был великолепно одет и курил дорогую толстую папиросу.
– И не стыдно тебе, Саша? – говорил ему Лапшин. – Смотри, как нехорошо получается! Все тебя водят ко мне и водят. Покажи-ка, зубы, что ли, золотые вставил?
Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями:
– Двадцать семь штук. Невиданная вещь!
– Гуляешь? – спросил Лапшин.
– Сейчас именно я лично гуляю, – сказал Сашенька. – Вот несколько приоделся.
Он развел полы пальто и показал великолепный шоколадного цвета костюм.
– Хорош? – спросил он.
– Чудный, – сказал Лапшин.
– А вы как живете? – спросил Сашенька. – Все работаете?
– Да, как видишь, помаленьку работаю.
– И ни сна, ни покоя, ни грез золотых? – продекламировал Сашенька. – И ни знойных, горячечных губ?…
– Это кто сочинил? – спросил Лапшин.
– Я.
– А магазин на Большом не ты брал?
– А вы с подходцем! – сказал Сашенька. – Да, гражданин начальничек? – Он помолчал, потом добавил улыбаясь: – Слово жулика – не я!
– А кто?
– Боже ж мой! – воскликнул Сашенька. – Разве ж и знаю?
– А ты чего делал?
– Я церкви закрывал, – сказал Сашенька, – я и еще Пашка Перевертон и Кисанька. Вы Кисаньку знаете? И Пашку вы знаете лично, верно?
– Верно, – сказал Лапшин. – Они у меня сидят.
– Новости! – сказал Сашенька. – Их же на моих глазах брали в магазине! Только они не сознались, а я сознаюсь, ввиду того что хочу бросать свое дело и выходить в новую жизнь…
– Давай сознавайся! – сказал Лапшин. – Только быстренько: раз-два…
Он взял лист бумаги и карандаш.
– Писать будете? – спросил Сашенька.
– Буду.
– Ну ладно, – сказал Сашенька и облизал губы, – раз так, то пишите.
– Без трепотни?
– Что ж, я не вор, чтобы я вам трепался! – обиженно сказал Сашенька. – Что мы, мальчики тут собрались? Когда хочу – говорю, когда не хочу – не говорю.
Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал:
– Амба! Пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю! И когда они меня резать будут, и когда вы мое тело порубанное найдете, чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька. Пишите! Я нервный человек, я психопат, но я для вас раскололся, потому что таких начальничков дай бог каждому… Пишите!
Он рассказывал долго и курил папиросу за папиросой. Потом спросил:
– Пять лет получу по совокупности?
– За старое. А новое я еще не знаю.
– Пишите новое! – сказал Сашенька. – Располагайте мною!
И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисанькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты Торгсинов ценности…
– Была у нас карта старинная, – говорил Сашенька, – с крестиками, где церкви. Ну мы и работали! С одной стороны, ценности государству сдавали – польза. С другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освящает, не решается. Сход не велит. К свиньям, говорят, твое заведение! Тоже польза. Верно?
– Ты мне голову не крути! – сказал Лапшин. – Я тертый калач.
– Дай бог! – сказал Сашенька. – Таких других поискать…
– И хвостом не виляй! – сказал Лапшин, – Не надо. Будь человеком!
Сашенька покраснел.
– Это верно, – тихо сказал он, – Можно идти?
– Нет, нельзя.
Едва Лапшин отпустил Сашеньку, явился Васька Окошкин, сконфуженный, в мокром плаще, и долго что-то мямлил, настолько путаное и непонятное, что Лапшин рассердился и шлепнул ладонью по столу.
– Что у вас за каша во рту? – крикнул он. – Извольте докладывать толком или идите!
– Тамаркин проворовался, – сказал Васька, – он в артели работал, так украл, собака, мотор и продал другой артели…
– Какой Тамаркин? – спросил Лапшин.
– А который у вас был на дне рождения. Который врал чего-то про самолеты. Помните? Несерьезный такой парень, пижон такой…
– Ну?
– Ну и проворовался.
– Так я-то здесь причем?
– Его сажать надо, – сказал Васька, – а мне как-то неловко. Может, вы кого другого пошлете?
– Нет, тебя, – сказал Лапшин. – Именно тебя.
– Почему же меня?
– А чтобы знал, с кем дружить! – краснея от гнева, сказал Лапшин. – «Некто Тамаркин» и «некто Тамаркин», а Тамаркин – ворюга…
Краснея все больше и больше и шумно дыша, Лапшин смял в руке коробок спичек, встал и отвернулся к окну.
– Ну тебя к черту! – сказал Лапшин, не глядя на Ваську. – Пустобрех ты какой!.. Поезжай и посади его, подлеца, сам, и сам дело поведешь, и каждый день мне будешь докладывать…
– Слушаюсь! – тихо сказал Васька. – Можно идти?
– Постой ты! Откуда он у тебя взялся-то?
– Ну чтоб я пропал, Иван Михайлович, – быстро и горячо заговорил Васька. – Учились вместе в школе, потом я его встретил на улице, обрадовался, – все-таки детство…
– Детство! – передразнил Лапшин. – Дети! И на бюро парткома о своих друзьях расскажешь. Дети – моторы красть! Возьми машину и поезжай, а то он еще там наторгует! Ребятишки у него есть?
– Нет.
– А жена?
– Тоже нет, официально.
– Подлец какой!
– Да уж, конечно, собака! – сказал Васька примирительным тоном. – Я и сам удивляюсь.
– Тебя не спрашивают! – крикнул Лапшин. – Никто тебя не спрашивает, удивляешься ты или нет. Поезжай сейчас же!
И он с силой захлопнул за Васькой дверь.
4
Тамаркин служил электротехником в переплетной артели «Прометей» и еще в двух артелях по совместительству, и Васька Окошкин едва его нашел. Они столкнулись в маленьком коридорчике, заваленном картоном и штуками коленкора, причем не Окошкин остановил Тамаркина, а Тамаркин Окошкина.
– Здорово, Окошкин! – крикнул Тамаркин и толкнул Ваську ладонью в грудь. – Меня ищешь?
Он протянул Ваське руку, и Васька от растерянности пожал ее.
На Тамаркине была отглаженная и накрахмаленная синяя прозодежда и под ней рубашка и великолепный галстук. На шее он для щегольства имел белое шелковое кашне.
«Приоделся, собака, – рассеянно отметил Окошкин, – и брючки в полосочку пошил».
– А ты все в милиции да в милиции! – болтал Тамаркин. – Жизни не видишь… Пойдем, я тебя запеканкой угощу, здесь сегодня на завтрак макаронная запеканка…
Рядом, за тонкой фанерной стеною, грохотала какая-то машина, и шипел и шлепал приводной ремень.
– Ты что слушаешь? – спросил Тамаркин. – Это наша индустрия…
Он засмеялся, а Васька вдруг вспотел от злобы и отчаяния. «Все разворует, – с ужасом думал он, – картон вынесет, коленкор украдет!»
– Какой-то ты странный, – сказал Тамаркин. – Побрился бы… Хочешь, я тебя с техноруком познакомлю?
– Нет, – дребезжащим голосом сказал Васька, – я за тобой приехал. Ты арестован.
И, вынув из бокового кармана ордер, он протянул его Тамаркину, чтобы тот мог прочесть. Тамаркин сразу пожелтел.
– С ума сойти! – сказал он, подымая плечи. – За кого ты меня считаешь?
На обыске в квартире Тамаркина Васька еще раз понял, что Тамаркин вор. Он понял это по тем вещам, которые были в комнате у Тамаркина, по костюмам, по фотоаппарату, по радиоприемнику, по деньгам, которые лежали в письменном столе, по пишущей машинке.
– Зачем вам пишущая машинка? – не выдержав, сказал Васька. – Что вы, писатель?
Толстая мадам Тамаркина, которая плакала, стон у двери, крикнула:
– Странно, почему машинка привлекла ваше внимание? Почему вы не интересуетесь моим бельем?
– Оставьте, мама! – крикнул Тамаркин с дивана. – Что за остроты!
И, клацая зубами, он спросил, обращаясь к Окошкину:
– Скажите, Вася, я могу еще покушать напоследок?
Окончив обыск, Окошкин аккуратно запечатал комнату Тамаркина и суровым голосом сказал:
– Можете прощаться!
– За что? – спросил Тамаркин в машине. – Что я сделал?
Васька молчал и глядел в окно.
– Тогда берите товарища Магазинера тоже! – сказал Тамаркин. – И Солодовника. В чем дело?
– Возьмем, – сказал Васька, – тебя не спросим.
Ему очень захотелось ударить Тамаркина в ухо, но он сдержался и закурил.
– Мы все-таки с вамп сидели на одной парте, Вася, – сказал Тамаркин, – это не надо забывать.
– Никогда я с вами на одной нарте не сидел, – сказал Васька. – Я с Жоркой Карнауховым сидел и с Перепетуем. Нечего врать!
Потом, сдав Тамаркина, Окошкин явился к Лапшину и доложил. От Лапшина он сбегал к врачу – измерил себе температуру. Было тридцать восемь с лишним, и в горле оказались налеты.
– Надо идти домой, – сказал врач. – В постель!
Почесав пером густую бровь, он написал рецепт и сказал:
– Это микстурка. А это – полоскание. Так-то!
Щеки у Васьки горели, и по спине пробегал неприятный холодок. Но он был весел, до самого вечера работал и так шумел, что Лапшин ему сказал:
– Чего ты трескотню поднял? Потише нельзя?
Ночью он бредил, а Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, заставив лампу книгой, и Ашкенази говорил:
– Не понимаю я вас, Иван Михайлович! Зачем вам понадобилось посылать его за Тамаркиным? Он молод, это его школьный товарищ. Не понимаю.
– Ничего, злее будет! – сказал Лапшин.
Ашкенази сложил губы трубочкой, немного посвистел, помотал конем над доской и усмехнулся.
– Когда я болел сыпным тифом, – заговорил он, не глядя на Лапшина, – то все время бредил знаете чем? Тем, что свет какой-то там звезды долетает до нас через две тысячи лет. Это неприятно, правда?
– Почему же неприятно? – спросил Лапшин. – Пусть себе!
– Врешь, – с постели крикнул Васька, – врешь, собака, врешь! На тормозной площадке.
– Разбирает парня, – сказал Лапшин и внимательно поглядел на Ваську.
Из управления Лапшин два раза звонил по телефону домой, и оба раза ему отвечал Васька.
– А ничего! – говорил он. – Вполне прилично. Патрикеевна компоту наварила такого гадкого, что мочи нет.
День был горячий. Лапшин ездил в суд, потом допрашивал растратчиков, потом ходил с докладом к начальнику, потом читал лекцию в школе начальствующего состава милиции. Он любил преподавание, любит свою профессию, был отличным практиком своего дела, и лекции ему всегда удавались. После лекции было много вопросов, и так как его лекцией кончался учебный день, то он предложил еще поговорить с полчаса. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным и чувствовал, что говорит отлично и что между ним и аудиторией существует тот контакт, который позволяет ему уже не оживлять лекцию прибаутками и шуточками, что каждое его слово и без того берется на лету и достигает желаемого эффекта, и чувствовал, как напряжены и взволнованы слушатели.
– Вот вам обстоятельства дела, – говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь схемой, которая тоже выходила удачной и четкой. – Понятна схема?
Аудитория одобрительно загудела.
– Таким образом, – поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин, – таким образом, мы, следователи, оказались в глупейшем положении. Верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу? И вот однажды, чуть ли не во время шестого посещения, я гляжу на него и думаю: «Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены! Как угрожает, как кулаком стучит!» Взглянул ему в глаза. Взглянул и ясно вижу – в глазах у него выражение ужаса, истерического ужаса. И тут меня, как говорит, осенило. Он, думаю, он самый. Сижу, слушаю, как он мне грозит, и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме прибираю хозяйство свое, и обстоятельства дела, и спорю сам с собою, и, еще не доспорив и не довыяснив, негромко говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, меня тот-то знает и тот-то, вам не место здесь!» Прошу учесть, товарищи, основное положение того, что я вам рассказываю: не имея улик, я знал только одно – что инженер мой слабый и ничтожный человек и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улик, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую…
Вместо двадцати минут Лапшин проговорил час с четвертью, и все-таки его не отпускали. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, потом по лестнице, потом до раздевалки. Застегивая крючки шипели, он говорил:
– Разъедитесь к себе, во всех затруднительных случаях – пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду возможным и целесообразным – приеду. Главное же – не думайте, что обратиться ко мне за помощью значит признать себя побежденным…
Уже было девять часов вечера, и Лапшин зашел на минуту к себе в кабинет, чтобы подписать бумаги, и сел в кресло, не снимая шипели. Но ему позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы он не уезжал, так как начальник сейчас беседует с артистами и собирается вместе с ними к Лапшину.
Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и, сделав напряженное лицо, стал читать уже прочитанную сегодня газету. От голода у него бурчало в животе, и от предстоящего разговора с артистами он испытывал неловкость и заранее раздражался на те глупые вопросы, которых ожидал.
Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел начальник, за ним шли артисты. У начальника на лице было то плутовато-суровое выражение, которое всегда появлялось у него в подобных случаях и которое означало, что хоть мы и не Пинкертоны, но найдем что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами.
Пожав Лапшину руку во второй раз (они уже виделись сегодня) и предложив артистам садиться, начальник закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их потому, что Лапшин – старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытнейший…
– В нашем деле, – говорил он, живо блестя стеклами пенсне, – как и в вашем, товарищи, необходимы не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин – талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый.
Лапшину от этих похвал стало жарко, и, не зная, что делать с собою, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.
Вот видите, как стесняется! – сказал начальник, – и артисты засмеялись, а Лапшину вдруг стало стыдно за начальника и за его тон, и за трубку, которую он никогда раньше не курил, а теперь почему-то закурил.
Он по-прежнему стоял возле своего кресла и по-прежнему курил дешевую папиросу, но теперь он уже не стеснялся больше и в упор разглядывал артистов, своими некими ярко-голубыми глазами. Никто из них ему не нравился: ни красивый молодой артист, снявший широкополую серую шляпу и отиравший подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и вежливо-безразличными глазами; ни еще один молодой, но уже лысый артист, все время кивающий яйцеобразной головой; ни тучный благообразный старик в крагах; ни молочая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей и ярко накрашенным большим ртом. В каждом из них было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадою подумать: «Эх, пижоны!» И только одна девушка привлекла его внимание. Она сидела сзади всех, и вначале он даже ее не увидел, – так скромно, по сравнению со всеми, она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась, не говорила: «Это интересно!», или «Да, да!», или «Черт знает что!». Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув свою топкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным видом. Она была в берете и шубе из того него го меха, про который обычно говорят, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.
Когда начальник неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: «Это жуткая драма», – артистка в берете, так же как Лапшин, от неловкости опустила глаза.
Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. «Он с ней вдвоем против всех, – с удовольствием подумал Лапшин. – Злой, наверно, старикан!» И он вспомнил фамилию старика и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычева, и вспомнил, как хорошо играл старик.
Наконец начальник попрощался и ушел.
– Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, – сказал он в дверях, – прошу адресоваться к нему!
Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском, спросил:
– Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?
Тогда взял слово молодой артист в кепке особого фасона и с очень страдальческим и изможденным лицом и стал рассказывать содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера – числом более семнадцати – и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в путаную и вялую речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь, – с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу, – он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно». Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, например: «На сплошном наигрыше», или: «Это крепко сшитый эпизод», или: «Формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии…»
– Понятно! – сказал Лапшин, хотя далеко не все было ему попятно. – Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы…
Он наморщил лоб, взглянул на артистку в берете и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески-скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:
– Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти и проститутки, и марвихеры, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в советском государстве – не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись… люди (он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди»), люди, – повторил он, – которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет, – сказал Лапшин, раздражаясь, – поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей и сделал контрреволюционное дело. Мужики из колхоза разбрелись и говорят: «Не были мы колхозные – и лошади были, а стали колхозные – и лошадей нет». Я дядю Паву поймал и посадил и тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры – парод неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил…
– Пьеска прелестная, – вдруг сказал старик, – необыкновенно грациозно написанная и колоритная и все такое, и даже проблемная в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей…
Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:
– Побольше бы таких пьес!
Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.
– Это, конечно, и к проститутке относится, – вновь заговорил Лапшин, – и ко всем решительно. Безработицы у нас нет, основная база этого ремесла разрушена. Все остальное – психология. Мало ли там слабых и психически неустойчивых? Эдак любую, самую невероятную, подлость оправдать можно. Дескать, неуравновешенный. Мне дела, знаете ли, нет, кто мне горло перерезывает: уравновешенный или неуравновешенный. Ежели не болен, то и отвечай по-нашему, по-советскому, по закону. Верно я говорю?
– Верно! – сказал толстый старик и захохотал, тряся головой. – Верно, батенька, я сам с шулером на Волге играл, и тот из меня три тысячи двести рублей кровных сбережений вытянул. Не могу я симпатягу из шулера разыгрывать, коли мне до сих пор тошно, как вспомню. Я лучше сам себя сыграю, какой я был в те поры хороший и чистый.
Все засмеялись, и Лапшин сказал улыбаясь:
– Правильно, конечно. Прожили мы почти двадцать лет, нечего валять дурака. Сидит у меня сейчас один мальчик – Карлуша Гринблат. Из хорошей рабочей семьи, а сам прохвост, начал свою деятельность с того, что воровал в годы первой пятилетки баббит с завода. Не хватало ему на «красивую» жизнь. Ну и что, ну и не хватало, так сейчас бы хватило. Для него, дурака, старались, верно? Так ведь что? «Во мне, говорит, проклятое прошлое!» Как вам правится? – А ты, спрашиваю, это прошлое видел? Когда Октябрьская революция ударила, ты еще в Африке вороной летал. – Молчит.
Лапшин выжидательно оглядел артистов. Все молчали, и Лапшин ясно понял, что все то, о чем он говорил, артистов не устраивало по каким-то причинам, ему неизвестным. Довольными были только девушка в берете и старик артист с большой нижней челюстью, который сидел рядом с нею.
– Так-то! – среди общего молчания сказал старик, – Выходит, что мы с Адашовой правы, а не Викентий Борисович.
Завязался вдруг непонятный Лапшину спор. Все набросились на старика с челюстью, и Лапшин с досадой думал о том, что это совершенно его не касается, что он хочет есть и спать.
Когда спорить перестали, ему уже было лень говорить. Он встал и сказал, что кто из товарищей хочет поближе познакомиться с делом, тот может заходить к нему в любое время, разговаривать же на общие темы, по его мнению, не стоит.
Все начали говорить, что на общие темы тоже чрезвычайно интересно и что они уже многое получили и пусть Лапшин еще побеседует.
Зазвонил телефон.
– Так вот, товарищи, – сказал Лапшин, переговорив и вешая трубку, – я должен только добавить несколько слов по поводу того, что называется в просторечии перестройкой…
И, посасывая зажеванный мундштук потухшей папиросы, он деловито и коротко заговорил о том, что в перестройке основным является профессия, что людям дают профессию и таким путем превращают их из люмпенов в трудящихся.
– Затем дело, работа, – говорил он, – строится канал или плотина – люди видят плоды своих рук…
Вынув связку ключей, он открыл шкаф и достал оттуда свою гордость – большие, унылого вида альбомы с фотографиями.
– Поглядите! – говорил он небрежным тоном. – Тут у меня кое-что собрано, я лет пятнадцать собираю…
И, раздав на руки альбомы, он с тревогой следил, как бы не выпала и не затерялась фотография, как бы кто-нибудь не поцарапал эмульсию на карточках, как бы не перегнули листа…
– Это все мои крестнички, – говорил он, наклоняясь над артисткой в берете и над стариком, который с довольным лицом потирал свой длинный подбородок. – Но тут просто портреты, а вот этот альбом куда занятнее…
И придвинув одним движением своей сильной руки тяжелый, из дуба, столик, он раскрыл на нем папку и стал показывать фотографии, поглядывая то на Адашову, то на старика с тем выражением глаз, которое бывает у художников, показывающих свою картину.
– Тут, знаете, мы кой-чего разыграли, – говорил он, – такие как бы живые картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вон он, лично я в кепке, налетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано, – говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика, – здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уже я в форме… А здесь я опять налетчика разыгрываю…
– Чудно! – сказала Адашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся и розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.
– Верно, ничего разыграли? – весело и просто спросил он. – Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?
– Все очень живо и естественно, – сказала Адашова, – напрасно вы думаете…
– Смеялись мои ребята, – говорил Лапшин, – цирк прямо был…
И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он очень понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да еще по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.
– Да ну, – говорил он посмеиваясь, – так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?
– А Ленька Пантелеев? – спросил артист с бритым лбом.
– Да ну что! – сказал Лапшин. – Ну бандит… Это все писатели выдумали, нам их не обскакать…
Ему было досадно, что артисты спрашивают о страшном, а не о том, о чем действительно стоит рассказывать и что действительно помогло бы им в будущем спектакле, и он, сделай вежливое лицо, стал забирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.
– А вот скажите, это убийство тройное на днях было, – спросила старая артистка с двойным подбородком. – Как вы себе представляете психологию убийцы?
– Не знаю, – сказал Лапшин. – Бандит еще не найден.
– Ах, так! – любезно сказала артистка.
– Да, – сказал Лапшин, – к сожалению.
Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.
– А вот скажите, – спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок, – убийства на почве ревности, страсти роковые вам случалось видеть?
– Случалось, – сказал Лапшин.
– И… как же? – спросил артист.
– Я работаю по преступности много лет, – сухо сказал Лапшин, – мне трудно ответить вам коротко и ясно.
– Ну, спасибо вам! – сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками. – Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас.
– Пожалуйста! – сказал Лапшин.
Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через три ступеньки по служебной лестнице, с удовольствием представлял себе Адашову. Машины у подъезда еще не было. Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая после тяжелого дня огромную, белую от снега площадь, он вдруг услышал голос одного из актеров с досадой говорившего:
– Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Чиновник, тупой и человек и грубиян в довершение!..
Мимо табунком прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:
– Чинуша, чинодрал, фагот!
«Почему же фагот? – растерянно подумал Лапшин. – Что он, с ума сошел?»
Сидя за рулем машины, он по привычке припоминал той разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что он был прав, коротко отвечая на пространные вопросы, что отвечать иначе на эти вопросы решительно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав он, Лапшин, а не артист в крагах.
«И не чиновник я, – рассуждал Лапшин, – и не чинуша, – это ты врешь. Сам ты, вероятно, чинуша, а я нет. Правда, я грубоватый иногда, по нельзя же такие тупые вопросы задавать! И вообще чудак народ! – неодобрительно, но уже весело думал Лапшин, нажимая кнопку сигнала, – ему очень хотелось проехать между трамваем и автобусом, а автобус не уступал, – чудак, ей-богу, чудак».
И, позабыв о неприятном старике в крагах, он стал думать про Адашову и про то, как она похвалила его фотографии.








