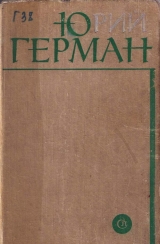
Текст книги "Лапшин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
15
Когда Лапшин вернулся домой, Васьки еще не было, и только Патрикеевна храпела в своей нише. Уже наступало утро, он отворил окно и долго из окна глядел на булыжники своего переулка. Потом он деловито разделся, лег в постель и сразу же уснул тяжелым, неосвежающим сном. Проснувшись часов в семь и чувствуя себя разбитым, он взял книгу Костомарова и, пофыркивал носом, стал читать. Исторические картины проносилась перед ним, но далеко и смутно, точно на них лежала тень, и он догадывался, что это за тень, по ничего не мог поделать с собой, а только раздражался на себя и вздыхал с возмущением.
Завтракая, он несколько раз взглянул на пишущую машинку Ханина, прикрытую клеенчатым чехлом, а потом чувствовал только желание на нее глядеть, но оборотился к ней спиной и не глядел.
Лицо у него подсохло за ночь, он заметил это, бреясь, по глаза не изменились, в них было по-прежпому упрямое, зоркое и смешливое выражение.
«Все пройдет, – думал он, шагая в управление, – все пройдет, и ничего ведь, собственно, даже не случилось. И не было ничего. Все по-прежнему».
И он отмечал про себя знакомые переулки, и проходные дворы, и витрины, и вывески магазинов, и освежающий весенний утренний ветерок – это как бы подтверждало его мысли о том, что все по-прежнему и что ничего решительно не изменилось.
Было еще совсем рано. Он отворил свой кабинет, отодвинул кресло, аккуратно и методично налил в чернильницы чернил, отточил карандаши и поставил их в стаканчик, переложил на столе бумажки, сдул уроненный пепел и тотчас же, не терпя ни секунды, принялся читать протоколы допросов и там, где были поясности, красным толстым карандашом ставил вопросительные знаки или очеркивал то существенное и важное, что ускользало от внимания следователя и что требовало еще дополнительной разработки. Иногда, читая, он улыбался, иногда хмурился и почесывал карандашом в ухе, иногда поправлял орфографическую ошибку, иногда говорил; «Ах ты, глупый человек!» или что-нибудь в этом роде укоризненное и сердитое.
За спиной его была огромная площадь Урицкого, и когда у него уставали глаза от плохих почерков, он на минуту поворачивался к окну и, щурясь, смотрел на серый асфальт, на автомобили, на колонну и на дворец – все это было залито ярким солнцем. Лапшин покуривал, потягивался и опять читал.
Потом он допрашивал Мамалыгу и людей из его компании и следил, как они ведут себя на очной ставке, ловил их на лжи, сталкивал и спрашивал;
– Это точное показание? Или вы еще будете вывертываться? А? Да или нет?
И в его ярко-голубых глазах были такая уверенность, и такое упрямство, и такая сила, что все хитрейшие построения Мамалыги рушились одно за другим. Он уныло отбрехивался вначале, а потом и вовсе замолчал, только поводил зрачками по комнате да ежесекундно стряхивал с папиросы пепел, постукивая по ней пальцем.
К трем часам Лапшин с Васькой поехали в суд слушать дело Тамаркина. Тамаркин сидел на скамье подсудимых в крахмальном воротничке и часто поглядывал на Ваську Окошкина с таким видом, будто хотел сказать:
– А? Кто мог думать, что это так здорово получится?
Когда защитник говорил речь и воскликнул, что Тамаркин был «вовлечен», тот заплакал и отодвинулся от своего соседа по скамье подсудимых, как бы показывая этим, что защитник прав и что он, Тамаркин, действительно вовлечен.
Васька слушал защитника с недовольным лицом, а прокурора – с довольным и кивал головой, когда прокурор поносил Тамаркина. Тамаркину дали пять лет, и он, слушая приговор, как бы даже удивился, что, в общем, дешево отделался, но вслед за этим сделал мутные глаза и поискал сзади себя в воздухе, точно ему было дурно.
– Просто-таки артист! – говорил Васька по дороге в управление. – Верно, Иван Михайлович?
Лапшин просидел у себя в кабинете до половины первого и уже собирался уходить, когда позвонил телефон. Адашова спрашивала, не приехал ли Ханин.
– Нет, – сказал Лапшин, – у меня он не был и мне не звонил.
От звука ее голоса к лицу у него прилила кровь, он вытер платком шею и покашлял. Адашова сказала, чтобы он приехал к ней, и он поехал, хотя знал, что лучше не ездить. Опять сидели на подоконнике, и опять у Адашовой были старательные глаза, а он пытался не смотреть на нее, на ее розовый, ненакрашенный рот и не видеть ее испуганного выражения, – он знал теперь, отчего лицо у нее испуганное и зачем он ей нужен, когда Ханина нет. Ни с кем больше она не могла говорить о Ханине, а с ним могла, и она это делала, не жалея Лапшина. Меньше всего она думала о нем – она думала только о своей любви к Ханину и о том, как бы эта любовь не показалась Лапшину унизительной, и если говорила осторожно, то не для Лапшина, а для себя самой. Она выспрашивала его о Ханине и о покойной Лике, и о том, как они жили, и о том, какая у них была в Ленинграде квартира, и что за человек была Лика. И в тоне ее Лапшин чувствовал ревность, и чувствовал, что ей было бы приятно, если бы он сказал о Лике худо и об их жизни худо. Но он говорил как раз обратное, и ему было приятно, что ей тяжело.
– Да вы же сами Лику видали! – говорил он. – Она веселая, и простая, и гостеприимная, и умная была, чего там! Жили – каждому завидно…
Лапшин взглянул на нее. Щеки у нее горели, и в глазах было уже другое выражение – злобное.
– Конечно, – сказала она, – Лика бы а а прелестная женщина.
Сидя на подоконнике, она грызла печенье. Крошки сыпались ей на колени, она стряхивала их частыми движениями ладони и молчала.
– Ну, я поеду, – сказал Лапшин.
– Уже? – спросила она. – А может, пойдем в ресторанчик?
Пошли в ресторанчик. Есть Лапшин не мог и не знал, что нужно делать в ресторанчике, когда играет музыка и все кругом пьяные.
– Нет, тут плохо! – сказала Адашова. – Проводите меня.
Он проводил, и когда возвращался домой, то подумал, что каждый день ходить на свои собственные похороны – невеселое занятие.
А утром очень рано приехал Ханин, сел на постель к Лапшину, разбудил его и стал рассказывать о Москве и о том, что теперь уже выяснилось, летит он или нет…
– Так летишь? – спросил Лапшин.
– Да конечно же лечу! – сказал Хании. – Все уже установлено окончательно.
– А куда?
– Мое дело, – сказал Ханин, – моя маленькая тайна.
Лицо у него было измученное и веселое. Он закрывал один глаз и, надавливая пальцами висок, спрашивал:
– Вторые сутки мигрень. Неужели нельзя ничем помочь?
Разбудил Ваську и подарил ему металлический никелированный зажимчик неизвестного назначения, Патрикеевне подарил апельсин из мыла, и Ашкенази – великолепную сигару.
– Вот и приехал старик о дом! – говорил он, расхаживая по комнате. – Все ему рады, всем гостинцев привез, хороший, мягкий, добрый старичина, благодетель…
Потом, упершись тростью Ваське Окошкину в живот, спрашивал:
– Женился? Да женился или нет? Не женился?
А когда Лапшин уже собрался уходить, он вдруг заспрашивал о спектакле: как прошло и как играла Адашова?
– Ничего, – хмуро сказал Лапшин. – Ты сам погляди.
– Я ей конфет привез, – сказал Ханин, – Наташке-то…
В выходной день Ханин попросил у Лапшина автомобиль съездить в оранжерею за цветами для Ликиной могилы. Патрикеевна вдруг сказала, что лучше не просто положить цветов, а лучше посадить, и что если Ханин купит рассады, то она поедет вместе с ним и посадит.
– Давай, если ты такая добрая, – с удивлением сказал Ханин. – Поедем.
Поехал и Лапшин. По дороге взяли с собой Адашову, долго все вчетвером ходили по душной оранжерее за Патрикеевной и смотрели, как она выбирает и препирается с садовником. Наташа ела миндаль и не поднимала глаза – она еще больше осунулась за это время, и еще больше веснушек выступило на ее лице.
На кладбище она не подошла близко к могиле, а стояла опершись плечом на ствол молодой березы и не отрываясь смотрела на Ханина, который, сидя на корточках, без шляпы, помогал Патрикеевне сажать цветы.
Был теплый вечер, пахло влажной землей и молодыми березами, и на кладбище, где-то за еще черными, но уже покрытыми налившимися почками ветвями, смутно белели двое людей. Они ходили меж могил, переговаривались, и порой женский голос пел:
Лишь гимназистка с синими глазами…
И оба смеялись.
– Ты не дави, не дави на цветочки-то! – говорила Патрикеевна Ханину. – Не жми их…
Он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замахает своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках.
Лапшин нашел себе камень и, удобно устроившись на нем, курил папиросу, глядел то на Ханина, то на Адашову и, тоскуя, думал, что хорошо бы сейчас ехать по длинной-длинной дороге на возу и дремать.
Опять женский голос лукаво запел:
Лишь гимназистка с синими глазами…
Назад ехали молча, одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно смотреть на Наташу.
Она, как давеча, ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и злое.
Ночью Ханин трещал на машинке, а когда кончалась страница, пел:
Та гимназисточка…
У него была бессонница. Он стыдился ее и, глотая веронал, говорил, что это от живота.
16
В канун Первого мая Васька Окошкин сообщил, что женится, а первого, после парада, в полной форме и даже в перчатках, пришел домой за вещами.
– Ух у тебя вещей! – говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старый ремень и грязные гимнастерки. – За твоими вещами на грузовике приезжать. На, бери вещи! – Вещи ему подай!..
– И синий штатский пиджак, – плачущим голосом говорил Васька, – там в кармане был такой футлярчик металлический…
Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жалко, что Васька уезжает.
– Жалованье мне заплати! – сказала Патрикеевна. – В чем дело?
– И была у меня еще такая вещичка из клеенки, – ныл Васька, – что ты, правда, Патрикеевна?…
– А сам ищи! – сказала Патрикеевна. – Раз так, то ищи сам! Хошь бы десятку подарил; дескать, на, старуха, купи себе пряничков, пожуй. Не буду искать!
Она села, выставила вперед свою деревяшку и с победным видом встряхнула стриженой головой. Только что у себя в нише она выпила мерзавчик водки, и теперь казалось, что ее все всегда обижали и что надо наконец найти правду.
– Тяпнула небось, – сказал Васька, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан.
– На свои тяпнула, – сказала Патрикеевна. – На твои не тяпнешь.
– Ура! – сказал Васька.
Уложив вещи, Васька сел на свою кровать, на которой уже не было матраца и подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко и казалось, что Лапшин недоволен.
– На свадьбу не зовешь? – спросил Ханин.
– После получки, – сказал Васька, – обязательно.
Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу.
– Психопатка! – обиженно сказал Васька.
Он вообще был склонен сейчас к тому, чтобы обижаться.
Поговорили о делах, о комнате, в которой Васька будет теперь жить, о теще.
– Теща ничего, – вяло сказал Васька, – только все меня за руку берет. Задушевная!
– А ты держись! – сказал Ханин, помолчал и засмеялся.
– Чего, Носач, потешаетесь? – спросил Васька.
– А ничего, – сказал Ханин, – мне на секунду показалось, что ты не очень хочешь туда ехать.
– Пустяки, – сказал Васька и стал надевать перед зеркалом фуражку.
Фуражка у него была новая, и надевал он ее долго: сначала прямо, потом несколько наискосок и кзади. Ханин следил за ним, поднял руку и крикнул:
– О-то-то! Хорош!
– Хорош?
– Хорош, – сказал Ханин.
– Ладно, – сказал Васька. – До свиданьица!
Он подошел к Лапшину, подщелкнул каблуками и козырнул, глядя вбок.
– Будь здоров, Вася! – сказал Лапшин и подал Окошкину руку.
– Не поминайте лихом! – сказал Васька, по-прежнему глядя вбок.
– Чего там! – сказал Лапшин.
Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделалось совсем обиженное.
– Легкой дороги! – сказала Патрикеевна из ниши и захохотала.
– Счастливо оставаться! – ответил Васька. Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы.
– Заходи в гости! – сказал Лапшин.
Васька ушел, и Патрикеевна сказала:
– Баба с возу – кобыле легче.
Она достала из шкафа постель Ханина, уложила ее на пустую кровать и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов.
– А на него я жаловаться буду! – сказала она. – напишу куда следует. Повыше групкома тоже есть начальство.
Солнце ярко светило во все большие окна, с улицы доносилась глухая музыка, и настроение у Лапшина было и приподнятое и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин расхаживал по комнате с рюмкой коньяку, которую все собирался выпить, и говорил:
– Я люблю, чтобы в праздник меня помяли, люблю устать, люблю, когда колонна останавливается и девушки танцуют. Налить тебе коньяку, Иван Михайлович?
– Нет, – сказал Лапшин.
И ему вдруг захотелось не видеть Ханина и остаться комнате совсем одному, сесть у стола, упереться лбом в холодную клеенку и помолчать.
Четвертого мая Ханин выклянчил у Лапшина разрешение поехать с Бычковым на операцию. Лапшин сам поехал – экзаменовал в школе начальствующего состава, потом допрашивал, потом совещался у начальства и пришел к себе в кабинет только во втором часу ночи. Открывая дверь, он услышал, что звонит телефон, но когда вошел и взял трубку, оказалось, что уже разъединили.
На столе лежали непрочитанные в суете дня сегодняшние газеты; Лапшин сел в кресло, наморщил лоб и стал читать.
Зазвонил внутренний телефон.
Читая, Лапшин сиял трубку и сказал, что слушает.
– Иван Михайлович, – сказала телефонистка Верочка, – вас Бычков нашел?
– А ищет? – спросил Лапшин.
– Все время ищет. – Она включила кого-то и выключила. Лапшин слышал ее говорок: «Милиция, милиция, Четыре? Даю». – Вы слушаете? – громко спросила она. – Мне кажется, что-то случилось.
– Ладно, – сказал Лапшин, – посмотрим. Я теперь буду в кабинете.
Он проглотил скопившуюся вдруг во рту слюну, повесил трубку и стал ходить по комнате. Вынул часы, положил их на стол и косился на циферблат. Прошло три минуты, семь. Лапшин вызвал секретаря и велел ему послать машину с дежурным по тому адресу, куда уехал на операцию Бычков. Пришел начальник и спросил:
– Чего у тебя, Иван Михайлович?
– А черт его знает, – сказал Лапшин. – Шухер, кажется, подняли на проспекте Маклина.
– Ишь ты! – сказал начальник.
– Тут одни дядька поехал, – сказал Лапшин, – Ханин, знаешь? Я тебе говорил – пишет он чего-то про нас.
– Ну?
– Он смелый человек, но штатский, – сказал Лапшин, – в очках…
– Ат, ей-богу! – с досадой сказал начальник и стал читать газету.
Зазвонил телефон. Лапшин спокойно взял трубку и узнал голос Бычкова.
– Ну? – угрожающе спросил он.
– Товарищ начальник, Ханина ранили в живот, – сказал Бычков, – положение опасное.
– Что? Ханина ранили в живот? – повторил Лапшин. – Ну?
– Я сам в клинике, – говорил Бычков, – положение очень опасное. Приезжайте, пожалуйста, очень опасное положение!
Лапшин повесил трубку и подумал.
– Кто вам разрешил посылать журналиста на такое дело? – фальцетом спросил начальник. – Я вас под суд отдам!
– Слушаюсь, – сказал Лапшин. – Можно идти?
– Можете!
Лапшин сделал кругом, спустился вниз и сел за руль машины. Возле ворот клиники стоял Бычков в расстегнутом макинтоше и в кепке блином.
– Ну? – спросил Лапшин.
– Краденой обуви не оказалось, – говорил Бычков, идя чуть сзади Лапшина по дощатому узенькому тротуару во дворе клиники, – ни одной пары, перепрятали. Так. Тогда я беру в тумбочке враз четыре паспорта, один стертый, и документики.
– Короче! – сказал Лапшин.
– Пока я шурую, – заторопился Бычков, – этот кулак просит разрешения с ребенком проститься. А Ханин ему: «Пожалуйста!» А он из-под ребенка браунинг и как начнет сажать! Я с антресолей ему на холку. Ну сбил, обезоружил. Так. Теперь сюда, в подворотню, товарищ начальник.
– Умирает? – не оборачиваясь, спросил Лапшин.
Они вошли в дверь с блоком и очутились в вестибюле клиники. Ярко блистали грушевидные лампы, и старик швейцар без ливреи, в одной фуражке с золотом и в деревенской рубахе, сидя на диване, вязал чулок.
Бычков скинул макинтош и кепку, положил на диван возле швейцара и разгладил ладонью волосы. Швейцар принес им халаты, и теперь сделалось видно, какое у Бычкова измученное и задерганное лицо.
– Я полностью несу ответственность, – тихо и быстро говорил он в спину Лапшина, когда они поднимались по лестнице, – полностью, лично я. Обманул меня враг…
– Ты замолчишь? – спросил Лапшин.
По длинному кафельному коридору, в конце которого поминутно трещали электрические звонки, Лапшин и Бычков дошли до двери с матовым стеклом и с цифрой «сорок». Лапшин сморщил лицо и отворил дверь, но палата была пуста, и он сразу же попятился.
– Ничего, ничего, – ласковым шепотом сказал Бычков – Его в операционную взяли. Зайдем пока…
И он надавил в спину Лапшину и вошел сам за ним в маленькую палату.
Здесь все было прибрано и вещи расставлены с той вечной, ничем не колеблемой аккуратностью, какая бывает только в гостиницах да в больницах. Стояла кровать, тумбочка, и стул стоял нелепо, как не ставят в комнатах, в углу. На тумбочке была фаянсовая мисочка, из которой, видимо, поили Ханина. Она имела специальное название, но Лапшин так и не вспомнил это название, не успел. Заметив, что рядом с мисочкой лежат очки Ханина, сильно выпуклые стекла с одной торчащей оглоблей, Лапшин поглядел на очки и поискал пи стенам и в углах, надеясь увидеть еще что-нибудь из знакомых вещей – трость или шляпу, но ничего больше не было. Только белый Бычков стоял посредине белой начаты, сунув руки в карманы штанов.
Оттого что в палате был всего один стул, ни Лапшин, ни Бычков не садились и простояли молча до тех пор, пока на высокой тележке не привезли Ханина.
С тележки свешивалась по обе стороны простыня, и Ханин был не то завернут, не то покрыт простыней весь, и санитары, и сестра, и врач – все, кто привезли его, удивились, увидев в палате посторонних людей, а врач властным голосом приказал им обоим выйти.
Они вышли и из коридора слушали, как, тяжело ступая, санитары что-то делали в палате, как двигали потом почему-то кровать и как врач тем голосом, которым разговаривают маляры или обойщики в комнате, покинутой хозяевами, приказывал что-то и обругал вдруг сестру.
Первой выкатилась с шипящим звуком тележка, потом вышли санитары, потом врач, с незакуренной папиросой в твердых плоских губах, и сказал, что пуля извлечена, швы наложены, но положение тяжелое и что, если Лапшину угодно, он может остаться хоть до утра. Говоря, он глядел на орден Лапшина и слегка двигал бровями.
Ханин лежал на спине без подушки, покрытый до плеч простыней, и казался мертвым. Лицо его странно выглядело без очков и имело новое, страдающее и детское выражение.
Лапшин взял себе из угла стул, отпустил Бычкова и просидел не двигаясь, пока не взошло солнце. Ханин очнулся, его тошнило. Лапшин с медленной и ловкой осторожностью много раз раненного солдата обтирал лицо Ханина, подставлял тазик и, когда сестра выходила, считал Ханину пульс.
Окончательно очнувшись, Ханин сказал:
– Когда я был маленьким, сестра меня пугала: не сердись, а то ты лопнешь и обваришь себе ноги! Теперь я знаю, что это такое, Надень-ка на меня очки!
Лапшин, сложив губы трубочкой, надел на Ханина очки и велел ему молчать. Ханин закрыл одни глаз и сказал:
– Старик развалился на части. А какой был достойный, почтенный старик!
Отдышавшись, он добавил:
– Иди домой, Иван Михайлович! Черт бы подрал твоих разбойников! Иди, иди!
Сестра зашипела на него. Он замолчал и закрыл под очками глаза. Лапшин еще посидел, а приехав домой, позвонил Адашовой и рассказал ей все. Уже наступил день, гремели трамваи, и Патрикеевна, пока он разговаривал, стояла с корзинкой в руке – собралась на рынок. Повесив трубку, Лапшин стал снимать сапоги, а Патрикеевна смотрела на него со злобой.
– Ну чего смотришь? – кряхтя сказал он. – Иди себе, иди, бабам на рынке расскажи…
Сердце тяжело бухало у него в груди, и, когда Патрикеевна ушла, он сделал себе холодный компресс и положил на грудь. Вода текла под мышкой и по животу. Лапшин кряхтел от ощущения пропасти, в которую падал вместе с перебоями сердца, и, морща лоб, разглядывал потолок, по которому бродили солнечные пятна.
Позвонила Адашова и сказала, что ее не пускают в клинику и что она сейчас приедет к Лапшину. Придерживая рукой мокрую тряпку на сердце, он прибрал комнату, подмел, застелил постель и на электрической плитке стал жарить яичницу, чтобы накормить Наташу, когда она приедет. И когда она приехала, он был уже в гимнастерке и в портупее, и глаза у него были ясные и яркие как всегда, и сапоги его поскрипывали, и нельзя было подумать, что он болен и что ему плохо.
Он думал, что она заплачет, или ей сделается дурно, или она начнет упрекать его, но ничего подобного не произошло. Правда, подбородок у нее вздрагивал, и она сидела съежившись, в позе, необычной для нее, и глаза у нее имели странное выражение – растерянное и тоскливое, но спрашивала она только о подробностях самого ранения, как и куда попала пуля, как ее извлекли, сколько длилась операция, много ли Ханин потерял крови, что он чувствует сейчас, а главное – когда к нему наконец пустят.
– Я бы с ним посидела, – говорила она, – я умею ходить за больными. У меня отец в крушение попал, и я все ему делала не хуже, чем фельдшерица… И я бы ему болтать не давала, он болтает, наверно, много…
На ее лице было детское, умоляющее выражение. Она встала и посидела на кровати Ханина.
– Это здесь он спал? – сказала она. – Но он же очень длинный, у него ноги, должно быть, торчали.
И она попробовала, пружинит ли сетка.
Потом вдруг она потянула пальцами Лапшина за рукав гимнастерки и сказала;
– Вы только не мучайтесь, Иван Михайлович. Вы же не виноваты, вы нисколько не виноваты. И все это кончится благополучно, вот посмотрите!
И она еще раз потянула его за рукав.
– Покушайте, – сказал Лапшин. – Яичница простыла.
Постучав к Ашкенази, он рассказал ему о случившемся, и они втроем пошли в клинику. Адашова шла впереди, сунув руки в карманы своей вязаной кофточки, и часто встряхивала головой, а Лапшин слушал болтовню Ашкенази и глядел на Наташу, на ее независимую и легкую фигуру, на ее тонкую шею, на ее заштопанный чулок.
Но в клинике присутствие духа покинуло ее. Она сжалась, побледнела, и когда надевала халат, то долго не могла попасть в рукава и завязать тесемки. В палату она пошла первой и выглянула оттуда порозовевшей, испуганно-счастливой.
– Ничего, – сказала она Лапшину, близко заглядывая ему в глаза, – честное слово, ничего. Войдемте все, только ненадолго, а потом уж я совсем с ним останусь. Только ненадолго, да?
За эти несколько минут она забрала всю власть над Ханиным себе и всем распоряжалась.
Ханин по-прежнему лежал на спине, без очков, близоруко моргал и просил шипящим голосом:
– Данте покурить! Дайте немножко покурить! Наташка, Наташенька, один раз только затянуться…
– Нельзя, миленький! – почему-то шепотом говорила Наташа, – ну нельзя…
Она уже что-то делала в палате, мыла какой-то стакан, потом ушла и принесла вату и таз, чтобы вытереть Ханину лицо.
– Я не люблю мыться, – говорил он, – я не считаю это нужным. И все равно, роковая развязка близится.
– Теперь уходите, – сказала Наташа Лапшину. – И вы, доктор, уходите. Я сама теперь здесь буду. Я себе тут кресло поставлю.
– Покурить, сволочи! – сказал Ханин жалобно. – Ну Иван Михайлович!
Приехав в управление, Лапшин прямо прошел к начальнику и доложил ему про Ханина.
– Цветов надо ему послать, – сказал начальник. – Неудобно, на нашем деле пострадал. Как ты считаешь?
– Можно, – кисло сказал Лапшин.
– Не любит?
– Да нет, можно, – сказал Лапшин.
– Ерунда получается, – сказал начальник. – Мне уже из Москвы звонили, из газеты. Что да как? Ерундистика!
Помолчали.
– А на меня ты не обижайся, – сказал начальник. – Опять я погорячился вчерашний день. Потом разберемся.
– Так точно, – сказал Лапшин.
Половину дня он проработал спокойно, но потом начал волноваться так, как не волновался уже много лет. Когда-то, еще во время войны, он был тяжело контужен, не лечился, и теперь раз в три-четыре года его мучили припадки, наступление которых он точно распознавал и которых мучительно стыдился. При полной ясности сознания у него вдруг начинала неметь левая нога, в голове подымался треск, горело лицо, и откуда-то изнутри шли потрясающие все тело короткие, сильные, болезненные спазмы.
Допрашивая знахаря Бочарова, он почувствовал приближение припадка, позвонил и, когда Бочарова увели, запер за ним дверь на ключ и лег на диванчик в нелепой, навсегда установленной позе, про которую он думал, будто она помогает. Секретарь отворил снаружи своим ключом дверь и, поняв в чем дело, поставил Лапшину воду, подтянул шнур с кнопкой для звонка поближе и, как было установлено, оставил его одного.
«Сорок восемь, сорок семь, сорок шесть, – считал Лапшин, чтобы успокоиться, – сорок три, сорок два…»
Его передернуло, он мысленно выругался и со злобой засопел носом. И вдруг, первый раз за всю свою жизнь, он с отчаянием и с болью и со страстью захотел, чтобы сейчас с ним здесь была женщина, которую он любил, чтобы она села рядом с его беспомощным, грузным, страдающим телом, чтобы она расстегнула ему ремень, сняла револьвер и расстегнула ворот гимнастерки, разула бы его, подставила под висящую ногу стул и сделала все то, что может сделать только любящая женщина и чего никогда никто ему не делал.
«Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, – считал он, – тринадцать, двенадцать…»
Его подкинуло, он стал сползать с диванчика, но уперся пальцами в пол и опять улегся в нелепой позе и опять стал считать от тысячи назад.
«Я, конечно, хуже его, – думал он, – я ничего не знаю, а он знает много и видел много, и вообще он человек замечательный, умный человек, честный, а я что? Я себе работаю и работаю… И, конечно, он опасно раненый, и вообще он известный журналист, и его жизнь в опасности, а моя вне опасности…»
Секретарь сунул голову в дверь и сказал, что доложит начальнику и позовет доктора.
– Стрелять буду, – сказал Лапшин, – как, как, как…
Дверь захлопнулась. Он встал, лег животом на стол и снял телефонную трубку.
«А моя вне опасности, – рассуждал он, стыдясь сознаться себе, что звонит в клинику не потому, что хочет узнать, как здоровье Ханина, а потому, что хочет услышать голос Адашовой. – Она скажет – и все, – думал он, – я же понимаю».
Телефонистка Лебедева, которую Лапшин узнал по голосу, спросила номер, но он не мог назвать, заикался, и она поняла, зная о Ханине, что ему нужна клиника. Он лежал животом на столе, сопел носом и слышал, как она вызывала сначала Бычкова, чтобы узнать клинику и номер палаты, потом коммутатор клиники, потом кого-нибудь из палаты. Подошла Наташа. Лебедева ей сказала, что с ней будет говорить Лапшин, и выключилась.
– Ничего, все хорошо, – говорила Наташа. – Вы слушаете, Иван Михайлович?
– Да, – с силой сказал он.
– Были врачи, – думая, что он плохо слышит, громко говорила Наташа, – все идет хорошо, спокойно. Вы заедете?
– Да, – сказал он.
– Есть ему и пить нельзя и долго будет нельзя, – продолжала она. – Я на репетицию не поеду и все время тут буду, мне позволили…
Он тихонько повесил трубку и стал сползать со стола, чтобы лечь на диванчик, но, лишившись опоры, он упал прямо на пол, на паркет, дурно пахнущий мастикой и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала. В голове у него стоял треск, похожий на треск гранат, судороги сотрясали все его большое и сильное тело, он ловил ртом воздух, и в ярко-голубых глазах его было сосредоточенное выражение – он старался не потерять сознания и не застонать.
Через несколько минут отворилась дверь и вошел начальник. Увидев злобные глаза Лапшина, он сказал ему:
– Но, но, не дури!
И, усевшись возле него на корточки, стал делать то, чего никогда не делала Лапшину женщина: он сиял с него сапоги, расстегнул гимнастерку, ремень, портупею, погладил его по голове и подложил ему под затылок свернутый плащ. Постепенно в кабинет набивался народ, и Лапшин видел, как плачет Галя Бычкова и как ей что-то говорит, прогоняя ее, бледный Васька Окошкин.
Потом пришли врач и санитары, Лапшина уложили на носилки и унесли. В больнице он пролежал два дня, и за это время у него побывали все, кроме Наташи и Ханина. Из больницы он поехал прямо в клинику, сел в Наташино кресло и долго с удовольствием глядел на небритого, худого и веселого Ханина. И на Наташу он тоже глядел с удовольствием и угощал ее купленными по дороге слоеными пирожками.








