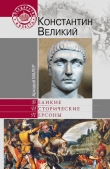Текст книги "Пушкин (часть 3)"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 63 (всего у книги 68 страниц)
Батарею гвардейской артиллерийской бригады привел на площадь генерал Сухозанет. Ее поставили поперек Адмиралтейской площади; правый фланг батареи дулами обращен к Сенату, левый – к Невскому – два орудия могут палить вдоль проспекта.
Зарядов же для пушек нет, их не взяли.
Еще мчится адъютант хоть за несколькими зарядами в лабораторию, а Сухозанет уж командует:
– Батарея! Орудия заряжай, с зарядом – жай!
Он пугает толпу. Но толпа стоит неподвижно и смеется. Московцы стреляют, кроют батальонным огнем, и стоят, как в землю вросшие, лейб-гренадеры и Экипаж.
А зарядов нет.
Генерал Сухозанет догоняет Николая, бесцельно разъезжающего, и говорит:
– Ваше высочество, прикажите пушкам очистить Петровскую площадь.
Ему отчаянно хочется выслужиться: его перегнали в этот день. Он запоздал. Николай, может быть, не знает, что зарядов нет. Заряды ведь скоро подвезут.
Но Николай останавливает коня, смотрит свирепо на генерала широко раскрытыми глазами, зубы его величества выбивают мелкую дробь, и, не сказав ни слова, он отъезжает от генерала влево.
В порыве служебного усердия генерал Сухозанет забылся и назвал его «ваше высочество».
Генерал в отчаянии. Он хватается за голову, медленно едет за царем. Выжидает, ловит его. Падают сумерки.
Четвертый час на исходе.
А московцы стреляют, и стоит черным плотным каре Гвардейский экипаж. А четыре кавалерийские атаки отбиты с уроном, и лейб-гренадеры у бунтовщиков на правом фланге. И Николай видит: чернь одиночками, кучками, толпами перебегает на Петровскую площадь – к бунтовщикам.
Если дело затянется до ночи – победа сомнительна.
Кто знает, что выйдет, если вся чернь примкнет к бунтовщикам? Кто разберет, что на уме – хотя бы у тех же измайловцев? В Финляндском полку волнения. Он остановился на мосту, на Васильевском острове. Ночью дело темное.
К Николаю подъезжает генерал Толь:
– Государь, я думаю положить конец этому беспорядку, пустив в ход пушки.
Николай хмуро кивает головой Толю, как и в первый раз.
Ночью дело темное, ночью дело сомнительное. Генералу Сухозанету хочется отличиться. А зарядов привезли немного, раз, два и обчелся.
Генерал не теряет надежды выслужиться. Он слышит, что говорит Толь, подъезжает к Николаю и, понизив голос, наклоняется к нему:
– Государь (так вернее), сумерки близки, силы бунтовщиков увеличиваются, темнота в этом положении опасна.
Николай молчит.
– А вы в своей артиллерии уверены? – спрашивает он хмуро и, не дожидаясь ответа: – Попробуйте еще раз переговорить.
Генерал Сухозанет едет к фронту московцев и кричит:
– Ребята, положите ружья, буду стрелять картечью.
Свист и хохот летят ему в лицо.
Александр Бестужев кричит:
– Сухозанет, ты б кого-нибудь почище прислал!
В генерала прицеливается молодой гвардеец. Сзади гвардейцу кричат:
– Не тронь этого холуя, он не стоит пули!
И крик идет по площади:
– Ура, Константин!
– Ура, конституция!
Сухозанет, багровый от гнева, поворачивает коня. Вдогонку свист, улюлюканье. Все на него сегодня плюют – и эта солдатская сволочь и царь.
На скаку он выдергивает из своей шляпы султан и машет им в воздухе. (Это-то и было первым, что увидел Вильгельм, когда вышел из своего столбняка.) Это сигнал – первый залп.
Первый залп холостыми орудиями.
Московцы стоят, стоит экипаж лейб-гренадеров, толпа все гуще сжимается вокруг войск.
Генерал Сухозанет получил от генерала Толя приказ: пальба орудиями по порядку.
XVПервый выстрел.
Картечь поет визгливо – пи-у – и грохот: рассыпается; одни пули ударяют в мостовую и поднимают рикошетами снежный прах, другие с визгом проносятся над головами и попадают в людей, облепивших колонны Сената и крыши соседних домов, – шальные пули, – третьи – третьи косят фронт. Рассеивается пыль, в воздухе крики и стоны. Один крик в особенности страшен – похож на вой животного.
Войска стоят.
Ясный голос Оболенского:
– Пли!
И в ответ тонкому пению картечи – сухой разговор ружей.
И опять тонкое пение – пи-у – и опять грохот – разбитые оконницы Сената звенят, пули уходят в камень, и штукатурка сыплется под ними.
Люди валятся кучами. Они падают, как снопы, и остаются лежать.
И все-таки войска стоят, а в ответ пению шрапнели сухой ружейный разговор; но он уже отрывист – ружья заикаются – пальба неровная.
И в третий раз – тонкое пение и треск, и в ответ – отдельные сухие вскрики ружей: тра-та-та, как похоронный стук барабана.
И в четвертый раз – ружья замолкают.
Со страшной, пронзительной ясностью Вильгельм видит все: как дрогнула передняя колонна и заметались матросы, как бросает старый матрос с изрытым оспой лицом ружье, как падает, точно поскользнувшись на льду, и остается лежать молодой матрос, – и вот главный толчок – и Вильгельма, тесня, проносит вперед бегущая толпа – мимо манежа, – а ноги спотыкаются о трупы и раненых. Вильгельм ощущает раз треск костей под ногами – и отдается толпе. На бегу он видит, как два солдата прячутся между выступами цоколя у манежа.
Толпа проносит его мимо Саши – Саша стоит и снимает белый султан с шляпы – сейчас и его захлестнет.
– Саша! Саша!
Но Саша не слышит.
Картечь поет.
И Вильгельма охватывает ярость. Его толкают, его что-то несет на себе, как пылинку, а эта поющая дура-картечь расстреливает всех, как баранов. Унижение, унижение и злость, страха нет и в помине. Он крепко сжимает закостеневшей рукой пистолет.
– Стой! – кричит он диким голосом.
Визг картечи кроет его крик.
Толпа метнула его в узкий двор – рядом с манежем.
Все та же бешеная, ясная злость владеет Вильгельмом. Он ясно все сознает, он примечает малейшие мелочи – место, количество людей, есть ли у них оружие. Последний всплеск толпы вбрасывает во двор Мишу, брата. Он без шинели, ворот его мундира расстегнут, а брови сдвинуты с выражением недоумения. Вильгельм не рад брату – ему все равно.
Он кричит:
– Стой!
И все покорно выпрямляются.
Вильгельм командует в полутьме:
– Стройся!
И этот худой, высокий человек с перекошенным лицом, сжимающий в руке длинный пистолет, приобретает власть над людьми. Его голоса слушаются. Он строит людей в шеренги, и солдаты, нахмуря лица, идут за ним.
Подходит Миша и говорит Вильгельму:
– Уходи. – Больше не может и только шевелит губами, с ужасом смотря на брата.
Вильгельм властно отстраняет его рукой.
Час Вильгельма пробил – и он хозяин этого часа. Потом он расплатится.
– В штыки!
Он выводит людей из ворот на улицу, он поведет их в штыки – на врагов, на картечь.
– Нельзя, – говорит ему спокойно приземистый матрос, – куда людей ведете? Ведь в нас пушками жарят.
Вильгельм узнает Куроптева.
И в ответ пение картечи, ненавистный тонкий визг, и через мгновение трещащий разрыв пуль.
Вильгельм стоит опустив голову, сжимая в руке пистолет. Все легли. Он один стоит.
Куроптев ему снизу шепчет: «Ложитесь», – и Вильгельм послушно ложится.
Они проползают несколько шагов, и Куроптев говорит ему:
– Теперь на середину ползем.
Исаакиевская площадь во мраке. И Вильгельм слушается Куроптева. Они доползают до середины площади.
И в это время с Вильгельмом происходит непонятная перемена – острота сознания остается, но злости уже нет, а есть только тонкая осторожность, сумасшедшая хитрость преследуемого зверя. Сейчас надо пройти мимо семеновцев. Он все примечает по-прежнему. Он осознает в один миг, что он без шинели, в одном фраке, и что в руке его по-прежнему зажат пистолет, а они должны лицом к лицу пройти сейчас мимо семеновцев. И он, наклоняясь, беззвучно роняет пистолет в снег. Рука онемела и неохотно его выпускает: за день пистолет сросся с рукой. И они проходят мимо семеновцев.
В полумраке два солдата провожают его взглядами исподлобья. Вильгельм идет прямо, не сгибаясь.
Последнее, что он видит в полутьме, – это как офицеры Гвардейского экипажа подходят один за другим к командиру и сдаются ему.
Потом он идет легко, бодро, тело его пусто, и в пустой груди механически бьется разряженное до конца сердце.
У Синего моста чья-то легкая фигура. Вильгельм догоняет Каховского. Они и идут рядом. Вильгельм спрашивает его тихо:
– Где Одоевский, Рылеев, Пущин?
Каховской смотрит на него сбоку спокойными, неживыми глазами и не отвечает.
И они расходятся в темноте.
Через полчаса – вечер. Зимний вечер 14 декабря, густой, темный, морозный. Вечер – ночь.
На площади – огни, дым, оклики часовых, пушки, обращенные жерлами во все стороны, кордонные цепи, патрули, ряды казацких копий, тусклый блеск обнаженных кавалергардских палашей, красный треск горящих дров, у которых греются солдаты, ружья, сложенные в пирамиды.
Ночь.
Простреленные стены, выбитые рамы во всей Галерной улице, шепот и тихая возня в первых этажах окрестных домов, приклады, бьющие по телу, тихий, проглоченный стон арестуемых.
Ночь.
Забрызганные веерообразно кровью стены Сената, трупы. Кучи, одиночки, черные и окровавленные. Возы, покрытые рогожами, с которых каплет кровь. На Неве – от Исаакиевского моста до Академии художеств – тихая возня: в узкие проруби спускают трупы. Слышны иногда среди трупов стоны – вместе с трупами толкают в узкие проруби раненых. Тихая возня и шарканье; полицейские раздевают мертвецов и раненых, срывают с них перстни, шарят в карманах.
Мертвецы и раненые прирастут ко льду. Зимой будут рубить здесь лед, и в прозрачных, синеватых льдинах будут находить человеческие головы, руки и ноги.
Так до весны.
Весной лед уйдет к морю.
И вода унесет мертвецов в море.
Петровская площадь как поле, взбороненное, вспаханное и брошенное. На ней бродят чужие люди, как темные птицы.
Побег
IНиколай Иванович провел тревожный день. Кто победит? Если Рылеев, – придется Николаю Ивановичу рассчитываться за дружбу с Максимом Яковлевичем фон Фоком. Если царь, – ох, может попасть Николаю Ивановичу за его отчаянный либерализм: какие он речи на собраниях произносил, что в его типографии в декабре печаталось!
– Пришли, Николай Иванович, пришли драгуны, жандармы.
Николай Иванович вышел в гостиную.
В гостиной стоял Шульгин, санкт-петербургский полицеймейстер, человек огромного роста, с пышными бакенбардами; с ним был целый отряд квартальных, жандармов, драгун – вся Санта-Хермандада была в гостиной Николая Ивановича.
Николай Иванович расшаркался. Шульгин сказал:
– Отвечайте на вопросы.
Он подал Николаю Ивановичу бумагу. На бумаге было написано косым, четким почерком, карандашом: «Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховской?» Возле имени Каховского было написано в скобках другим, дрожащим почерком: «У Вознесенского моста, в гостинице «Неаполь», в доме Мюсара».
Николай Иванович отлично знал, где живет Вильгельм. Но он наморщил лоб, цицероновским жестом поднес правую руку к подбородку, подумал с минуту и отвечал медленно и задумчиво:
– Сколько я знаю, Кюхельбекер живет неподалеку отсюда, в доме Булатова. У Каховского адрес показан, но верно ли, мне неизвестно.
– Точно ли так? – спросил Шульгин.
– Точно.
Шульгин приблизился к Николаю Ивановичу:
– Ну, смотрите, вы знаете, кто это написал? Сам государь. Вы за правильность сведений головой отвечаете.
Николай Иванович поклонился почтительно:
– Правильность сведений подтверждаю безусловно.
– В дом Булатова, – сказал Шульгин жандармам.
Жандармы вышли. Николай Иванович медленно вернулся в свою опочивальню.
IIК концу дня Фаддей Венедиктович совсем растерялся. Он вял извозчика и начал разъезжать по знакомым. Извозчик попался Фаддею Венедиктовичу неразговорчивый. Город был безлюден и тих. Вдали, на Эрмитажном мосту, чернело войско. Фаддей Венедиктович спросил у извозчика неожиданно для самого себя:
– А скажи, братец ты мой, нельзя ли нам на Петровскую площадь?
Сказал и прикусил язык.
Извозчик покачал головой:
– Никак нельзя, барин, там теперь мытье да катанье, кругом пушки да солдаты.
Фаддей хихикнул бессмысленно:
– Какое мытье?
– Вестимо дело, замывают кровь, посыпают снегом и укатывают.
– А крови много было? – спросил дрожащим голосом Фаддей.
Извозчик помолчал.
– Значит, много, коли под лед людей спускают.
Фаддей огляделся.
– Поезжай, братец, к Синему мосту, – сказал он просительно, как будто извозчик мог ему отказать.
У дома Российско-Американской компании он слез, расплатился кое-как с извозчиком и вбежал рысцой по знакомой лестнице.
«Войти или не войти? – подумал он. – Боже сохрани, и думать нечего, назад; скорей назад. И зачем я только сюда приехал?»
Он дернул за колокольчик.
Дверь отворил слуга, бледный, с испуганными глазами. Мелкими шажками, потирая для чего-то руки, вошел Фаддей в столовую. За столом сидели Рылеев, Штейнгель, еще человека три. Они тихо разговаривали между собой, пили чай. Фаддей, быстро кивая головой и виновато улыбаясь, подошел к столу. Он не поздоровался ни с кем, но уже высмотрел свободный стул и приготовился сесть на краешек.
Тогда Рылеев встал лениво, вышел из-за стола, подошел к Фаддею и взял его за руку повыше локтя.
– Тебе, Фаддей, делать здесь нечего, – сказал он протяжно. Он посмотрел на Фаддея и усмехнулся. – Ты будешь цел.
Потом, все так же держа его за руку, он вывел его из комнаты и закрыл дверь.
Очутившись на улице, Фаддей подумал тоскливо:
«Пропаду. Ей-богу, пропаду».
Он побежал по улице, потом остановился.
«Нет, бежать не годится. Домой скорей».
Кое-как добрался он до дому, укутался в халат, лег, угрелся и задремал.
В два часа ночи Фаддей все еще спал. Проснувшись, он увидел над собой незнакомую усатую голову.
– Булгарин, журналист?
Фаддей сел на постели. Перед ним стоял жандарм. В дверях виднелась теща – «танта», – величественно смотревшая на Фаддея: своим поведением он наконец добился достойного конца.
«Начинается», – подумал Фаддей.
– Одевайтесь немедля, поедете со мной к полицеймейстеру.
– Я сейчас, – бормотал Фаддей. – Я мигом. Сию же минуточку с вами и поеду.
Руки его дрожали.
Полицеймейстер Шульгин сидел за столом в расстегнутом мундире. Перед ним стояли два жандармских офицера, которым он отдавал предписания.
Фаддей ему почтительнейше поклонился. Шульгин не ответил.
«Плохо дело», – подумал Фаддей.
Отпустив офицеров, Шульгин пристально вгляделся в Фаддея. Потом он усмехнулся.
– Садитесь, – сказал он ему, кивнул на стул. – Вы чего перетревожились? – Он засмеялся. Фаддей заметил, что он слегка пьян.
– Я ничего, ваше превосходительство, – сказал он, осмелев несколько.
– Коллежского асессора Вильгельма Карловича Кюхельбекера знать изволите? – посмотрел вдруг в упор на него Шульгин.
– Кюхельбекера? Я? – лепетнул Фаддей («пропал», – быстро подумал он), – по литературе, единственно по литературе. Ни в каких других отношениях с этой личностью не состоял, да и отношения у нас самые, можно сказать, враждебные.
– По литературе так по литературе, – сказал Шульгин, – но в лицо его вы знаете?
Фаддей начал догадываться, в чем дело.
– В лицо знаю.
– Наружность описать можете?
– Могу-с.
– Пишите. – Шульгин придвинул Фаддею перо, чернила и лист бумаги. – Пишите подробные его приметы.
«Кюхельбекер Вильгельм Карлов, коллежский асессор, – писал Фаддей, – росту высокого, сухощав, глаза навыкате, волосы коричневые. – Фаддей задумался, он вспомнил, как говорил сегодня утром у Греча Вильгельм. – Рот при разговорах кривится. – Фаддей посмотрел на пышные бакенбарды Шульгина. – Бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись. – Фаддей вспомнил протяжный голос Вильгельма. – Говорит протяжно, горяч, вспыльчив и нрав имеет необузданный».
Он подал листок Шульгину.
Шульгин посмотрел листок, дочитал до конца внимательно и под конец усмехнулся:
– «Горяч, вспыльчив» – это до примет не относится. А лет ему сколько?
– Около тридцати, – сказал Фаддей, – не больше тридцати. – Он говорил довольно уверенно.
Шульгин записал.
– За правильность сообщенных примет вы головой отвечаете, – сказал он хрипло, выкатив на Фаддея глаза.
Фаддей приложил руку к сердцу.
– Ваше превосходительство, – сказал он почти весело, – не беспокойтесь: по этим приметам вы его в сотне людей различите. Это описание – прямо сказать, литературное произведение.
– Можете идти.
Фаддей приподнялся. Чувствуя прилив какой-то особенной, верноподданнической радости, он спросил, неожиданно для самого себя:
– А скажите, пожалуйста, как здоровье его императорского величества?
Шульгин с удивлением на него поглядел.
– Здоров, – кивнул головой. – Можете идти.
Фаддей вышел и высунул от радости самому себе язык.
«А Хлебопекарь-то, – подумал он потом с каким-то тоже удовольствием, – видно, сбежал, что приметы спрашивают».
IIIИздали доносилось какое-то громыхание, дробное и ровное, как будто пересыпали горох из мешка в мешок, – не спеша возвращалась конница. Вильгельм уходил все дальше от площади. Потом он остановился, поглядел и на минуту задумался. Он повернул назад – заметил, что прошел Екатерининский институт. И позвонил в колокольчик. Привратница отперла калитку и осмотрела с удивлением Вильгельма. Потом она узнала его. Вильгельм прошел к тетке Брейткопф. Грязный, в оборванном фраке, он стоял посреди комнаты, и с него стекала вода. Тетка стояла у стола неподвижно, как монумент, лицо ее было бледнее обыкновенного. Потом она взяла за руку Вильгельма и повела умываться. Вильгельм шел за ней послушно. Когда он снова вошел в столовую, тетка была спокойна. Она поставила перед ним кофе, придвинула сливки и не отрываясь смотрела на него, подперев голову руками. Вильгельм молчал. Он выпил горячий кофе, согрелся и встал спокойный, почти бодрый. Он попрощался с теткой. Тетка сказала тихо:
– Виля, бедный мальчик.
Она прижала Вильгельма к своей величественной груди и заплакала. Потом она проводила его до ворот.
Вильгельм, крадучись, шел по улицам. Улицы молчали. Не доходя Синего моста, он остановился на мгновенье.
Ему показалось, что в окнах Рылеева свет. Вдруг он услышал громыханье сабель, и несколько жандармов прошли мимо.
Вильгельм пошел прямыми, быстрыми шагами, не оглядываясь. Вдали, на площади, горели костры. Он быстро свернул в переулок и поднялся по лестнице к себе.
Семен отворил ему.
– Александра Ивановича нет дома? – спросил Вильгельм.
– Не приходили, – отвечал Семен хрипло.
Вильгельм сел за стол и подумал с минуту. Он рассеянно глядел на свой стол, смотрел в окно. И стол, и окно, и стул, на котором он сидел, были чужие. Его комната была уже не его. Что делать? Сидеть и ждать? Ожидание было хуже всего. Вильгельм почти хотел, чтобы сейчас открылась дверь и вошли жандармы. Только бы поскорей. Так он просидел за столом минут пять, – ему показалось – с час. Не приходили. Тогда он встал из-за стола.
– Семен, – сказал он нерешительно, – сложи вещи.
Семен, ничего не говоря и не глядя на Вильгельма, полез в шкап и начал укладываться.
– Ах, нет, нет, – вдруг быстро сказал Вильгельм. – Какие там вещи. Дай мне две рубашки.
Он взял сверток, посмотрел вокруг, увидел свои рукописи, книги, наткнулся глазами на Семена и кивнул ему рассеянно:
– Прощай, сегодня же уходи с квартиры. Поезжай в Закуп. Денег займешь где-нибудь. Ничего никому не говори.
Он надел старый тулупчик, накинул поверх бекешку и двинулся к двери.
Тут Семен схватил его за руку:
– Куда вы, Вильгельм Карлович, одни поедете? Вместе жили, вместе и поедем.
Вильгельм посмотрел на Семена, потом обнял его, подумал секунду и быстро сказал:
– Ну, собирайся живо. Возьми себе две рубашки.
Они пошли пешком до Синего моста. Вильгельм шел, спрятав лицо в воротник. Он в последний раз посмотрел на дом Российско-Американской торговой компании, потом они взяли извозчика и поехали к Обуховскому мосту.
У Обуховского моста Вильгельм с Семеном слезли. Отвернув лицо, Вильгельм расплатился, и они пошли вперед по тусклой улице.
Недалеко от заставы, в темном переулке, Вильгельм вдруг остановился, сорвал белую пуховую шляпу и провел по лбу.
«Рукописи… Что же с рукописями, с трудами будет? Пропадет все. – Он всплеснул руками. – Не возвратиться ли? Заодно и Сашу повидать – нельзя ведь так просто уйти от всех, от всего».
Семен стоял и ждал; фонарь мерцал на застывшей луже.
«Нет, и это кончено. Прошло, пропало и не вернется. Вперед идти».
– Вильгельм Карлович, – сказал вдруг Семен, – а как же это мы квартиру бросили. Ведь все вещи безо всякого присмотра остались. Разграбят, поди.
– Молчи, – сказал ему Вильгельм. – Голова дороже имения.
Они обошли заставу и вышли на большую дорогу, ведущую к Царскому Селу. Они прошли пять верст. Дорога была тихая, темная. Изредка погромыхивал на телеге запоздалый чухонец и шел опасливый пешеход с палкой, оглядываясь на двух молчаливых людей.
В немецкой деревне они наняли немца, который за пять рублей провез их мимо Царского Села в Рожествино. Проезжая мимо Царского, Вильгельм посмотрел в темноту, стараясь определить место, где стоит Лицей, но в темноте ничего не было видно. Тогда он закрыл глаза и задремал, больше не думая, не чувствуя и не помня ни о чем.