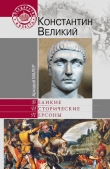Текст книги "Пушкин (часть 3)"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 68 страниц)
Когда Вильгельм входил в собрание, насмешливые взгляды провожали его. Долговязый немец, сгорбленный, с выпуклыми, блуждающими глазами, резкими движениями и быстрой, путаной речью, был загадкою для Николая Николаевича Похвиснева.
Посмеиваясь над Вильгельмом в его отсутствие, Похвиснев вел себя особенно сдержанно и учтиво при встречах и почему-то не смотрел прямо в глаза. Присутствие Грибоедова, натянутого, как струна, всех сдерживало.
Раз в собрании появился высокий полный майор с большими черными усами. Глаза его, огромные и неподвижные, и все лицо, желто-смуглое, как маска, были необычайны. Он вежливо и слегка небрежно поздоровался с Грибоедовым и быстро прошел во внутренние комнаты, где шла игра.
– Кто это? – спросил Вильгельм Александра.
– Якубович, – неохотно ответил Грибоедов.
Так вот он, Якубович, герой воображения Пушкина и его, этот дуэлист безумный, храбрец мрачный!
– Что, «роковой человек»? – криво усмехаясь, проговорил Александр. – Хочешь, расскажу тебе его последний подвиг? Тут у Баксана войско заходило в тыл горцам, пришлось им пройти горную щель, здесь очень узкие горные щели. Поодиночке проходили. Якубович спуститься спустился, а в щели застрял. За ноги пришлось тянуть. Изодрали на нем сюртук, пуговиц почти не осталось. Представляешь картину? – Он с удовольствием засмеялся. – Теперь эту щель дырой Якубовича зовут.
Вильгельм не мог привыкнуть к этой манере Александра. У Вильгельма с детства были герои воображения, он «влюблялся» то в Державина, то в Жуковского, то в Ермолова. И каждый раз, когда приходилось Вильгельму, по модному выражению, «разочаровываться» в герое воображения, это было для него больно и трудно; Александр же, как только замечал, что Вильгельм «влюблен», тотчас обливал его, как холодной водой, насмешкой. Вильгельм слышал иногда, как стонет Александр во сне, он видел по вечерам его сухие, без слез глаза – и прощал ему все, но при каждой насмешке Александра становился грустен. Александр знал, как действуют охлаждающие речи на Вильгельма, но говорить иначе о людях не хотел и не мог. Ему доставляло даже тайное удовольствие слегка мучить беззащитного перед ним друга. Чувства его были неизменны, как всегда, и, как всегда, видимые поступки им противоречили.
В собрание вошел Ермолов с Похвисневым и двумя военными. При Ермолове все подбирались, военные ходили особенно ловко, статские были особенно остроумны. Ермолов был на этот раз не в духе. Он с учтивой улыбкой пожимал руки направо и налево, но улыбка показалась на этот раз Вильгельму почти неприятной и, пожалуй, неестественной. Ермолов быстро прошел в свою комнату. В собрании была небольшая комната с турецкой оттоманкой, широкими креслами и круглым столиком, в которой Ермолов игрывал в карты с молодежью.
Он сел и насупился. Похвиснев, задержавшись на секунду в первой комнате, уже успел шепнуть о каком-то рескрипте, не очень милостивом, который Алексей Петрович получил. И сразу же скользнул за Ермоловым.
– Зови, дружок, Грибоедова, Воейкова, – сказал Ермолов брюзгливо, – и Хлебопекаря пригласи.
– Вы, господа великолепные, – сказал он все с той же сегодняшней неприятной улыбкой, обращаясь к входящим, – не хотите ли со мной поскучать?
Он был слегка тревожен, и шутка не удавалась.
– А вы торжествовать можете, – обратился он к Грибоедову, – рескриптец получил насчет Персии – беречь ее пуще России. Пускай, мне не жалко. Это там Дибич и Паскевич советчики. Посмотрим, куда Россия на двух ваньках уедет.
Каламбур удался, все засмеялись, и Ермолов повеселел. И Паскевича и Дибича звали Иванами.
Грибоедов поморщился. Паскевич приходился ему свойственником, и покровительством его он пользовался, хоть и неохотно.
– А разве вы их, Алексей Петрович, ровнями считаете? – спросил он недовольно.
– Ах, батюшка, – захлопотал Ермолов, – да ведь я с молодости обоняния лишен: для меня что роза, что резеда – все едино. Нет, в самом деле, чего они от меня хотят («они» у Ермолова было и правительство, и царь, и Петербург вообще), – я ничего не прошу, ничего не требую, забрался в глушь, все им предоставил и наград не прошу, только бы меня в покое оставили.
– Вот вы, Николай Павлович, – обернулся он к Воейкову, – мемуары будете писать – так обо мне и запишите: дескать, ничего не хотел, только бы в покое оставили.
Похвиснев раздал карты. Ермолов держал карты, сощуря правый глаз; когда бил карту, щурил его еще больше. Он любил выигрывать.
– А жаль, – вдруг лукаво повернулся он к Грибоедову, – ей-богу, жаль, Александр Сергеевич, что рескриптцы мне пишут. Повоевать бы с Персией, Турцией да Хиву с Индией прихватить – ей же богу, недурно было бы.
Он поддразнивал Грибоедова.
– Алексей Петрович, – сказал Грибоедов, – вы только по недоразумению не Петр Алексеевич, греческий проект его вы хорошо усвоили.
– И недурная, братец, мысль, – сказал почти равнодушно Ермолов, – торговля, торговля восточная нужна нам, без нее зарез. Вы поглядите, сколько англичан в Тифлисе копошится. Не для моих глаз наехали. Персия, Турция, Хива, а там Индия – пойдем, братец, – как полагаете? Надо колеи поглубже нарезать.
– Не жертвуйте нами, ваше превосходительство, ежели вы объявите когда-нибудь войну Персии, – сказал, холодно улыбаясь, Грибоедов.
Ермолов пожал плечами:
– Эх, братец, все равно ничего не будет, не извольте беспокоиться.
– «Они»? – поддразнил Грибоедов.
– «Они», – сказал Ермолов, притопывая ногой, – «они», скучни тягостные. В Тильзите я напротив «него» сидел. Что вы, говорит, Алексей Петрович, такой вид имеете, будто порфиру вам надевать? Так, отвечаю, и должно бы быть. Гляжу – побледнел, и сразу закончил: при всяком другом государе.
Он любил при молодежи эти шутки. Царь, который боялся его и ненавидел, был обычным их предметом.
Воейков, пристально глядя на Ермолова, сказал:
– Государство восточное – величайшая идея, вся Азия тогда с нами. Но воображаете ли вы, Алексей Петрович, «коллежского асессора по части иностранных дел» в порфире царя восточного?
«Коллежским асессором» называл Пушкин царя. Это словцо ходило по всей России.
– Отчего же? – сказал Ермолов и прищурился. – Из порфиры можно мундир сшить. А вы, Вильгельм Карлович, – переменил он вдруг разговор, обратясь к Кюхельбекеру, – что же невеселы?
Вильгельм сказал глухим голосом:
– Человечество устало от войн, Алексей Петрович.
– Вот тебе на, – сказал Ермолов и развел руками, – а сам меня в Грецию звал.
– То Греция, то другое дело. Война за освобождение Эллады не то, что война за приобретение выгод торговых.
Ермолов нахмурился.
– А я вам говорю, – жестко сказал он, – что за Грецию воевать только для того бы стоило, чтоб Турцию к рукам прибрать. Что греки? Греки торгуют губками. И Эллады особой нигде не вижу. Эллада – рифма хорошая, Вильгельм Карлович: Эллада – лада. А может, и – не надо.
Вильгельм вскочил:
– Вы шутите, Алексей Петрович. Но грекам, бьющимся за освобождение, сейчас не до шуток.
Ермолов улыбнулся:
– Горячи вы, Вильгельм Карлович. Каждый делает, что может. Я вот, например, смеяться могу и смеюся, а то бы, верно, плакал.
Все замолчали, и бостон начался.
Вильгельм и Александр шли домой молча.
– Не люблю я этих особ тризвездных, – сказал Александр. – Захотелось ему пойти войной на Персию – изволь расплачиваться.
Вильгельм шел понуро. Он думал о своем.
«Греция» не удавалась.
Их догнал Воейков, он был взволнован.
– Я вас провожу немного, – сказал он и заговорил тихо и как будто смущаясь: – У вас, Вильгельм Карлович, проект насчет Греции. У меня тоже есть один проект. Вот Алексей Петрович говорит насчет Хивы, Бухары, Индии. Не кажется ли вам эта мысль великою?
– Нет, – резко ответил Грибоедов, – должно соблюдать границы государственные. Нельзя воевать вечно.
– Восток, великое государство восточное, – говорил тихо Воейков, и чахоточное лицо его было бледно, – это мысль Александра Великого. Разумеется, не нашего Александра, не Первого. Я вам довериться могу, – добавил он волнуясь, – нужно восточное государство под властью Алексея Петровича.
Грибоедов остановился пораженный.
– Династия Ермоловых?
– Династия Ермоловых, – выдержал его взгляд Воейков.
Они прошли несколько шагов молча. Потом Грибоедов сказал спокойно:
– А как же с наследником будет? Нужно Алексея Петровича женить спешно.
VВильгельм больше не ходил к Ермолову. Ему стала неприятна его улыбка, он боялся услышать глуховатое и приятное «братец». Дел было мало, и друзья много гуляли и катались. Вильгельм свел дружбу с Листом. Когда серый капитан смотрел на него умными глазами, Вильгельм вспоминал туманно отца, тоже высокого немца в сером сюртуке, строгого и грустного. Капитан жил за городом, и Вильгельм часто скакал к нему на горячем жеребце, которого обязательно ему достал услужливый Похвиснев. Похвиснев последнее время непрестанно терся около Вильгельма, искал его общества, услуживал ему. Это стало казаться подозрительным Грибоедову. Он предупреждал Вильгельма:
– Милый, не водись ты с этим пикуло-человекуло. Он тебя при случае задешево продаст.
Но Вильгельм, мнительный во всем, что касалось насмешек, был к людям доверчив. А впрочем, дело, по-видимому, объяснялось тем, что Похвиснев и вообще любил услужить. Александр подумал и бросил предупреждать Вильгельма. Он тоже ездил с Вильгельмом к Листу. Там были хорошие, уединенные места. На Куре, версты три-четыре вниз по течению, был островок, на островке сад, огромный, запутанный, с лабиринтами виноградных аллей. Сад принадлежал старому пьянице Джафару. Джафар встречал их с большим достоинством. С утра он был трезв и важен, как владетельный принц. Рылся в саду, где работали его сыновья, но больше для виду. Грибоедова он уважал потому, что Грибоедов знал арабский язык, Листа за то, что тот был военный, а на Вильгельма обращал мало внимания. Когда приятели появлялись, Джафар широким жестом приглашал их к каштану.
Под каштаном, огромным, вековым, было прохладно, водопровод журчал вблизи однообразно.
Вот он, истинный край забвенья.
Здесь Лист забывал о своей невеселой солдатской жизни, о старухе матери, которая жила на Васильевском острове в Петербурге; пыхтя неизменной трубкой, он рассказывал друзьям о походах. Он вспоминал, как отбивался от десяти человек Койхосро-Гуриел, как отрубил ему офицер правую руку и как убил себя старик левой рукой. Вильгельм слушал его невеселые рассказы с содроганием. Капитан рассказал раз, как Ермолов образумил немецких сектаторов. Сектаторы жили в Вюртемберге. Они верили, что второе пришествие приближается, что Бог придет через Грузию, из Турции или из Персии. Их выселили в Россию и поселили на Кавказе. Тогда Ермолов предложил им выбрать доверенных, отправить в Персию и Турцию и удостовериться, началось ли там пришествие. Через месяц депутаты вернулись, измученные, ободранные, голодные. С тех пор в немецкой колонии в пришествие больше не верили.
Капитан сидел с друзьями мало, у него была хлопотливая служба. Раз Грибоедов сказал Вильгельму, сидя под старым каштаном:
– Не могу я так дольше жить, я в обыкновенные времена, милый, совсем не гожусь. Знаешь, Ермолов говорит, что я на Державина похож – во всем, в стихе и в жизни. Это у него комплимент лукавый. Он Державина считал самым беспокойным и негодным человеком во всей России. Люди мелки, дела их глупы, душа черства.
В это утро Грибоедов был тревожен, раздражителен, о чем-то думал.
– Чувствую, – ответил Вильгельм, – что и мне здесь не усидеть. У меня есть один признак, он никогда меня не обманывал: тоскую по родным. Как ты думаешь, Александр, – зашептал он, тревожно глядя на Грибоедова, – а нельзя ли отсюда бежать в Грецию? Милый, помнишь Пушкина: «Жаждой гибели горел». Как Пушкин это понимает.
Грибоедов повторил глухо:
– Жаждой гибели. А время летит, в душе горит пламя, в голове рождаются мысли, и между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Что за проклятие над нами, Вильгельм? Словно надо мной тяготеет пророчество: и будет тебе всякое место в предвижение.
– Едем домой, – заговорил Вильгельм, – едем на север, здесь от бездействия погибнем. Не все же шататься по большим дорогам.
– Хочешь – скажу, отчего гибну, – не слушал его Грибоедов. – Милый, я гибну от скуки. Толстобрюх Шаховской мне раз сказал: «Голубчик, все, что пишешь, превосходно, но скука движет твоим пером». Как скучно! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали и что могли бы сделать?
Вильгельм вскочил, заходил взад и вперед. Вдруг он остановился перед Грибоедовым. Слезы стояли у него на глазах.
– Я готов на преступление, на порок, но только не на бессмысленную жизнь. Куда бежать?
Грибоедов тоже поднялся с травы.
– Бежать некуда. Край забвенья – и то хорошо. Проживем как-нибудь. Не в Москву же ехать, на вечера танцевальные, не в журналы же идти, в сплетни и дурачества литературные. – Он усмехнулся. – У меня дядюшка на Москве спит и видит, когда уж я статским советником стану.
VIОднажды Вильгельм и Александр услышали на улице необычайный шум. Они выглянули в окно. Люди бежали к крепости. Хозяйский мальчик, полуголый, отчаянно выворачивая пятки, бежал что есть духу.
Грибоедов спросил:
– Что такое случилось?
– Джамбот, – крикнул ему пробегавший армянин.
– Джамбот приехал, – оскалил зубы другой.
Грибоедов молча и серьезно стал застегиваться.
– Пойдем поскорее, – сказал он Вильгельму, – будет серьезное дело.
Кучук Джанхотов был самый богатый владелец – от Чечни до Абахезов его имя гремело. Старый Кучук был большой дипломат, он вовсе не хотел рисковать скотом и пастбищами. Поэтому он был в дружбе с Ермоловым. Его ясыри, когда им встречался отряд чеченов, с понурыми головами переносили насмешки. Кучук отлично помнил, как Ермолов преспокойно угнал пятнадцать тысяч голов скота из соседнего аула за то, что тот пропустил закубанцев. Поэтому он и сына своего Джамбулата всячески старался приблизить к Ермолову. Джамбулат, или, как все черкесы его звали, Джамбот, был его единственным наследником. Но Джамбот был из другого теста. Он, правда, был у Ермолова в персидском его посольстве, но повел себя с персами так таинственно, у них завязались какие-то такие переговоры, что Ермолов его из Персии должен был выслать. И когда закубанцы снова вторглись, – Джамбот оказался одним из их главарей. Это была большая неприятность. Он был знаменит по всей Чечне, по всей Абхазии. На скаку он попадал в орла и шашкой срубал голову молодому быку. Слава Джамбота росла. Все кабардинские девушки знали песню о нем, и сам Ермолов имел удовольствие в последний свой проезд слышать, как одна стройная девушка в сакле пела песню, каждое второе слово которой было «Джамбот». С тех пор как закубанцы были разбиты, Джамбот жил у отца.
Ермолов уже с неделю послал Кучуку очень ласковое письмо, в котором просил самого Кучука с Джамботом, сыном его, приехать к нему для переговоров об одном чрезвычайно важном деле, причем обещал мир Кучуку. Посмотреть на молодого Джанхотова хотелось всем – поэтому и бежали.
Друзья поспели как раз в тот момент, когда Кучук с сыном въезжали в крепость. У крепостных ворот стояла толпа, которую в крепость не пропускали. Кучук и Джамбот ехали медленно. На старике была огромная белая чалма – он был в Мекке и Медине; другие, не столь знатные владельцы ехали поодаль, простые уздени впереди. Джамбот ехал рядом с отцом. Одет он был великолепно: цветная тишла покрывала его панцирь, сбоку – кинжал и шашка, седло богатое, за спиною был колчан со стрелами.
Вильгельм жадно смотрел на него. Лицо Джамбота было длинное, узкое, почти девичье, глаза живые, коричневые. Он ехал легко и лениво.
Перед воротами они спешились и отдали коней узденям. Вильгельм и Грибоедов протеснились во двор. Ермолов стоял у крыльца со свитой. Лицо его было насуплено, он несколько понурил слоновью шею и опирался одной рукой на шашку. Перед ним стоял толмач, робкий человек в меховой шапке. Направо выстроилась рота крепостных солдат. Завидев Кучука и Джамбота, Ермолов сделал шаг вперед и остановился.
Кучук низко ему поклонился, приложив руку ко лбу, губам, груди. Ермолов наклонил голову. Начались приветствия. Толмач переводил старательно. Потом Кучук отошел в сторону. Место его занял Джамбот. Походка его тоже была гибкая, как у девушки, он чуть поклонился Ермолову и произнес обычное приветствие.
Ермолов стоял неподвижно.
– Скажи ему, – сказал он толмачу, – мне приятно видеть сына моего друга, Кучука Джанхотова, но мне приятнее было бы его видеть у себя два месяца назад, когда он был у закубанцев.
Толмач перевел. Джамбот что-то сказал, легко и быстро, как все, что он делал.
– Он говорит, – сказал толмач, – что надеется на дружелюбие генерала.
Ермолов насупился.
– Очень рад раскаянью, – сказал он глуховатым голосом, – но за старое должен расчесться. Пусть отдаст кинжал и шашку.
Толмач задрожал мелкой дрожью и еле слышно сказал что-то.
Джамбот сделал полшага вперед. Шея его вытянулась, тело подалось вперед. Лицо медленно и густо начало краснеть.
Грибоедов, разговаривавший с Кучуком, ловко повернулся и спиною заслонил от него и Ермолова и Джамбота. Старик говорил медленно и важно, почти спокойно, но глаза его, смотрящие на Грибоедова, были полузакрыты, а лицо побледнело.
Вильгельм протиснулся и стал рядом со свитой. Неподалеку стоял Якубович, неподвижный, как статуя, поблескивая черными глазами.
Джамбот сделал одно резкое, короткое движение: он схватился за рукоять кинжала. Рядом с Вильгельмом стоял Воейков. Он выхватил пистолет и взвел курок. В тот же миг двое-трое из свиты обнажили сабли. Ермолов вскинул на них глаза и остановил их движением руки. Он стоял тяжело, неподвижно опираясь на длинную шашку правой рукой.
Джамбот змеиным движением тянулся к нему. Лицо его было изжелта-бледно, белые зубы оскалились. Узкими коричневыми глазами он тянулся к холодным серым глазкам Ермолова.
Потом вдруг одним движением он задвинул кинжал и крикнул какое-то слово. Голос был пронзительный и сдавленный. И, вытянув худую руку по направлению к кавказским предгорьям, он стал кричать в лицо Ермолову.
– Переведи, – сказал Ермолов бледному толмачу.
Толмач замялся.
– Переводи! – рявкнул Ермолов, и ноздри его раздулись. – Все переводи.
– Он называет ваше превосходительство, – бормотал толмач, – шакалом и трусом, он говорит о подлости вашего превосходительства.
Джамбот кричал.
Кучук машинально схватил за руку Грибоедова, слушал, и голова его тряслась.
– Взгляни, – кричал Джамбот, – на горы, вспомни, что это те самые места, на которых в прах растерли наши предки Надир-шаха. А Надир-шах – это не ты, шакал, это не ты, собака!
Толмач переводил, запинаясь.
– Это не русская погань, трусы, поджигатели! – кричал Джамбот. – Кто трусливее, тот начальник у вас, кто подлее – паша. Самый большой трус и самый подлый человек – ваш слабосильный повелитель. Мы вас столкнем с гор, как засохшую грязь.
Толмач замялся.
– Переводи.
Он перевел кое-как, бормоча, пропуская слова.
Ермолов молчал, насупясь. Вдруг он кивнул ротному командиру. Тот отделился от роты и вытянулся во фронт.
– За оскорбление публичное верховной власти, – сказал Ермолов, – застрелить.
Пять солдат со штыками вперед двинулись на Джамбота.
Легкий вздох пронесся над свитой. У ворот кто-то закричал пронзительно. Вильгельм взвизгнул. На миг перед ним промелькнуло неподвижное лицо Якубовича с остановившимися глазами. Он бросился между Джамботом и солдатами. Он поднял руку вверх и что-то закричал не своим, чужим голосом.
Тогда Ермолов, вдруг ощетинясь, шагнул к нему, схватил его за руку и просипел в лицо:
– Вы с ума сошли. Прочь отсюда.
Он обхватил огромной ладонью руку Вильгельма и быстро повлек за собой на крыльцо. За ним двинулись Воейков, Похвиснев. Ермолов закрыл за собой дверь, толкнул Вильгельма на диван, быстро и ловко налил воды и поднес ко рту. Зубы у Вильгельма стучали, глаза, дико вылупленные, озирались. Ермолов сказал, отчеканивая слова и глядя в упор на Похвиснева и Воейкова:
– Господин Кюхельбекер подвержен нервическим припадкам.
Во дворе раздался залп.
Вильгельм, отстранив Ермолова, выскочил. Грибоедов, белый как мел, с трясущейся челюстью, обнимал старика. Старик был почти спокоен. Голова его свесилась на грудь, он что-то шептал беззвучно, может быть молился.
В углу двора копошились солдаты. Перед крепостью не было ни одного человека.
Ночью Грибоедова разбудил странный, лающий звук. Вильгельм рыдал, лая и всхлипывая, вцепившись в железо кровати.