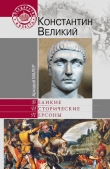Текст книги "Пушкин (часть 3)"
Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 68 страниц)
Ермолов ничего никому не доложил о поведении Вильгельма. Только кланялся ему быстрее да улыбался принужденнее. Зато Похвиснев стал к Вильгельму особенно внимателен. Он был услужлив без меры. Он показал Вильгельму отличные места для прогулок. Пустынные, молчаливые, неприступные. Эх, когда жизнь не дается, – пустить коня и лететь во весь опор, предавая буре дух, – какая радость!
Лист однажды сказал Вильгельму:
– Не катались бы вы по этой дороге, Вильгельм Карлович.
– Отчего?
– Чечен подстрелит.
– У меня пистолеты.
Лист покачал головой.
Выезжая однажды, Вильгельм встретил Якубовича. С Якубовичем, к большому неудовольствию Грибоедова, Вильгельм в последнее время часто встречался. Якубович приехал из Карагача в командировку и отчего-то в Тифлисе задержался. Он тоже частенько катался и, мрачный, громадный, на своем черном карабахском жеребце, напоминал Вильгельму какой-то монумент, виденный им в Париже. Якубович внимательно посмотрел на Вильгельма и сказал отрывисто:
– Провожу вас, вы куда?
– Сам не знаю.
– Джигитуете?
Они пустили лошадей рысью. У ног горная дорога обрывалась, внизу была долина.
– Я вас в крепости наблюдал, – сказал медленно Якубович. – О вас ходят разные слухи. Я люблю людей, о которых ходят слухи. Но вы не правы. Война и казнь – еще не худшее.
Вильгельм вскинул на него глаза.
– Что вы хотите сказать, Александр Иванович?
– Война в нашем обществе – это отдых. Можно ни о чем не думать.
Он покрутил черные усы.
– Я в России жить не могу, – сказал он и нахмурил густые брови. – Я только на губительной войне оживаю. Свист свинца один заставляет забывать притеснения. Вот почему я рад, что меня на Кавказ сослали. Не все ли равно мне, где пуля поразит мою грудь?
– Вы озлоблены, Александр Иванович, – робко сказал Вильгельм.
Якубович круто повернулся в седле.
– Я озлоблен? – сказал он и сверкнул глазами. – Не озлоблен, а задыхаюсь от жажды мщения. Я приказ о разжаловании всегда с собой ношу.
Он вынул из бокового кармана потрепанную бумагу и потряс ею в воздухе.
– Если бы царь знал, что он себе готовит этою бумагою, он бы меня из гвардии сюда майором не перевел. Вильгельм Карлович, – сказал он, меняя разговор, но все с тем же выражением лица, – я решаюсь открыть тайну.
Вильгельм весь обратился во внимание.
– Я пишу одну записку, имеющую некоторую цель. Единственный человек, которому можно бы показать ее и который бы ее понял, – мой враг. Вы знаете, о ком я говорю.
Вильгельм кивнул головой. (Якубович говорил о Грибоедове.)
– О ней знает только Воейков, – продолжал таинственно Якубович. – Я пишу о притеснениях крестьянства, разврате чиновников, невежестве офицеров и высочайше предписываемом убиении моральном солдат.
Черные глаза Якубовича налились кровью, крупные ноздри раздулись. Он вдруг пустил коня вскачь, некоторое время ехали молча.
– Александр Иванович, – заговорил Вильгельм, – я сам долго об этом думал, я каждую слезу простонародную замечаю, но я выхода никакого не могу сыскать.
Они проезжали по крутому обрыву. Якубович остановил коня.
– Мне надо возвращаться, Вильгельм Карлович, – медленно сказал он. – Вы хотите знать выход? – Ноздри его опять раздулись. – Надобно лечить с головы. Джамбот давеча правду сказал о слабосильном повелителе. Первый выход, мною открытый, – полное уничтожение императорской фамилии. Прощайте.
Он повернул коня и ускакал рысью.
Вильгельм долго смотрел ему вслед. Потом, как будто его кто-нибудь подстегнул, он дал шпоры коню и понесся вперед, не смотря, не думая, ловя открытым ртом ветер.
Он скакал долго. Уже темнело. Конь вдруг запнулся и шарахнулся. Вильгельм огляделся. Перед ним были незнакомые места. У обрыва шли пески. За кустом мелькнуло дуло винтовки, и над головой его просвистела пуля.
Потом раздался хриплый голос, на дорогу выскочил человек в высокой шапке и прицелился в Вильгельма. Вильгельм вытащил пистолет из-за пояса.
VIIIГрибоедов сидел на балконе, дверь в комнату оставалась открытой. Сумерки опускались. Перед его глазами меркли предгорья – балкон выходил на север. Он сидел без очков, взгляд у него был растерянный, потом он обернулся и посмотрел в глубь темной комнаты. В глубине комнаты возился слуга со свечами. Медленно и лениво он устанавливал их в шандалы, чиркал огнивом, зажигал и шаркал туфлями. Меньше всего он интересовался самим Грибоедовым. Он напевал потихоньку:
Да какова, братья, неволя,
Да и кто знает про нее.
Грибоедов смотрел на него в упор. Александр Грибов был его молочный брат. Пятнадцать лет человек этот жил с ним, пятнадцать лет они не замечали друг друга. Но они знали друг друга безошибочно. Александр Грибоедов знал, например, что если Александр Грибов напевает про неволю, то это значит, что он сейчас прифрантится и уйдет на вечеринку куда-нибудь в Саллалаки. Но он, верно, удивился бы, если бы ему сказали, что Александр Грибов знает, что сейчас сделает Александр Грибоедов. Грибоедов сегодня не ездил верхом, не играл на фортепиано, не говорил ни слова. Это значило, что он сейчас спросит склянку чернил, бумаги и скажет поострее очинить перо. Грибов прифрантился, подошел к фортепиано, открыл его и сел на табурет. Потом он стал тихонько наигрывать. Александр Грибоедов смотрел на Александра Грибова. Он был немного удивлен.
– Ты что, играешь на фортепиано? – спросил он недовольно.
– Играю, – отвечал равнодушно Грибов.
Грибоедов подошел к нему. Грибов привстал.
– Что ж ты играешь?
– Разное играю, – неохотно отвечал Грибов. – Барыню играю.
– А ну, сыграй.
Грибов со скучным лицом сел на табурет и начал подбирать.
Барыня-сударыня,
Протяните ножку.
Грибоедов внимательно слушал.
– Ничего не понимаешь, – вдруг сморщился он, – франт ты. Играть не умеешь, только мой фортепиано портишь. Играй лучше в бабки. Пош-шел. Так надо играть.
Он сел и сыграл.
Грибов был недоволен.
– По-вашему так, – сказал он уклончиво.
– Ах ты, франт, – сказал Грибоедов, глядя на него удивленно, – а по-твоему как?
Грибов ничего не отвечал.
Грибоедов заходил по комнате. Тоска гнала его из угла в угол, поворачивала вокруг стола, та самая знакомая, которая гнала его из Петербурга в Грузию, из Грузии в Персию, заставляла стравливать людей на дуэли и говорить грубости женщинам.
– А где Вильгельм Карлович? – спросил он Грибова.
– Кататься уехали.
– Что так поздно? Куда – не знаешь?
– Не сказывали.
Грибоедов встревожился.
– Сказали – не беспокоиться. Сегодня позднее приедут.
Грибоедов сел за стол и начал писать записку Воейкову:
«Я умираю от ипохондрии, предвижу, что ночь всю проведу в волнении беспокойного ума, сделайте одолжение, любезный Николай Павлович, пришлите мне полное число номеров прошлогоднего Вестника, хоть и нынешнюю последнюю тетрадь, авось ли дочитаюсь до чего-нибудь приятного.
Ваш усердный Грибоедов.
Коли эта записка не застанет вас дома, то, когда назад придете, пришлите со своим человеком».
– Снеси к Воейкову, – протянул он Грибову.
Прошло еще полчаса. Было уже совсем темно. Напротив по улице скользящим шагом прошел Похвиснев. Грибоедов узнал его по походке. Он вдруг встревожился не на шутку.
– Куда Вильгельм запропастился?
Он выбежал, оседлал коня и поскакал.
IXКогда человек прицелился, Вильгельм быстро в него выстрелил и дал шпоры коню. На скаку, пригибаясь к луке, он обернулся. Человек гнался за ним. Он, не целясь, выстрелил снова.
– Черт, промах.
И тотчас прожужжала пуля у самого уха. Конь прянул. Вильгельм несся над обрывом, над бездной, по прямой нитке дороги, крепко сжимая повод. Сзади бежал необыкновенно легко и быстро человек. Опять пуля. Конь вдруг заржал, дрогнул, захрипел и, пошатнувшись, рухнул. Вильгельм не успел вытащить ногу из стремени, нога запуталась. Падая, он сильно ушибся.
Так он пролежал с минуту, корчась от боли, стараясь высвободить ногу из-под коня.
Через две минуты человек в высокой шапке будет здесь. Вильгельм рванулся изо всех сил и выволок ногу из-под коня. Он попробовал встать, застонал и пополз, как длинная ящерица, неожиданно и быстро, волоча больную ногу и мерно, как будто нарочно, стоная.
Имеет ли смысл ползти дальше?
Он все равно не уйдет.
Шагов еще, однако, не было слышно. Вильгельм посмотрел вперед. Шагах в пяти от него был огромный дуб. Он вырос на самом склоне дороги, нижние ветки его были в уровень с обрывом.
Секунда – и Вильгельм решился. Он быстро подполз к дереву. Дуб был точно такой, как в царскосельском саду. Вильгельм прекрасно лазал по деревьям. Корчась от боли, он повис на ветке.
Он почти терял сознание, но сжимал ветку крепко, как прежде повода. Усилие – вторая ветка, еще усилие – третья.
Дальше было дупло, огромное, в человеческий рост.
Вильгельм не смотрел вниз, внизу была бездна. Он сделал движение ногой, закричал от боли и упал в дупло.
Сразу пахнуло прохладной гнилью.
На секунду стало темно, как в холодной и темной реке, волна кружила его, водоворот засасывал ногу.
Он открыл глаза. Дупло, темное, сухое, прохладное, над головой поет комар. Легкий звон сверху, и мимо Вильгельма пролетела ветка.
Вильгельм выглянул.
Внизу стоял чечен и стрелял в дуб. Он его заметил. Он хотел снять его с дуба спокойно и безопасно, как птицу.
Вильгельм ощупал пояс, за поясом был один пистолет.
Он прицелился.
Рука его дрожала.
Выстрел – промах, еще один выстрел – снова промах. Надо стрелять медленно. Вильгельм почувствовал тоску.
Сидеть в дупле и ждать смерти!
Он еще раз прицелился и снова выстрелил. Чечен закричал, схватился за ногу и быстро приложился. Вильгельм нагнул голову. Пуля вонзилась в дупло над самой его головой. У него оставался один заряд.
XГрибоедов скакал долго. Никого не было. Он подумал, повернул коня и поскакал по самой опасной дороге, вдоль обрыва. Было уже очень темно.
«Убежал, убежал, отчаянная голова, – почти плакал он. – Хочет в Грецию попасть – попадет в плен, насидится в подвале. Эх, Вильгельм, донкихот, франт ты милый…»
Конь захрапел и шарахнулся. Поперек дороги лежал труп коня. Грибоедову вдруг стало страшно. Машинально он повернул коня и поскакал назад. Потом его желтое лицо порозовело. Он со злостью дернул поводья и снова поскакал вперед. Доехал до павшей лошади, спешился и подошел к ней. Похвисневский жеребец. Стало быть, Вильгельм… где же Вильгельм? Он дошел до обрыва и посмотрел вниз – убит, сброшен в пропасть? Он растерянно смотрел в темноту, ничего не было видно. Над самой его головой раздался стон.
– Это еще что такое? Кто здесь? – закричал Грибоедов, и опять ему стало страшно.
Кто-то опять застонал. Стон шел с дерева. Грибоедов взвел курок и подошел к дубу.
– Кто здесь? – закричал он.
– Будьте добры, помогите мне выйти из дупла, – сказал голос.
– Что за чертовщина, – сказал Грибоедов. – Это ты, Вильгельм?
– Александр, – обрадовался в дупле голос.
Грибоедов вдруг начал хохотать. Он никак не мог сдержать смеха.
– Что же ты в дупло забрался, милый?
В дупле тоже раздался смешок, очень слабый.
– Я отстреливался.
Потом, немного погодя:
– У меня, кажется, нога сломана.
Грибоедов стал серьезен. Он полез по веткам и стал спиною к дуплу.
– Садись ко мне на крюкиши.
Он выволок Вильгельма. Тут он заметил, как тот бледен и слаб. Он усадил его на коня.
– А кто же в тебя стрелял? Где он?
Вильгельм показал на пропасть.
XIПришлось пролежать недели три в постели. Александр ухаживал за ним нежно. Был у него раза два Ермолов, но сидел мало и хмурился. Шутки не удавались, и Вильгельм как-то сразу ощутил, что Ермолов перестал быть героем его воображения.
Раз Грибов доложил:
– Николай Николаевич Похвиснев.
Грибоедов спокойно повернул голову и сказал, не вставая:
– Вильгельм Карлович принять господина Похвиснева сейчас не может.
Все три недели Александр был сумрачен, по вечерам куда-то уезжал и возвращался поздно. Вильгельм так и не узнал, куда он ездил. Грибоедов не мог простить себе страха, который он испытал тогда, ночью, разыскивая Вильгельма. Он ездил каждый день по той же дороге и подолгу простаивал у дуба, ожидая нападения.
Когда Вильгельм поправился, жизнь пошла старая: сад Джафара, беседы с Листом, собрание.
Раз, входя в собрание, он в сенях вспомнил, что забыл дома книжку, которую обещал Воейкову. В передней комнате разговаривали и смеялись.
– Нет, воображаю себе этого Хлебопекаря в дупле, – говорил чей-то прыгающий от смеха голос.
Вильгельм покраснел и прислушался.
– О нет, вы его не знаете, – говорил другой, – Вильгельм узнал голос Похвиснева. – Поверьте, наш Хлебопекарь знает, что делает. Он своей простотой в доверие кому надо очень ловко влезает.
– Ну? – спросили недоверчиво.
– Конечно, – тянул чем-то обиженный Похвиснев, – как он к Алексею Петровичу втерся. Я даже выговор на днях получил, после дупла этого, – «что вы, говорит, его подстрекаете в такие места ездить». А по секрету вам скажу… – Голос перешел в шепот, Вильгельм его не дослушал.
Он закрыл глаза и прислонился к стене. Дверь отворилась, и в сени вышел Похвиснев. Тогда Вильгельм шагнул к нему и, не глядя, ударил по лицу. Похвиснев беззвучно схватился за щеку и выбежал вон. Вильгельм пошел домой.
Грибоедов был дома. Увидя Вильгельма, он быстро спросил:
– Что с тобой?
Вильгельм помолчал.
Потом он ударил себя в грудь и затрясся.
– Этот подлец говорил, что я простотою в доверие к Ермолову втираюсь. Не откажись быть секундантом.
Александр с интересом откинулся в креслах. Лицо его приняло важное выражение. Он заставил Вильгельма рассказать все.
– Милый, – сказал он внушительно, – Похвиснев с тобой драться не будет. Ты его один на один оскорбил. Он за сатисфакцией не погонится. Ему жизнь дороже…
– Неужели он так низок, что откажется? – вылупил глаза Вильгельм.
– Без сомнения, я этого франта до тонкости знаю. Он на картель не пойдет. Он нажалуется Алексей Петровичу на тебя, тот вас обоих позовет, разыграет комедию – тем дело и кончится.
– Ну, нет, – сказал Вильгельм и вдруг стал страшен. Пена выступила у него на губах. – Он у меня не отыграется. Я ему снова пощечину дам.
– Только публичную, – сказал деловито Грибоедов.
Вильгельм ждал два дня. Вызова не было. Ермолов, по-видимому, тоже ничего не знал. Через два дня он пошел в собрание. Александр ему сказал, что Похвиснев будет сегодня там. Когда он вошел, в собрании шла обычная игра. Дым висел в комнате. Лист стоял у окна одиноко; серый артиллерист не играл в карты. Похвиснев сидел у ломберного столика с Воейковым и двумя офицерами. Увидя Вильгельма, он побледнел и передернул плечами. Вильгельм прямыми шагами подошел к нему.
– Милостивый государь, я прошу у вас объяснения, – сказал он звонким голосом и задохнулся.
Похвиснев привстал, глаза его забегали. Он был бледен и не смотрел на Вильгельма.
В комнате стало тихо.
– Я прошу вас, – сказал Вильгельм неестественно тонко, – повторить при всех то, что вы изволили говорить обо мне два дня тому назад в собрании.
– Я ничего не говорил, – пробормотал Похвиснев, отступая.
– Так я вам припомню, – закричал Вильгельм, – а те, при ком это было сказано, верно, не откажутся подтвердить. Вы сказали, что я своей простотой в доверие к Алексею Петровичу влезаю.
Их обступили.
Тогда Вильгельм ударил наотмашь Похвиснева.
– Вот вам мой ответ.
И ударил его еще раз.
Их растащили. Похвиснев стучал зубами и кричал:
– Дурраак…
Потом он заплакал и засмеялся. Вильгельм стоял, тяжело переводя дыхание. Его глаза были красны и блуждали.
Грибоедов, спокойный и деловитый, подошел к Листу:
– Василий Францевич, вы не откажетесь, конечно, быть секундантом у Вильгельма Карловича.
Лист грустно поклонился.
XIIПохвиснев стоял со своим обычным докладом у стола.
Ермолов был не в духе. Он крепко сжимал в зубах чубук и пыхтел.
Он едва просмотрел два дела.
Потом искоса взглянул на Похвиснева:
– У вас больше ничего нет ко мне, Николай Николаевич?
Похвиснев замялся:
– Я бы хотел вам жалобу принести, Алексей Петрович.
– На кого? – невинным голосом спросил Ермолов.
– На господина Кюхельбекера, – осмелел Похвиснев. – Он меня тяжело оскорбил, Алексей Петрович, безо всяких с моей стороны поводов.
– Как же это он вас оскорбил, Николай Николаевич? – удивился Ермолов. – Какую же причину он изъявил?
Похвиснев пожал плечами:
– Вы сами знаете, Алексей Петрович, его нрав необузданный. Он причиной изъявил, будто я о нем отозвался, что он простотою в доверие входит.
– А? – важно спросил Ермолов. – Ну, и что же? Но вы ведь этого никому не говорили?
Похвиснев переминался с ноги на ногу.
– А где же произошло оскорбление? – с интересом осведомился Ермолов.
– В собрании, давеча, – неохотно отвечал Похвиснев.
– Черт знает что такое! – вдруг рассердился Ермолов и насупил брови. – Я этого дела так не оставлю. – Он был действительно сердит. – Так, – продолжал он веско, обращаясь к Похвисневу. – Ну, и что же вы, Николай Николаевич, желаете предпринять?
Похвиснев криво усмехнулся:
– Сперва, Алексей Петрович, я хотел непременно драться; но после рассудил, что как господин Кюхельбекер подвержен припадкам, что и вам, Алексей Петрович, известно, и за человека здорового почесться не может, то, может быть, дело это лучше на рассмотрение суда представить.
Ермолов равнодушно кивал головою.
– Хорошо, подите, друг мой, – сказал он без всякого выражения.
Когда Похвиснев ушел, Ермолов встал и прошелся по комнате. Потом сел, затянулся из чубука, пыхнул дымом и улыбнулся невесело. Он сел за стол и начал писать письмо:
«Великолепный господин Николай Николаевич!
Забыл совсем по делу вам, дружок, напомнить, что отношения, к нам чинимые гражданскими частями, особою нумерациею должны быть обозначены как входящие. Писаря, канальи, путают бесперечь, что сильно отчетность затрудняет. Вот и все дело, простите меня, что беспокою. Насчет же тяжелого оскорбления, учиненного вам г. Кюхельбекером, полагаю, что для сатисфакции гражданской части мало будет, а непременно подраться вам придется. Прощайте.
Ермолов».
Он позвонил. Вошел случайный писарь: дежурный отлучился. Ермолов велел ему снести письмо к Похвисневу. На писаря он смотрел внимательно.
– М-да, – проворчал он, когда остался один, – не токмо аудиторы, но даже писаря мечтают, что они особенно сотворенные существа.
XIIIЗавтра дуэль. Может быть, блеснет завтра неверный свет дня – и он будет уже в могиле. Ну, что же, холодная Лета – приходит пора и для нее. Промелькнуло лицо матери, Устиньки – Вильгельм закрыл лицо руками. Они перенесут. Он мысленно поцеловал сухую руку матери. Он вспомнил Дуню и вздрогнул. Да, пусть этот случайный негодяй его убьет – все сразу разрешится, незачем будет возиться с самим собой и с ребяческим сердцем, которое задает загадки.
Он начал писать письма. Одно коротенькое, немецкое – матери. Другое – Пушкину.
Второй Александр здесь, он все, что нужно, сообщит, вот и все расчеты бедные покончены. Так вот куда жизнь шла. Вдруг он вспомнил дядю Флёри. – Греция? Или… или Петербург? Но что в Петербурге, кроме насмешек, тоски, покровительства Александра Ивановича, воркотни Егора Антоновича?
Он прислушался. В соседней комнате звук за звуком, сначала неуверенно, потом увереннее, раздался вальс. Раньше его Вильгельм не слыхал. Это Александр сочиняет.
Вдруг он понял: если завтра он останется жив, – он должен сгореть все равно где, – но без остатка, сейчас же, скорей. Он должен погибнуть, но так, чтобы жизнь стала после в тот же день другая, чтобы друзья его всю жизнь поминали.
XIVПять часов утра, солнце уже показалось. Зеленая Артачилахская долина, на ней четыре человека. Один в сером военном сюртуке, аккуратный и грустный, отмерил десять шагов, наметил барьер. Другой, коротенький, возится с пистолетами.
В пятнадцати шагах от Вильгельма стоит человек, бледный, гладко причесанный, до которого Вильгельму нет никакого дела. Он опустил глаза и не смотрит на Вильгельма.
Рядом с лицом Вильгельма зеленая ветка. Он жадно, со вниманием смотрит на нее. Если его убьют – последнее воспоминание будет темная и сочная зелень на ветке.
Серый артиллерист остановился перед дуэлянтами.
– Господа, предлагаю вам последний раз кончить миром.
Молчание.
Вильгельм отрицательно качает головой. Похвиснев машет рукой.
Первый выстрел за оскорбленным.
Бледный и неуверенный, Похвиснев делает шаг вперед. Перед Вильгельмом маленькое дуло. Дуло, дрожа, поднимается. Он стоит вполоборота. Ах, черт, в лоб. Нет, видно, не хочет портить карьеры. Дуло ползет вниз. Целит в ногу.
Курок щелкает – осечка. Похвиснев смотрит растерянным взглядом.
Выстрел за Вильгельмом.
Вильгельм обводит глазами небо, зеленые деревья, горы, еле намеченные солнцем, глубоко вздыхает, видит перед собой бледного человека и стреляет в воздух.