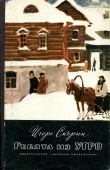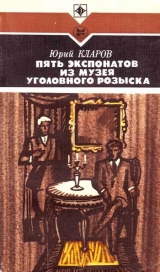
Текст книги "Пять экспонатов из музея уголовного розыска"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Экспонат № 3
Этим экспонатом своего музея Евграф Усольцев особенно гордился, – сказал Василий Петрович. – И надо сказать, что не без оснований. Кто знает, что бы произошло с этой уникальной вещью, если бы в происходящие события не вмешались ребята из Первой бригады Петрогуброзыска во главе с Усольцевым.
Итак, экспонат № 3, его происхождение, история, приключения и знакомство с Петрогуброзыском.
– Вы слышали что-либо о Сергее Леонтьевиче Бухвостове? – спросил меня Белов и, когда я признался, что мои сведения о Бухвостове более чем скромны, сказал: – Увы, эта фамилия ныне полузабыта, хотя в 1922 году Петровские улицы в Москве были переименованы в Первую, Вторую и Третью Бухвостовы. А ведь Бухвостов – праотец солдат русской регулярной армии, созданной Петром I. Тех самых солдат, которые прославили русское оружие под Полтавой, тех, кого водил от победы к победе Александр Васильевич Суворов, солдат, разгромивших армию Наполеона и покрывших себя славой в годы Великой Отечественной войны.
Петр Великий не зря назвал Бухвостова первым российским солдатом. Когда будущий преобразователь России стал во главе потешного Петрова полка, первым к одиннадцатилетнему полковнику явился с просьбой записать его в солдаты именно Сергей Бухвостов, широкоплечий, рослый и мускулистый парень, будто самой природой созданный для тягот ратного дела.
Так началась нелегкая воинская служба Сергея Леонтьевича. Вместе с «господином бомбардиром Петром Алексеевым» Бухвостов участвовал во всех потешных походах, а затем и в боевых, проявив под Азовом «примерную храбрость и отменное знание бомбардирской науки при стрелянии ядрами, а такоже и картечью».
Перед войной со шведами Бухвостов был уже лейб-гвардии капралом. Затем – битвы под Нарвой, Лесной и, наконец, знаменитое Полтавское сражение, решившее участь Карла XII и гетмана Мазепы.
Во время битвы русским пушечным ядром были раздроблены носилки Карла. Этот знаменитый выстрел приписывался Бухвостову. Так или иначе, но «первый российский солдат» считался одним из лучших бомбардиров не только в Преображенском полку, но и во всей армии.
Отмечая заслуги Бухвостова перед отечеством, Петр к концу войны произвел его в капитаны артиллерии, а затем, когда тот был тяжело ранен в Померании, – в майоры. Не обошел он его и наградами. Кстати, среди вещей, подаренных Бухвостову, была и собственноручно выточенная Петром на токарном станке черепаховая чаша, которая стала фамильной драгоценностью Бухвостовых.
Желая увековечить образ первого российского солдата, император заказал Карлу Растрелли бронзовый бюст Бухвоства, который в дальнейшем был передан Академии наук.
К сожалению, после смерти Петра бронзовый бюст Бухвостова потерялся. Вышитому шелком портрету первого российского солдата повезло больше.
Портрет этот известен под названием «меншиковского», хотя справедливости ради его следовало бы именовать «арсеньевским».
Александр Данилович Меншиков, начавший свою головокружительную карьеру с продажи пирогов с тухлой зайчатиной на Красной площади в Москве, обладал многими талантами и пригодившимися ему в жизни знаниями. «Счастья баловень безродный», ставший князем Священной Римской империи, герцогом Ижорским, графом Дубровненским, генералиссимусом, фельдмаршалом и прочее, прочее, как видите, неплохо разбирался в титулах, должностях и званиях. Полновластный владелец многих городов, сотен сел, деревень и свыше ста тысяч крепостных крестьян, Меншиков являл пример рачительного хозяина, умевшего всегда и во всём соблюдать свою выгоду. Но в грамоте он преуспел не слишком, а в искусстве и того меньше.
Хотя стены многочисленных дворцов Меншикова были плотно увешаны гобеленами и «фряжскими парсунами», Александр Данилович являлся полным профаном и в живописи, и в скульптуре, и в коврах художественной работы. Тут «светлейший князь, герцог Ижорский и граф Дубровненский» целиком доверялся вкусу своей жены, Дарьи Михайловны Арсеньевой, и свояченицы, Варвары Михайловны Арсеньевой, которые в совершенстве знали несколько иностранных языков, разбирались в музыке, живописи, а особенно в вышивках. Интерес к вышивкам передавался у Арсеньевых из поколения в поколение. Их крепостные вышивальщицы славились в Москве чуть ли не со времен царя Михаила Романова. Арсеньевские вышитые шелком и золотом с жемчугом кики, кокошники, убрусы, венчики и другие женские головные уборы отличались оригинальностью, самобытным орнаментом и великолепно подобранной гаммой цветов. Вышивальщицы свободно пользовались не только русским швом, крестиком, но и венецианским, швом «ренессанс», алмазным, гобеленовым.
Вот этим-то крепостным искусницам и было поручено изобразить шелками на льняном полотне портрет первого русского солдата, Сергея Леонтьевича Бухвостова.
Видимо, портрет предназначался в подарок Петру I, работа продолжалась около трех лет и была закончена уже после кончины Петра.
– Вас удивляет срок? – улыбнулся Василий Петрович, заметив мое недоумение. – Смею вас уверить, что три года для такой вышивки совсем не много, особенно если учесть, что в портрете Бухвостова был использован шелк по меньшей мере двенадцати тысяч цветов и оттенков. Такая вышивка очень дорога. Достаточно сказать, что вышитый по рисунку великого Рафаэля «Танец золотого тельца» оценивался любителями дороже многих полотен гениального мастера и стоил мастерицам пяти лет кропотливого труда.
Но вернемся к портрету Бухвостова. Видимо, первый российский солдат, умерший и похороненный со всеми воинскими почестями в 1728 году, в царствование Петра II, видел свой вышитый портрет, который висел во дворце Меншикова на Васильевском острове. Хотя я и не исключаю того, что светлейший князь «забыл» пригласить к себе худородного старика, который теперь не представлял для него никакого интереса.
– По словам моего коллеги по университету Тарновского, который защищал магистерскую диссертацию по истории византийской и русской вышивки, портрет Бухвостова сопровождал Меншикова, когда тот был сослан в Раненбург, а затем в Березов, – продолжал свой рассказ Василий Петрович. – А в 1768 году портрет приобрел Григорий Орлов, который презентовал его самому популярному тогда в Петербурге человеку – Димсделю.
Вам, разумеется, ни дата, ни фамилия ничего не говорят. Между тем 1768 год превозносился придворными Екатерины II как один из самых славных в истории России. Ее самоотверженность сравнивалась с великими подвигами Геракла, Муция Сцеволы, Александра Македонского и Юлия Цезаря. На Монетном дворе была выбита специальная медаль с профилем Екатерины, лавровым венком и знаменательной датой – «1768».
Вот к этому самому событию, которое так потрясло современников Екатерины, барон Димсдель – тогда еще не барон, а просто Димсдель, английский военный врач, – и имел прямое отношение. Потому что именно он, а не кто иной, собственноручно привил русской императрице и её сыну оспу…
Да, именно это событие и вызвало такую бурю восторга. Итак, сделав прививку, Димсдель, как в сказке, тотчас же превратился из обычного, ничем не примечательного врача в барона, лейб-медика, кумира двора и весьма богатого человека. Кроме того, как нетрудно догадаться, он приобрел весьма солидную клиентуру: прививки вошли в моду, и петербургская знать стремилась не отстать от императрицы.
Расплачиваться с лейб-медиком да вдобавок ещё и бароном деньгами считалось неприличным. Поэтому прививка оспы Орловым, Потемкину и другим вельможам дала возможность страстному любителю живописи Димсделю пополнить свою до того времени более чем скромную коллекцию картин полотнами известных итальянских, французских, английских и голландских мастеров.
Однако шелковый портрет, преподнесенный врачу благодарным Орловым, надолго у Димсделя не задержался. То ли он, как говорится, не вписался в собрание картин, то ли англичанину уж очень хотелось выказать свое уважение популярному в Англии великому русскому полководцу, но портрет Бухвостова был подарен, – а возможно, продан – фельдмаршалу Кутузову.
На протяжении XIX века арсеньевский портрет сменил немало хозяев. А затем он осел – и осел достаточно плотно – в собрании русских вышивок у петербургского богача Шлягина. В доме Шлягина, к которому меня как-то привел Тарновский, я этот портрет впервые и увидел.
Пожалуй, среди всех дореволюционных частных коллекций такого рода шлягинская отличалась наибольшей полнотой. Тут были уникальные скифские вышивки, за которыми гонялись любители из самых разных стран, византийские вышивки, великолепные образцы «золотого шитья», приобретенные Шлягиным в Торжке и северных женских монастырях, известных своими искусницами, цветное владимирское шитье, рязанские вышивки со вставками из разноцветных тканей и кружев, вывезенная из Калужской губернии красно-синяя цветная перевить и крестецкая ажурная строчка. Но в первую очередь все-таки привлекал к себе внимание арсеньевский портрет. Он был жемчужиной коллекции, и Шлягин понимал это.
Портрет представлял собой овал высотой чуть более метра, а шириной сантиметров восемьдесят – восемьдесят пять. Изображение Бухвостова обрамлял типичный для России XVI-XVII веков оригинальный орнамент, в котором в неразрывное целое слились Азия и Европа. Сплетались, ломались под разными углами, то расширяясь, то сужаясь, лентообразные причудливые полосы, переходящие в подобие листьев сказочных деревьев, и фигуры прекрасных в своём неповторимом уродстве грифонов.
В капризных, не подчиняющихся никаким закономерностям, изломанных и в то же время округлых линиях переплетений было все: сказка и реальность, прошлое и настоящее, безудержная радость и непереносимая боль, Восток и Запад.
Мчались из тьмы веков в гари пожарищ низкорослые монголы на мохнатых лошадях, играл ветер кудрями бесшабашного Васьки Буслаева, летела по синему безоблачному небу, распустив хвост радуги, огненная жар-птица.
Мелодично звенели колокола московских храмов, слепила глаза роскошь византийских дворцов, и в самой глуши дремучих рязанских лесов возвышались египетские пирамиды и трубили индийские слоны.
Вышитый подковой старорусский узор не охватывал нижнюю часть портрета. Орнамент как бы рассекался дугообразными мощными крыльями двуглавого, трижды коронованного орла. Широкую грудь царственной птицы закрывал от шведов, турок и прочих ворогов тяжелый кованый щит московского герба, окруженный такой же массивной золотой цепью первого русского ордена, учрежденного «бомбардиром Петром Алексеевым». Тут же косой Андреевский крест с наручной печати того же бомбардира. В цепких когтистых лапах орла тяжелая ручка скипетра и земной шар державы.
Из рамы орнамента, совсем невесомый, воздушный, будто возникший в нашем воображении, на нас удивленно смотрел своими широко расставленными глазами («А вы откуда здесь взялись?») только что явившийся из былины в Преображенский полк нереальный в своей обыденности, добродушный богатырь. «Ну-ну, где тут Соловей-разбойник посвистывает? Что-то не видать… Да уж ладно, посплю час-другой, покуда сказка сказывается, а уж потом… Ежели не уберётся подобру-поздорову, вобью его, стервеца, по маковку в сыру землю да и поеду неторопко к стольному князю Владимиру Красное Солнышко. Заждался небось…»
Но в плотно сжатых губах богатыря, одетого в преображенский мундир с орлёными пуговицами, и в его позе угадывалось напряжение: кончилась вольница! Теперь уж богатырь не сам по себе, а на царской службе. И Петр Лексеевич – не князь Владимир, земля ему пухом. При Петре Лексеевиче не до сна, при нём ухо на карауле держи. Чуть что не так – то и палок отведаешь. Так что хоть ты и богатырь, но не какой-нибудь, а царский, первый российский солдат, словом. Потому и на портрете дисциплину армейскую блюди: плечи назад, грудь вперед, руки по швам. Смирна-а!
– Мастерицы-то каковы, а? – наслаждался произведённым на меня впечатлением Шлягин. – Это вам, уважаемый, не всякие там Европы. Русь-матушка! Шелками – что красками…
Действительно, ничего похожего, голубчик, я раньше не видел.
Портрет Бухвостова поражал тонкостью и тщательностью работы вышивальщиц, точной передачей характера, воздушностью, а главное – поразительной гармоничностью колорита и великолепным рисунком. Ведь следует сказать, что немногие художники даже с мировым именем соединяют в себе таланты рисовальщика и колориста.
Шлягин, которого я бы назвал человеком «купеческой складки», не без гордости сказал нам, что посетивший в прошлом году Петербург американский собиратель и знаток вышивок Генри Мэйл предлагал ему за портрет Бухвостова пятнадцать тысяч долларов, сумму по тем временам солидную.
– А ежели поторговаться, – сказал Шлягин, – то и все двадцать бы отвалил.
– Что же вы не продали? – поддразнил я, надеясь в глубине души услышать от него что-нибудь умилительное. Но, увы, не услышал.
– Да у меня и своих деньжат хватает, не обездолен, – откровенно объяснил он свой отказ от сделки. – А удовольствие своё я на том имел. Купил-то я эту вещицу за сколько? За тысячу рубликов. Не бог весть какие деньги, а мне: «Переплатил, Иван Ферапонтович». Ну, и сомнения всякие. Не денег, понятно, жалко, а достоинства купеческого. А выходит, не прогадал Шлягин. Вон как! Да, хорошая вышивка в хороших руках – капитал. Ба-альшой капитал! Мне за этот самый шелковый портрет, ежели желаете знать, через пяток лет и пятьдесят отвалят, только продай, Иван Ферапонтович. А я – шиш, ста ждать буду… – засмеялся Шлягин.
Но, несмотря на свой трезвый подход к неизбежному росту цен на произведения искусства, Шлягин в своих прогнозах все-таки ошибся: через «пяток лет» никто ему пятидесяти тысяч за арсеньевский портрет не предложил… Через «пяток лет» грянула революция. И в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР все предметы искусства, имеющие художественную ценность, были объявлены собственностью народа.
И все же, как вскоре выяснилось, злорадствовал я зря. Купец проявил должную предусмотрительность. Отправившийся в особняк Шлягина Тарновский – как специалист по художественным вышивкам он был по моей рекомендации привлечен к реквизициям, которыми занималась Комиссия по охране памятников искусства и старины Петроградского Совдепа, – вернулся ни с чем.
Тарновский сообщил, что Шлягин еще в середине 1917 года уехал из Петрограда в Ревель (ныне Таллин), а оттуда перебрался в Стокгольм. Уезжая, купец продал дом и захватил с собой наиболее ценные экспонаты коллекции, среди которых, разумеется, был и портрет Бухвостова.
Досадно, но что поделаешь! Я постарался забыть о портрете. Однако в 1922 году мне о нем напомнили. И напомнил не кто иной, как тот же Тарновский…
К тому времени мой бывший товарищ по университету и комиссии Петроградского Совдепа, поддавшись соблазнам нэпа, превратился из совслужащего в хозяина антикварной лавки.
Настоящий любитель вряд ли нашел бы в этой лавке что-либо достойное внимания. Но у нэпманов, торопившихся «облагородить» свои квартиры, заведение Тарновского пользовалось популярностью. Еще бы! Надраенная, как медный самовар, бронза, аляповатый, но зато густо позолоченный фарфор, многопудовые, звенящие, как трамвай, хрустальные люстры и плохие копии с картин известных мастеров.
Новоявленный нэпман успел за последние полгода отъесться и нагулять округлое брюшко, что было в то голодное время далеко не повсеместным явлением. Он завел модные узконосые ботинки «шимми», тросточку, котелок и домоправительницу.
Моё отношение к частнопредпринимательской деятельности Тарновский знал достаточно хорошо, поэтому, проявив должный такт, он перестал у меня появляться, за что я был ему крайне благодарен. Не заглядывал он больше и к Усольцеву, с которым раньше часто играл в шахматы.
И вот однажды ночью, уже под утро, около четырёх часов, в моей квартире прозвенел настойчивый длинный звонок, а затем в дверь стали грохотать кулаками. Не стучать, а именно грохотать. Ночные звонки вообще неприятная штука. Но в 1922 году, когда Петроград был наводнен уголовниками, подобные звонки являлись чаще всего прелюдией к налету. Поэтому не буду кривить душой и утверждать, что, когда я вскочил с постели и отправился в переднюю, я был образцом хладнокровия. Отнюдь нет. Правда, поживиться в моей квартире было нечем: ни золота, ни серебра, ни лишней пары штанов. Но как раз это и могло обидеть налетчиков: как-никак рисковали, время тратили. А на ком им вымещать свою обиду? На мне, понятно…
Спрашиваю:
– Кто там?
Молчание. Они молчат – я молчу. Затем тихий голос:
– Василий Петрович, открой, пожалуйста.
Так как знакомых у меня среди уголовников нет, слегка успокаиваюсь, но отпирать дверь все же не тороплюсь.
– Кто там?
– Я.
– Кто «я»?
– Тарновский.
– Олег Владиславович?
– Да.
Действительно, голос Тарновского, никаких сомнений. И вот мы в моём кабинете. Мы – это я, Тарновский и его домоправительница Варвара Ивановна, тощая, как пересушенная вобла, женщина с решительным лицом. На Тарновского смотреть страшно: бледный, растрепанный, нижняя губа отвисла, в глазах ужас.
– Сегодня… – голос его прерывается, – на мою лавку был произведен налёт…
Он замолкает, и инициативу берёт в свои костлявые руки Варвара Ивановна. От неё я узнаю подробности происшедшего. Оказывается, около одиннадцати часов вечера, когда они уже легли спать, к ним позвонили: «Почтальон. Срочная телеграмма».
Тарновский открыл дверь и в ту же секунду упал без сознания от сильного удара ногой в живот. Затем налетчики – их было трое – уложили на пол вниз лицом выбежавшую на шум Варвару Ивановну и, оставив одного из бандитов сторожить хозяев, занялись лавкой.
Налет продолжался не более получаса. Когда бандиты, загрузив экипаж мешками с награбленным и вежливо пожелав хозяевам спокойной ночи, уехали, Тарновский вызвал по телефону милицию.
Милиционеры осмотрели место происшествия, допросили пострадавших, составили необходимые протоколы и пообещали заняться розыском преступников.
Вот и все. Какая роль во всей этой истории предназначалась мне, я так и не понял.
Как и требовал долг вежливости, я посочувствовал, выразил надежду, что налётчики вскоре будут арестованы, и предложил выпить чаю. Тарковский с таким испугом посмотрел на меня, будто я предложил не чай, а бог знает что.
– Чай?
Варвара Ивановна усмехнулась.
– Олег Владиславович слишком взволнован. Его можно понять.
– Тайник, – с надрывом сказал Тарновский.
– Что тайник? – не понял я.
– Они опустошили тайник, – простонал Тарновский и, ткнувшись головой в стол, заплакал.
Я вопросительно посмотрел на Варвару Ивановну, брезгливо морщившую свои тонкие злые губы.
– Может быть, вы будете столь любезны…
– Видите ли, – сказала она, – дело в том, что на квартире Олега Владиславовича имелся тайник, в котором он хранил наиболее ценный антиквариат. Олег Владиславович был уверен, что налетчики его не обнаружат. Но, увы!.. Это для него удар.
Да, Тарковскому, конечно, не до чая.
– Вы сообщили, разумеется, о тайнике милиционерам?
– Нет.
– Ну вот! Напишите дополнительное заявление, можете на имя Усольцева. Подробно перечислите все вещи, опишите их…
Тарновский промычал что-то нечленораздельное и отрицательно замотал головой. Только тогда я стал о чем-то догадываться.
– В тайнике были предметы, подлежащие национализации?
Наступило тягостное для всех троих молчание.
– Да, – выдавил наконец из себя Тарновский.
– Понятно. Тогда, может быть, ты будешь откровенен до конца и сообщишь мне, что именно там было?
Он всхлипнул и стал вытирать скомканным носовым платком глаза. Я объяснил, что для переживаний у него будет еще достаточно времени, и повторил свой вопрос.
– Первые русские монеты великого князя Владимира Святого, Святополка Ярополковича и Ярослава Владимировича, – с трудом ворочая языком, ответил он. – Всего двадцать пять штук.
Подобной коллекцией в России располагали считанные нумизматы. Стоимость её до революции исчислялась тысячами и тысячами рублей. Совсем неплохо для скромного антиквара.
– Дальше, – говорю.
– Кружева.
– Какие кружева?
– Старинные.
Выясняю, что у моего бывшего коллеги хранились уникальные французские кружева XVI века. В его чулане нашлось место и для русских кружев XVI-XVII веков из волоченого золота, кружев, низанных жемчугом и перьями по рисункам знаменитых «царских знаменщиков», то есть рисовальщиков, Ивана Некрасова и Петра Ремезова. Хранились там также русские кружева с пухом и горностаем, «кованые», с узорами «рыбка», «репеек», «протекай речка», «бровки-пытки-города» и так далее.
– Что там еще было? – спрашиваю
– Два гобелена из серии «История Александра Македонского» по картонам Шарля Лебрена, пять шитых золотом кокошников с мелким жемчугом, две скифские вышивки.
И пока он перечисляет, я вспоминаю, что гобелены из серии «История Александра Македонского» я видел в собрании Шлягина.
Кажется, Шлягин никому их не перепродавал. Но если это те самые гобелены, то что же тогда получается? Вывод может быть один, но мне его делать не хочется…
Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, старательно записываю похищенные из тайника вещи.
– Всё?
– Почти все, – неопределенно отвечает Тарновский, избегая моего взгляда.
– Всё или почти всё?
– Там ещё был шитый шелком портрет…
У меня перехватывает дыхание.
– Бухвостова?.. Ты что, язык проглотил?
Тарковский всхлипывает. Но если раньше к моей брезгливости примешивалась жалость, то теперь я почти физически ощущаю, как в груди у меня поднимается волна жгучей ненависти.
По глазам Тарковского, в которых плещется ужас, вижу, что он прекрасно понимает, какие чувства я в эту минуту испытываю.
– Портрет Бухвостова?
– Да, там ещё был портрет Бухвостова, – безразличным голосом подтверждает Варвара Ивановна, не понимающая или не желающая понимать то, что сейчас происходит.
Я резко встал, и Тарковский испуганно отшатнулся, будто ожидая, что его сейчас ударят. Самое забавное, что он был недалек от истины.
Вы знаете, что по натуре я человек сдержанный и достаточно мягкий. Я снисходителен к чужим слабостям и всегда пытаюсь влезть в чужую шкуру, но тогда… Я едва удержался, чтобы не ударить его. Но всё-таки удержался…
Затем мне пришлось выслушать достаточно противную историю о том, как человек, которого я в 1918 году рекомендовал товарищам из Комиссии по охране памятников искусства и старины, обманул рабоче-крестьянское правительство и присвоил лучшие экспонаты шлягинского собрания, бросив на произвол судьбы оставшиеся.
Тарновский говорил, что все эти годы его мучила совесть и он хотел вернуть присвоенное государству, но боялся ответственности.
Сотканная из недомолвок, полуправды и страха наказания исповедь заканчивалась, понятно, просьбой. Я должен был засвидетельствовать его добровольное признание и чистосердечное раскаяние перед Усольцевым. Когда налетчики будут пойманы (в том, что это произойдет, Тарновский не сомневался, этим-то и объяснялось его «добровольно« признание» и «чистосердечное раскаяние»), он, Тарновский, готов помочь уголовному розыску в оценке похищенного и экспертизе изъятых у бандитов уников. Более того, он с удовольствием заплатит любой штраф. Лишь бы не тюрьма. Посадить его в тюрьму – величайшая несправедливость. Он же никого не убивал, не крал… Правда, тогда, в восемнадцатом, он проявил слабость, но разве не было для него наказанием все это время, когда день и ночь его непрестанно грызла совесть? Как он переживал, как переживал! Вспомнить и то страшно! Может быть, я сомневаюсь в том, что он говорит? Тогда я могу спросить у Варвары Ивановны. Она о многом расскажет: о бессонных ночах, о сердечных приступах, о неотправленных письмах с покаянием и признанием своей вины перед народом…
Ушли они уже утром. В прихожей Тарновский протянул мне руку, но я её не заметил…
Рассказывая, Василий Петрович вновь переживал ту ночь. Он возмущался, иронизировал, удивлялся, радовался, грустил. Одна гамма чувств сменялась другой.
К порозовевшему лицу старого искусствоведа вновь вернулась молодость. Исчезли бесчисленные морщины, стала упругой дряблая кожа, в глазах появился блеск.
– Должен признаться, – продолжал Василий Петрович, – что я не разделял оптимизма – мнимого или действительного – своего бывшего товарища. У меня не было уверенности, что преступников разыщут. И объяснялось это не присущим мне скептицизмом или плохим мнением о способностях сотрудников Первой бригады Петрогуброзыска – а бандитами занимались именно они. Дело в том, что Петроград, как я уже говорил, в те годы буквально кишел преступниками самых разнообразных специальностей: стопорилами, мокрятниками, медвежатниками, поездушниками, голубятниками…
Какой только мрази не было! Город терроризировали сотни уголовников. Происшествие за происшествием. На таком фоне похищение антикварных вещей из какой-то лавки какого-то Тарковского представлялось обычным происшествием, которому, разумеется, будет уделено должное внимание, но только «должное», а не первоочередное. Всё это я прекрасно понимал. И всё же…
Телефон Усольцева не отвечал. Я позвонил самому информированному сотруднику Петрогуброзыска – Сонечке Прудниковой. Эта милая пишбарышня сообщила мне, что Евграф Николаевич уже третьи сутки находится в Петергофском уезде, кажется, в Ораниенбауме. Настроение у него хорошее, и сегодня к середине дня он обязательно будет у себя.
Взяв извозчика, я отправился на Дворцовую площадь, где находился Петрогуброзыск. Усольцева на месте не были. В секретариате мне сказали, что он появится дня через два. Но я свято верил, что Сонечка Прудникова никогда не ошибается. И моя вера в её способности была вознаграждена. Не прошло и получаса, как я увидел Евграфа, который поднимался по лестнице. Более того, заметив меня, Евграф улыбнулся. Дела Первой бригады явно шли неплохо. Я лишний раз убедился, что Сонечка Прудникова великий человек.
– Ко мне? – спросил Усольцев.
– Конечно.
– По делу?
– Разумеется.
Продолжение диалога было уже в его кабинете.
– Украли что-нибудь?
– Ограбили.
– Вас?
– Государство.
– Садитесь и рассказывайте.
Я стал излагать суть дела, стараясь быть по возможности кратким. Усольцев вначале слушал меня довольно внимательно, а затем стал время от времени поглядывать на висевший в его кабинете плакат. На плакате, видимо, нарисованном кем-то из сотрудников розыска, был изображен похожий на скелет длиннобородый старик, которому молодой курносый милиционер в суконном остроконечном шлеме с алой звездой протягивал каравай хлеба. Под рисунком стихи присяжного поэта Петрогуброзыска агента второго разряда Сени Покатилова:
Когда ужасно голодали Москва и красный Петроград,
То вы нас, братья, поддержали, -
мы это вам вернём назад.
Взгляд Усольцева был настолько красноречив, что я наконец не выдержал.
– Уж не хотите ли вы сказать, что, когда в Поволжье такой страшный голод, не следует столько времени уделять какому-то портрету?
– Нет, не хочу, – сказал Усольцев. – Голод голодом, а искусство искусством. Но вот этот плакат, Василий Петрович, меня на одну мыслишку навел: не завязать ли нам в один узел розыски портрета и помощь голодающему Поволжью?
– Не понимаю, – признался я.
– А вы вот этот циркуляр № 14 Народного комиссариата юстиции РСФСР прочтите, – сказал Усольцев и протянул мне еженедельник «Советская юстиция» от 23 февраля 1922 года.
«Руководствуясь постановлением IX Всероссийского съезда Советов о необходимости напряжения всех сил в борьбе с голодом, охватившим целый ряд губерний и областей РСФСР, и директивами Президиума ВЦИК, – прочел Василий Петрович, – Народный комиссариат юстиции предлагает всем судебным органам РСФСР (нарсудам и ревтрибуналам) при вынесении обвинительных приговоров в отношении обвиняемых, обладающих достаточными имущественными средствами, присуждать последних наряду с другими наказаниями, а также взамен более легких наказаний (например, общественного порицания) к уплате определенного штрафа в пользу голодающих. Штраф может взыскиваться не только в виде денежных сумм, но также в виде продуктов продовольствия, не принадлежащих к числу скоропортящихся.
Народные суды и трибуналы, вынесшие приговоры о наложении штрафа в пользу голодающих, должны с особой тщательностью следить за точным и срочным выполнением этих приговоров.
Все деньги и предметы питания, собранные в уплату указанных штрафов, должны в срочном порядке сдаваться в распоряжение губкомиссий помощи голодающим…»
– А теперь понимаете? – спросил Усольцев. – Борьба с преступностью стала и борьбой с голодом. Почему бы первому русскому солдату не помочь голодающим? Ведь те, что грабили антикварную лавку, да и сам Тарковский, присвоивший государственные ценности, отнюдь не относятся к малоимущим гражданам республики… Как вы считаете?
Я, конечно, был полностью с ним согласен.
– И ещё, – сказал Евграф, – было бы здорово ежели бы вы, Василий Петрович, подогрели наших ребят.
– То есть?
– Ну, одно дело, когда ты просто разыскиваешь какую-то ценность, и совсем иное, когда эта ценность для тебя что-то вроде брата родного или, к примеру, друга закадычного. Рассказывать вы мастер. Вот и расскажите им про Бухвостова, чтобы они в нем родную кровь почуяли.
– Надо подумать.
– Надо, да только побыстрей. Сегодня я делаю доклад о роли судебных и административных органов в борьбе с голодом. А после меня выступите вы. Договорились?
– Договорились.
– Тогда жду в восемнадцать ноль-ноль.
…И вот в восемнадцать ноль-ноль я уже сижу за столом рядом с Усольцевым в большой комнате, отведённой для «Учебного кадра» – так именовалась школа уголовного розыска. Эта комната меньше всего напоминала пристанище муз. Бедные музы! Один лишь вид стен обратил бы их в паническое бегство. Бесчисленные фотографии трупов. От фотографий была свободна лишь одна стена, но взор не мог отдохнуть и на ней – ножи всех видов и фасонов, кастеты, гирьки на ремешках, верёвочные и проволочные петли, ружья, пистолеты, револьверы.
– Великолепные экспонаты, правда? – сказал Усольцев, который уже вынашивал мысль о создании музея.
– Просто замечательно! – с энтузиазмом подтвердил я, опасаясь, как бы меня сейчас не стошнило. Но ничего, обошлось…
Начать я решил с мифа о дочери красильщика Арахне, которую прекрасная и мудрая богиня Афина Паллада первую из всех женщин земли обучила искусству богов – ткачеству. Арахна отплатила своей божественной учительнице черной неблагодарностью. Она чрезмерно возгордилась и вызвала Афину на состязание. Мало того – она победила в состязании и поэтому пала жертвой самолюбивой богини, которая не постеснялась превратить её в паука.
Откуда я мог знать, что сидящий в первом ряду русоволосый парень с кольтом у пояса агент второго разряда Петренко не только сотрудник уголовного розыска, но и руководитель кружка «Милиционер-безбожник»? Ещё меньше я мог подозревать, что Петренко воспримет миф об Арахне как злостную попытку подорвать в Петрогуброзыске основы атеистической пропаганды.