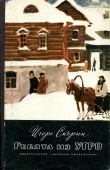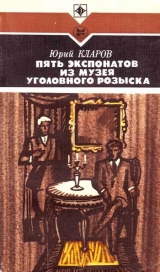
Текст книги "Пять экспонатов из музея уголовного розыска"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Вначале маркиза Монтеспан напоила «короля-Солнце» коктейлем из крови летучих мышей и сушеных кротов, а убедившись, что любовный напиток не оказал на Людовика никакого воздействия, заказала «черную мессу». Но то ли Монтеспан не соответствовала вкусам дьявола, то ли у короля Франции были с ним приятельские отношения, но только «черная месса» тоже не дала никаких результатов. И тогда доведенная до отчаяния беспрерывными неудачами фаворитка – теперь уже бывшая – решила отравить короля и его любовницу с помощью «порошка для получения наследства». У Монвуазен не было никаких возражений.
Для соперницы маркизы Монтеспан приготовили отравленные перчатки. Людовику же предстояло принять смерть от конверта с письмом.
Но, к счастью или к несчастью для подданных – судить не берусь, – этого не произошло.
Маркиза посидела, видимо, какое-то время в кресле работы Буля. И хотя у неё и не возникло мыслей, достойных кардинала Ришелье или Монтеня, кресло вернуло ей благоразумие.
Этим маркиза, возможно, спасла себя от смерти. Но ничего хорошего ждать ей не приходилось. Несколько дней спустя мадам Монвуазен была арестована на паперти собора Парижской богоматери. Для разбора этого нашумевшего дела Людовик XIV назначил тайный суд, названный «Пламенной камерой» или «Огненным судом». В результате судебного разбирательства колдунья для избранных вместе со своими помощниками и некоторыми клиентками была сожжена на костре. Многие другие обвиняемые оказались в тюрьме или были изгнаны из Франции.
Маркиза Монтеспан отделалась сравнительно легко. Но её карьера – и при дворе и при Людовике XIV – была, разумеется, окончена. Маркизе пришлось покинуть двор, а затем и Париж.
В 1707 году прекрасная маркиза – впрочем, вряд ли к тому времени она оставалась прекрасной, так как ей уже исполнилось 66 лет, – скончалась. И вот тогда-то её наследники с некоторым разочарованием узнали, что знаменитый мебельный гарнитур «Золотые стрелы Амура» был подарен усопшей проклятой колдунье Монвуазен.
Что же касается знаменитой кровати, в орнаментах которой, по слухам, притаилось целомудренное авраамово дерево, то её судьба в какой-то мере была связана с Россией. Во всяком случае, существует предание, что когда Петр I посетил во времена регентства Париж, ему отвели великолепные апартаменты в Лувре. Регент позаботился о том, чтобы для русского царя сервировали роскошный стол и застелили самую лучшую в мире кровать, то есть ту самую кровать, которая была изготовлена Булем для несчастной маркизы Монтеспан.
Но грозный царь, чей кафтан немедленно вошел в Париже в моду под названием «одежда дикаря», не был очарован ни изысканными яствами, ни великолепием предложенной ему постели. Петр на глазах остолбеневших французов отодвинул от себя блюда, тарелки и бокалы, крякнув, опрокинул стопку водки, запил пивом, закусил круто посоленной редиской с куском хлеба, приказал в целях экономии погасить свечи («Очень уж много жжёте. Так недолго и в трубу вылететь») и ушел ночевать в гостиницу, чем и заслужил отзыв ядовитого Вольтера: «Этот чудак рожден быть боцманом на голландском корабле».
Таким образом, не воспользовавшись предложенной ему регентом кроватью, Петр избежал опасности, которая таилась в авраамовом дереве. Впрочем, русский царь и так был достаточно целомудрен, ибо в отличие от Людовика XIV не столько интересовался женщинами, сколько государственными делами.
Что же в дальнейшем произошло с кроватью работы Буля, неизвестно.
– И Киевская, и Московская, и Новгородская Русь возникли среди лесов, если можно так выразиться, под сенью леса, – немного торжественно сказал Василий Петрович. – Поэтому вполне понятно, что русские с древнейших времен знали дерево, чувствовали его.
И душа Древней Руси раскрывалась в дереве, в ладных рубленых избах, в ярких, как лес под солнцем, расписных боярских хоромах, в великокняжеских дворцах с многоэтажными, раскрашенными в разные цвета башнями, с причудливыми крылечками, лесенками.
Русь белела берёзами, алела рябиной, золотилась стволами сосен, зеленела елью и осиной.
На взгорках охорашивались, будто явившиеся из былин и сказок, веселые деревянные церквушки с чешуйчатыми крышами и резными подзорами, с фронтонами в виде кокошников, окнами, отделанными фигурными наличниками, с точеными столбами крылец и галерей, балясинами решёток.
Кругом дерево.
Играют игрецы на деревянных гуслях-самогудах, заставляющих плясать леса и горы, на дудках, на деревянных трехструнных смычковых гудках и смыках.
Мчат лихие кони сделанные из дерева без кусочка металла легкие остроносые сани-лодки. На таких санях не только зимой, но и летом не грех прокатиться. И катались. По бездорожью езда на полозьях была значительно покойней, чем на колёсах. Кроме того, сани считались более почетными. Кстати говоря, в Архангельских, Вологодских и Костромских болотистых и лесистых местах сани были универсальным средством передвижения в любое время года вплоть до начала нашего века.
Из дерева – без единого гвоздя, роль гвоздей исполняли древесные корни – делались и легкие, как пух, осиновые душегубки, и большие, надежные поморские карбасы, которыми пользовались в своих плаваниях по Белому морю холмогорцы. В умелых руках мастеров древесина превращалась в красивые расписные прялки, вместительные сундуки-крабицы, легкие и изящные шкатулки для хранения украшений, которые именовались искусницами, в игрушки, жбаны, корыта, вёдра, миски, ковши, ложки «межеумки» и «бутызки», в ложки с фигурной ручкой – «завитые».
Не оставалась без дела и кора. Ивовая шла на верёвки, сосновая – на крыши изб. Из бересты делали лошадиные сёдла и вожжи, плетушки-саватейки для хранения одежды, туеса, фляги, ковши, табакерки-тавлинки с ремешочком на крышке и многое-многое другое.
Каждый лесной умелец гордился своим ремеслом. Не составляли исключения и лапотники. Именно от них пошел гулять по городам и селам рассказ о том, как Петр I лапти плёл. Дескать, самый что ни на есть умный из всех русских царей был. До всего своим умом дошел: и до кузнечного дела, и до плотничьего, и до слесарного. А с лапотным маху дал. Не то чтобы упал, а споткнулся. Меншиков в это дело царя втравил. Спор у них такой вышел. Об заклад, понятно, побились. Петр и взялся лапоть плести. Поначалу будто ничего. Меншиков даже к кошельку потянулся. Плетет царь, словно весь свой век только лаптями и занимался. А как до запятника лаптя добрался, то задумался. Пять минут думает, десять… Времени же у царя в обрез было – перед самым Полтавским сражением тот спор вышел. Что будешь делать? Махнул с досады Петр Алексеевич рукой и выплатил Меншикову проспоренное. А после Полтавского сражения – то одно дело, то другое. Так и остался тот лапоть недоплетённым…
Много было на Руси деревянных дел мастеров. Но краснодеревщиков среди них, пожалуй, до середины восемнадцатого века не имелось.
Автор интереснейших работ о быте русских царей и цариц Забелин дает перечень дворцовой мебели того времени. Перечень начинается с лавок. Сделанные из толстых и широких досок, они стояли вдоль стен почти всех палат дворца. Под лавками зачастую пристраивались шкафчики-рундуки или сундуки-клады с затворами. В рундуках и кладах хранилась одежда, обувь, бельё.
В домах именитых и богатых людей лавки застилались коврами. Доски обивали материей, укладывали поверх подушки.
В красных, или передних, углах под образами во дворцах и боярских хоромах стояли на точеных ногах дубовые столы. В будни они покрывались сукном, а в праздники – коврами или бархатными подскатерниками.
Столы эти нередко расписывали красками по золоту и серебру. Как правило, они были квадратными, но иногда их делали круглыми или восьмиугольными.
Кроме столов и лавок, дворцовые палаты были обставлены скамьями, которые делались на четырех ногах, соединенных проножками. Среди скамей были и спальные, предназначавшиеся для дневного послеобеденного сна. На одном конце таких спальных скамеек делался деревянный подголовник, который одновременно выполнял функции ларца. Ночью же спали в постелях с пологом, именуемых конопионами.
Теперь о креслах и стульях. Ими пользовались лишь члены царской семьи и патриарх. Остальные довольствовались скамьями, лавками, а избранные – стольцами, то есть табуретками с квадратными или круглыми сиденьями. Если человеку подавали столец, это считалось великой честью.
Кресел и стульев на весь дворец набралось бы, наверное, не больше десятка, да и те были не русской работы, а иноземной – польской и немецкой.
Ну что ещё? Ещё имелись неуклюжие громоздкие комоды и стенные подвесные шкафы-казёнки. Эти казёнки делались из липовых досок и наглухо прикреплялись к стене. В них хранили казну. Отсюда и название. Следует только оговориться, что слово «казна» имело более широкий смысл, чем теперь. Тогда существовали казна белая, суконная, холщовая, казна аптекарская, книжная, платяная, постельная и так далее.
Теперь нам следует упомянуть о поставцах, и мы подведём с вами черту под скромным списком царской мебели.
Поставцы – это просто большие дощатые ящики с полками, железными петлями и занавесками, или, как тогда говорили, завесами. Их вешали на стены палат.
Вот и всё. Ничего, кажется, не упустили. Так что, как видите, меблировкой своих апартаментов похвастаться не могли ни Иван Васильевич Грозный, ни его сын Фёдор Иванович, ни Борис Годунов. Об Иване Калите или Юрии Долгоруком и упоминать не будем. Минимумом довольствовались. Такой мебелью и сам не полюбуешься, и перед соседями не похвастаешься. Ни полировки, ни лакировки. Так-то.
Изменение внутреннего облика царских дворцов на Руси обычно связывают с именем Петра I. Но процесс этот начался несколько раньше, при отце Петра, Алексее Михайловиче «тишайшем».
Надо сказать, что этот царь был человеком увлекающимся. Когда Алексея обеспокоил, например, низкий уровень нравственности его подданных, мягкий и достаточно ленивый, он сумел проявить чудо распорядительности.
Немедленно было предписано всем лекарям во избежание соблазна проверять пульс у девушек и женщин только через полотенце, а ещё лучше – пользовать особ женского пола заочно, без осмотра, ибо хороший лекарь не руками и глазами, а головой действовать должен.
Еще более энергично царь, не выносивший матерной брани, взялся за сквернословов. По его указу были подготовлены специальные отряды стрельцов. Переодевшись в обычное платье, эти стрельцы постоянно находились в местах скопления народа. Они следили за тем, чтобы никто не ругался по-матерному. Провинившихся немедленно хватали и тут же, на месте преступления, безжалостно наказывали батогами.
Так же истово и увлеченно царь принялся за изменение интерьера своего дворца. И если борьба за нравственность особых успехов не принесла, то в новом увлечении царю удалось кое-чего добиться.
Во время войн с Польшей он побывал в Вильне, Полоцке, Ковно и Гродно, осматривал замки магнатов.
Вскоре после этого во дворце появились доселе невиданные обои («золотые кожи»), немецкая и польская мебель, частично приобретенная, а частично сделанная приглашенными в Москву мастерами. Бояре с любопытством рассматривали диковинные, украшенные затейливой резьбой столы на львиных ногах, круглые и многоугольные столы из красного индийского дерева, инкрустированные венецианскими раковинами покойные с широкими подлокотниками кресла морёного дуба и многокрасочные мозаичные шахматные столики – гордость царя.
Еще более изменился внутренний вид русских дворцов в последующие десятилетия. К польской и немецкой мебели присоединились голландская, английская, венецианская.
Но Петр I хотя и относился к обстановке в комнатах и залах с «полным решпектом», тем не менее считал – и вполне справедливо, – что мебель не самый главный государственный вопрос, подлежащий незамедлительному решению. И за границу поэтому слали учиться не мебельному делу, а корабельному и пушечному.
Но как бы то ни было, а начало было положено. И при Екатерине II в доме графа Безбородко можно было увидеть не только севрский фарфор, римские вазы с барельефами, редчайшие гобелены, но и великолепную мебель из дворцов французских королей. Не отставал от графа Безбородко в этом отношении и князь Потёмкин Таврический, и обладатель ста пятидесяти тысяч крепостных душ граф Петр Борисович Шереметев, чья усадьба в Кускове могла бы поспорить со многими музеями мира, и многие другие. А главное – в самой России стали появляться мастера по художественной мебели. И не какие-нибудь, а самого высокого класса. В этом я вам ещё предоставлю возможность убедиться. Но это потом, а пока…
Огромную, запряженную восемью лошадьми карету с зеркальными окошками и княжеским гербом на лакированных дверцах сопровождали верхом шесть кирасиров в красных колетах и черных меховых шапках с султанами.
В карете ехали двое – тщательно одетый человек средних лет, который, видимо, из деликатности втиснулся в угол кареты, и черноволосый с легкой проседью великан, один глаз которого прикрывала повязка. На великане был небрежно затянутый поясом, так, что видна волосатая грудь, толстый бухарский халат, из-под которого торчали кривые и тоже волосатые ноги в шитых золотом турецких чувяках с загнутыми носами.
Во всей Российской империи только двое вельмож разрешали себе принимать в халате сановных гостей, отдавать визиты, ездить с инспекцией и появляться на балах и званых обедах. Этими двумя были: генерал-фельдмаршал Кирилл Григорьевич Разумовский, большой любитель борща и гречневой каши, и князь Таврический Григорий Александрович Потёмкин. Но так как Разумовский обычно надевал поверх халата андреевскую ленту и был при двух глазах, а Потемкин такой ленты не надевал и потерял один глаз в далекой юности, то нетрудно догадаться, что в карете ехал именно князь Таврический.
Потемкин был раздражён. Светлейшего раздражали тряская дорога, эта неуклюжая, жалобно скрипящая карета, молчаливый секретарь-француз, которого он неизвестно для чего взял с собой, пробивающаяся внутрь кареты пыль и эти потные усатые кирасиры, гарцующие на своих откормленных конях.
Это чувство постоянной раздраженности появилось у него после последней встречи с императрицей в Петербурге. Потемкин прекрасно понимал, что время и расстояние не могли не наложить отпечатка на его былые отношения с Екатериной, которую он с некоторых пор именовал про себя гроссмуттер, то есть бабушка. Но всё же он вправе был кое на что рассчитывать и никак не ожидал такого холодного приема.
Против князя обернулось всё, что ему раньше сопутствовало. Чтобы удержать колесо фортуны, потребны крепкие молодые руки, а молодость князя уже ушла, отскакала в прошлое. Но дело и не в одном этом. Много причин сплелось в змеиный клубок. И не последняя – то море лести, в котором упоенно купалась и нежилась Екатерина.
Гроссмуттер возомнила себя первой дамой Европы. Ещё бы, не кто-нибудь, а Вольтер и Дидро её в этом убеждали. Потемкин читал все письма, которые получала из-за границы Екатерина. Их перлюстрировал его петербургский агент.
И, косясь в окно кареты, за которым были видны одни лишь клубы пыли, князь не без сарказма вспоминал неумеренные комплименты французов. Мосье Дидро, когда ему была выплачена пенсия за пятьдесят лет вперед, сразу же понял, что более великой монархини в мире не существует.
А мосье Вольтер, тот вообще не знал, что бы придумать позаковыристей, чтоб угодить гроссмуттер. Она-де на сажень повыше и Солона древнего, и Ликурга, и Ганнибала. И империя её выше всех земных царств. Первый человек в мире. Если б Европа и Азия были разумны, она бы наверняка царствовала над всем миром. Ведь это она – жизнь всех наций. Ведь это она преобразила восемнадцатое столетие в золотой век человечества. Где она – там рай. Она святая. Учитель всех философов, знающая поболее, чем учрежденные в Европе академии…
Потемкин хмыкнул и, развеселившись, захохотал. Князь умел равно хорошо и грустить и веселиться. Француз-секретарь давно уже привык к резкой смене настроений светлейшего.
Снаружи забухали выстрелы. Это салютовала князю из всех своих пушек стоявшая на причале яхта владельца кусковской усадьбы, Петра Борисовича Шереметева. Карета остановилась.
– Никак Кусково? – вскинулся Потёмкин, которому надоела эта бесконечная пыльная дорога.
И словно в ответ на его вопрос, дверца кареты распахнулась, и в проёме появилась лучащаяся радушием почтительная физиономия Шереметева. За спиной графа, на некотором отдалении, стояла живописная толпа разряженных девушек с цветами в руках.
Где-то играл невидимый роговый оркестр.
Двое лакеев в шитых золотом ливреях отбросили ступеньку кареты и помогли светлейшему и его секретарю выйти.
– Ну, ну, здравствуй, – благосклонно сказал Потёмкин, который, помимо всего прочего, намеревался перехватить у тароватого хозяина тысчонок двадцать или тридцать. – Оказывай доброхотство и дружество бедным чумакам из Таврии.
– Если чумаки не побрезгают, – шуткой на шутку ответил Шереметев, – то кибитка мурзы в полном пользовании их.
– Словеса, словеса! – усмехнулся Потемкин и поежился от дувшего с пруда ветра. – А год ныне зяблый…
Шереметев знал, что поразить Потемкина трудно. Князь всякое повидал и к такому привык, что иному и во сне не привидится.
И все же, пригласив Потемкина посетить Кусково, Шереметев не сомневался, что в грязь лицом не ударит. У графа в усадьбе имелся великолепный зверинец, где паслись на воле сотни оленей, серн, сайгаков, диких коз. Содержались в том зверинце и американские дикие свиньи, и медведи, и волки, и разного толка лисы. В оранжереях графа были померанцы и лавры, тюльпаны, редкие сорта роз, орхидеи. Здесь росли персики, фиги, виноград, бананы, миндаль, гранаты, маслины.
В глубине французского сада, между «итальянским» и «голландским» домиками, рядом с каналом, в котором плавали черные и белые лебеди, пеликаны и утки, стоял обширный флигель. В нем граф устроил свой музеум, не уступавший по некоторым разделам знаменитой Кунсткамере Петра I.
На балу у московского генерал-губернатора Шереметев заинтересовал Потемкина именно музеем, намекнув, что в нём светлейший сможет встретиться с некой неожиданностью.
Действительно, светлейшего в этом флигеле ждал сюрприз, или, как тогда говорили, сюрприза.
Но всё-таки наибольшие надежды граф возлагал на свой известный всей дворянской России оперный театр. Как-никак в отличие от своей покровительницы, для которой любая музыка была просто шумом, Потемкин считался страстным меломаном. Графу рассказывали, что в своей главной квартире в Бендерах светлейший содержит двести музыкантов и большую балетную труппу. Более того, граф знал, что сейчас от имени Потемкина за границей ведутся переговоры со знаменитым Моцартом, которому князь предлагает место дирижёра своего оркестра.
Ну что ж, в Кускове Моцарта, конечно, нет. Но всё-таки кусковский оркестр, хор, басы, баритоны и кусковский кордебалет сумеют постоять за себя.
Шереметев не без удовольствия вспомнил, как был потрясен посол Франции Сегюр, когда ему сказали, что архитектор, построивший кусковский театр, и композитор, написавший оперу, которую он только что прослушал, и живописцы, создавшие декорации, и музыканты, и певцы, и балерины – все были крепостными графа Шереметева.
«Граф, – сказал ему тогда Сегюр, – такого нет ни в одной стране. Подобное можно увидеть и услышать только в России».
Однако Потемкин, поступки которого трудно было предугадать и уж вовсе невозможно предусмотреть, наотрез отказался посетить театр, гордость графа. Увы, светлейшему сегодня не хотелось ни пения, ни танцев, ни музыки.
Шереметев был страшно расстроен, но не подал вида. Может быть, тогда Григорий Александрович соблаговолит осмотреть перед обедом его скромный музеум?
Музеум?
Ну что ж, музеум так музеум. Восторга на лице светлейшего граф не заметил. Но Потемкин не возражал, более того, проявил даже нечто вроде любопытства.
На этот раз граф мог быть доволен. Он не ошибся. Музей заинтересовал светлейшего. Особенно привлекли его благосклонное внимание выставленные в большом зале флигеля различные редкие мебеля.
Знаток, конечно, спокойно пройти мимо них не мог. А светлейший в этом деле был великим знатоком и ценителем. Таврический дворец князя в Петербурге являлся верным тому доказательством.
Что-то насвистывая, Потемкин внимательно оглядел древнегреческую кровать из позеленевшей бронзы, добротные копии тронного кресла франкского короля Дагоберта и мраморного кресла Плутарха из Херонеи; напоминающие фасады дворцов резные шкафы из Аугсбурга и Нюрнберга, флорентийскую мебель XVI века с затейливой интарсией, кресло аглицкого лорда с откидной доской на запоре, дабы никто не смог осквернить сие седалище в отсутствие высокородного хозяина.
В углу зала стояли китайская лаковая мебель и мебеля, вырезанные – то ли индусскими, то ли африканскими мастерами – из цельных кусков дерева красновато-коричневого цвета – дерева, именуемого, как объяснил Потемкину граф Шереметев, ироко.
На подлокотниках ажурных приземистых кресел, сделанных, видно, из столетних стволов, притаились в тени, готовясь к прыжку, мощные гривастые львы и свирепые леопарды. Змеи, переплетясь меж собой, обвивали кружевные спинки стульев и кресел, ползли вдоль круглых столешниц с необычным растительным орнаментом. Кривлялись, показывая князю большие зубы, уродливые хвостатые обезьяны.
– Эфиопская работа?
– Не ведаю, – признался Шереметев.
– Непостижное искусство, – задумчиво сказал князь, – Удивил, признаться, Петр Борисович, удивил… Сие и есть твоя сюрприза?
Шереметев действительно гордился этой попавшей к нему через десятые, а может, сотые руки экзотической мебелью. Но всё-таки не ею рассчитывал он поразить своего высокого гостя. Князя ожидало нечто значительно более удивительное.
Петр Борисович знал, что Потемкин уже давно разыскивает мебельный гарнитур, созданный королевским столяром Булем. И вот две недели назад ему, Шереметеву, удалось приобрести этот гарнитур здесь, в Москве, за сравнительно небольшую цену. Петр Борисович всегда был везучим.
Шереметев отдернул ширму, отделявшую часть зала, и немного театральным жестом показал Потемкину на «Прекрасную маркизу».
– Вот она, сюрприза, Григорий Александрович.
– Ну, ну, покажи, – благосклонно сказал Потемкин и вдруг осёкся.
Светлейший остолбенел. Он не мог произнести ни одного слова. Но если Шереметев думал, что светлейший ошеломлен красотой гарнитура, то он глубоко ошибался.
Потемкин был потрясен отнюдь не этим. Он был потрясен ловкостью и предприимчивостью безымянных воров, которые не только ухитрились сразу же после отъезда светлейшего из Петербурга похитить из Таврического дворца приобретенный им гарнитур Буля, но и переправить его в Москву. Более того, воры даже успели отыскать здесь в лице Шереметева тароватого покупателя и ударить с ним по рукам.
«Вор на воре, – думал Потемкин. – Но каковы искусники? У тебя украдут и тебе же продадут за двойную цену. За всем тем и магарыч с тебя получат, и благодарность востребуют, и щеку для поцелуя подставят, понеже твоими благодетелями мнят себя». Князь, однако, ошибся. Как вскоре выяснилось, приобретенный им в Петербурге гарнитур работы Буля, известный любителям под названием «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», по-прежнему украшал одну из комнат Таврического дворца. Его никто не похищал и даже не пытался похитить, а тем паче переправить в Москву. Просто гарнитур «Золотые стрелы Амура», оказавшись в России, вспомнил, что некогда он принадлежал известной колдунье мадам Монвуазен, и… раздвоился, превратившись в два совершенно одинаковых гарнитура-близнеца.
Вот оно, колдовство!
Василий Петрович немного помолчал, чтобы дать мне возможность освоить столь необычный, не лезущий ни в какие ворота факт, а затем продолжал:
– Не каждый, конечно, может поверить в подобные чудеса. А князь Таврический, насколько мне известно, был по натуре прагматиком и рационалистом, любившим во всём ясность. Он не верил в чудеса, но зато безоговорочно верил в жуликов. Раз оказалось два гарнитура, рассуждал он, то один из них подлинный, а другой – нет.
И в Петербург дворецкому князя Феоктисту Феоктистовичу Голошубову было отправлено из Бендер письмо с требованием безотлагательно и безволокитно освидетельствовать на предмет установления подлинности приобретенный князем мебельный гарнитур.
Феоктист Феоктистович был человеком исполнительным. И тотчас же отыскал в окружении будущего короля Франции графа д'Артуа, который тогда скромно проживал в Петербурге, отдыхая от бурных событий на своей родине, подходящую кандидатуру. Де Беркес, как заверили Феоктиста Феоктистовича, знал толк в мебели. Кроме того, ему привелось у потомков некогда сожженной на костре мадам Монвуазен дважды или трижды собственными глазами видеть знаменитый гарнитур. И не только видеть, но и ощупывать руками.
Де Беркес рвался оказать услугу князю Потемкину Таврическому. И Феоктист Феоктистович почтительно проводил эксперта в комнату, где стоял гарнитур.
– Прошу-с.
Француз поскреб ногтем полировку, посидел в кресле, в котором у каждого, по преданию, возникали мысли, достойные кардинала Ришелье и Монтеня, опустился на упругий пуф, награждающий самых неуклюжих кавалеров изяществом и элегантностью, полюбовался собою в зеркале и заявил, что он тут же, на месте, проткнёт шпагой каждого, кто позволит себе усомниться в подлинности этой мебели.
Вопрос можно было бы считать исчерпанным, если бы через день в Таврический дворец не прибыл подарок Потемкину от графа Шереметева – кусковский мебельный гарнитур. Феоктист Феоктистович опять пригласил де Беркеса. Тот вновь поскреб ногтем полировку, посидел в кресле, на пуфе, глянул в зеркало и вновь заявил, что готов проткнуть шпагой каждого, кто усомнится в подлинности этой мебели…
Феоктист Феоктистович почесал в затылке. Будучи дворецким князя Таврического, он, как и положено хорошему дворецкому, усвоил не только привычки, но и взгляды своего господина. Поэтому, точно так же как и Потемкин, Голошубов был уверен, что из двух мебельных гарнитуров «Золотые стрелы Амура» один – подделка. Но попробуй сказать об этом! Проклятый француз так бешено вращал глазищами и хватался за эфес своей шпаги, что Феоктист Феоктистович счёл за благо в спор с ним не вступать. Чего спорить? Пырнет шпагой – и был таков.
И через неделю в той же комнате вокруг выставленных там мебельных гарнитуров собрались самые уважаемые петербургские краснодеревщики. Был среди них и крепостной графа Шереметева Никодим Егорович Беспалов, который, находясь на оброке, содержал в столице мебельное заведение. Беспаловские кресла, стулья, столы да комоды отличались деликатностью работы, красотой и изяществом. Таких мебелей и в Европах поискать!
Никодим был еще несмышленышем, когда граф послал его вместе с тремя другими своими краснодеревщиками во Францию учиться мебельному делу. Пять лет без малого провёл там Беспалов. И во многом преуспел, постигая секреты хитрого мастерства. Поговаривали даже, что король французский самолично его работу отметил и повелел в королевские столяры зачислить да только граф Шереметев на то своего согласия не дал.
Много во Франции видел Беспалов всяческих мебелей, видел и работу знаменитого Буля, потому Феоктист Феоктистович и возлагал на него особые надежды. Уж кому-кому, а Беспалову и карты в руки.
Уважительно поглядывали на Беспалова и другие мастера, что, дескать, скажет Никодим Егорович, так тому и быть. Кто лучше его во французских мебелях смыслит?!
Беспалов осмотрел дотошно один мебельный гарнитур, потом так же дотошно другой.
С ответом он не спешил, медлил.
– Что скажешь, Никодим Егорыч? – спросил дворецкий.
Беспалов помолчал, а потом решительно указал на мебельный гарнитур, привезенный в Петербург из усадьбы Шереметева.
– Буль. Подлинный, понеже лучше разве что сам господь сотворит.
– Дивная работа, – согласились краснодеревщики.
Итак, один гарнитур оказался подлинным, а другой искусной подделкой. Всё стало на свои места.
Но в тот самый момент, когда дворецкий Потемкина, с облегчением вздохнув, подумал, что теперь может обо всем отписать князю, из толпы мастеров робко выдвинулся лысенький хлипкий старичок и, шамкая, спросил дозволения понюхать мебель.
– Чего-чего? – переспросил ошарашенный дворецкий.
– Понюхать, – повторил старичок.
– Нюхай, коли желание такое имеешь, – пожал плечами Феоктист Феоктистович, который привык всегда и во всем уважать старость.
Старичок понюхал столик, за которым герцогиня Орлеанская съела, по преданию, пятьдесят семь пирожных, пуфы, делающие элегантными недотеп-кавалеров. Словно идущий по следу охотничий пес, поочередно обнюхал козетки, зеркала, канапе, кресла.
«Спятил, совсем спятил», – шептал про себя Феоктист Феоктистович, в ужасе прижимая к груди руки.
Наконец старичок будто бы притомился. Разогнулся, держась за поясницу, промакнул большим пестрым платком вспотевший лоб. Отвечая на вопросительные взгляды краснодеревщиков, кивнул головой и удовлетворенно улыбнулся провалом беззубого рта.
– Припахивает, припахивает, – прошамкал он. – Чешночком да рыбкой припахивает.
– Врёшь! – вскинулся Беспалов.
– В молодошти во врунах не ходил, а в штарошти оно и пождно.
– Всё одно врешь! Не может быть того!
– Вот-те крешт! – схватился старичок за шнур нательного крестика. – Не веришь – шам нюхни.
– И нюхну, – сказал Никодим Егорович.
– И нюхни! – петухом выгнул тощую шею старик.
Когда сам Беспалов стал обнюхивать мебель, Феоктист Феоктистович окончательно потерял дар речи. Старость, она, известно, не радость. Со старого да с малого какой спрос? Но чтоб всеми уважаемый мастер до такого безобразия дошел – это никак не укладывалось в голове дворецкого. Светопреставление!
– Што теперя, Никодим Егорович, шкажешь? – спросил старик у Беспалова, когда гот наконец-то закончил со своим странным занятием и отошел от гарнитура.
Беспалов только руками развел сконфуженно, дескать, а что тут скажешь? Всё верно: и чесночком, и рыбкой припахивает…
– Ну и что из того, что пахнет чесноком и рыбой? – спросил ничего не понимающий дворецкий.
– А то, – ответили ему, – что все эти мебеля – и те, что Григорий Александрович Потемкин князь Таврический в Петербурге изволили купить, и те, что им из Кускова граф Шереметев прислали, – самой что ни на есть русской, а не парижской или еще какой работы. И смастерили их не сто лет назад, к примеру, а никак не больше ста дней, Да и того много.
– Выходит, фальшь? – схватился за голову дворецкий.
– Фальшь, Феоктист Феоктистович.
– И то фальшь, и это?