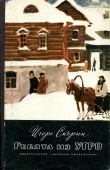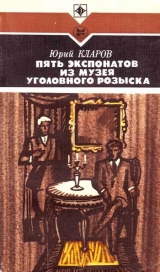
Текст книги "Пять экспонатов из музея уголовного розыска"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Совершенно справедливо, она самая, – подтвердил Александр Александрович. – Помнится, она кому-то говорила о перстне-талисмане, который был подарен отцу графиней Воронцовой. Правда, поговаривают, что она выжила из ума, но… Чем чёрт не шутит? Хватка у вас хорошая, гвардейская. Потрясите старушку, авось вам с ней и повезет.
Проживавшая за границей Смирнова объявилась в России в 1880 году. Отца ей представили. Но поговорить с ней ему никак не удавалось: Смирнова нигде не появлялась и никого не принимала у себя. Но на этот раз Петру Никифоровичу все-таки сопутствовала удача.
Москва готовилась к открытию монумента Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник этот, как известно, был сооружен на средства, собранные по всенародной подписке, которая, по ходатайству бывших лицеистов, была разрешена царем. По предложению лицейского товарища поэта моряка Фёдора Фёдоровича Матюшкина памятник решено было устанавливать не в Петербурге, а в Москве, где Пушкин родился. В конкурсе на лучший проект приняли участие известнейшие скульпторы, среди которых были Антокольский, Шредер, Забелло. Жюри после жарких споров остановило свой выбор на работе Александра Михайловича Опекушина.
Вокруг покрытого серым холстом памятника были сооружены трибуны и подмостки для почетных гостей, среди которых были Достоевский, Аксаков, Островский, Тургенев, Писемский, Григорович, Майков и дети Пушкина.
День выдался пасмурный, дождливый, но Страстная площадь и Тверской бульвар были заполнены народом. Разукрашенные коврами и флажками балконы, кругом цветы, гирлянды живой зелени. В распахнутых окнах близлежащих домов – лица людей, многие студенты забрались на крыши. В полдень из ворот Страстного монастыря на площадь вышла торжественная процессия и направилась к трибунам. А спустя полчаса, после кратких речей, перед собравшимися предстал освобожденный от холста бронзовый Пушкин.
Первым возложил венок к подножию памятника старший сын поэта – Александр Александрович. На его глазах Петр Никифорович увидел слезы.
Венки, букеты, гирлянды цветов…
В толпе, окружившей монумент, была и Смирнова-Россет.
Когда народ начал расходиться, к отцу подошел Александр Александрович.
– Беседовали со Смирновой?
– Никак не удаётся.
– На этой неделе она вас пригласит к себе.
Александр Александрович не был похож на провидца, и отец понял, что сын поэта замолвил за него слово.
– Не знаю, как вас благодарить.
– А коли не знаете, то и не надо.
Александра Александровича ждал экипаж, и он предложил завезти отца домой. Но Петру Никифоровичу хотелось еще побыть здесь, рядом с Пушкиным, на согнутой руке которого был венок от Тургенева.
На следующий день Петр Никифорович слушал в зале Благородного собрания речь Тургенева на заседании Общества любителей русской словесности.
– Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек… Всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком…
А еще через день Петр Никифорович получил записку от Смирновой с приглашением посетить её. Смирнова выражала надежду, что Петр Никифорович не откажет ей в этой просьбе.
Так отец получил наконец возможность поговорить о перстне-талисмане Пушкина с Александрой Осиповной Смирновой и её дочерью, Ольгой Николаевной, которая была при матери чем-то вроде секретаря.
Встретили его весьма любезно и предупредительно. Смирнова охотно отвечала на все интересующие его вопросы.
Да, у Сверчка (так называли Пушкина его близкие друзья) был перстень-талисман. Совершенно верно, изумрудный. Сверчок получил его в подарок от графини Воронцовой в Одессе. Пушкин очень дорожил им и носил на указательном пальце правой руки. Нет, талисман поэта не достался ни Пущину, ни Чаадаеву, ни Далю. Она знала про все эти слухи, но не считала нужным опровергать их. Однако теперь, видимо, пора внести во всё это ясность. Александр Сергеевич, как и следовало того ожидать, подарил перед смертью свой талисман не кому-нибудь, а Василию Андреевичу Жуковскому, которого он так сильно любил и который для него так много сделал. Тут не может быть абсолютно никаких сомнений. Василий Андреевич об этом сам рассказывал, когда они встречались после смерти Сверчка. Василий Андреевич носил тогда перстень-талисман на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным кольцом. Он говорил, что Пушкин и жена занимают в его сердце одно и то же место, поэтому перстень покойного и обручальное кольцо тоже должны быть всегда вместе.
– Ольга, покажи, пожалуйста, господину Белову дюссельдорфский портрет Василия Андреевича! – обратилась она к дочери и пояснила: – Этот портрет написан тестем Василия Андреевича.
На портрете пятидесятивосьмилетний Жуковский был изображен в полный рост. На безымянном пальце правой руки поэта можно было разглядеть обручальное кольцо, а на среднем – зеленый изумруд.
– Камея? – спросил Петр Никифорович у Смирновой.
– Нет, интальо, – ответила та, а не участвовавшая в разговоре Ольга Николаевна сказала:
– Перс, который продал это интальо графине, рассказывал о нем прелестную историю.
– Да, да, – оживилась Смирнова.
И мой отец, уже сытый по горло различными легендами, с должным смирением вынужден был выслушать еще одну.
Изумрудное интальо работы древнего восточного мастера много лет хранилось вместе с другими старинными геммами в сокровищнице Великих Моголов в Дели. А в 1739 году, когда войска персидского завоевателя Надир-шаха вторглись в Индию и сокровищница Великого Могола Мухамед-шаха была разграблена, Надир-шах подарил это интальо своему старшему и любимому сыну, который должен был наследовать великую и могущественную империю. Но будущее известно лишь аллаху. И в 1743 году Надир-шах, разгневавшись за что-то на сына, приказал ослепить его. Впрочем, шах вскоре раскаялся в содеянном, и гнев его обратился против пятидесяти вельмож, присутствовавших при ослеплении наследника. Почему они, зная о намерении своего повелителя, не разубедили его? Почему они не предложили шаху свою жизнь для спасения очей наследника? Понятно, что на все эти вопросы вельможи ничего вразумительного ответить не могли. А молчание, по мнению Надир-шаха, являлось самым веским доказательством их вины.
Справедливость рано или поздно, но должна была восторжествовать. И она восторжествовала. Все пятьдесят «виновников» ослепления Реза Кулы были казнены на площади перед дворцом. Реза Кула мог собственными глазами убедиться в справедливости своего великого отца. Но глаз у него уже не было… И тогда шах, отличавшийся не только справедливостью, но и хитроумием, сказал сыну: «Твои уши услышат их стоны, а твой изумруд увидит их мучения». И, когда наследник присутствовал при казни, на его груди было интальо из сокровищницы Великих Моголов…
Кто-то из персидских поэтов писал потом, что от созерцания пролитой во время этой казни крови изумруд стал алого цвета и таким же горячим, как щипцы, которыми палачи терзали несчастных. Чтобы вернуть камню прежний цвет, интальо поместили в зеленом, как сам изумруд, шахском саду, и ровно через пятьдесят дней к камню вернулась его первоначальная окраска…
– Василий Андреевич собирался написать обо всем этом балладу, что-то вроде «Поликратова перстня» Шиллера, – сказала Александра Осиповна. – Такая же мысль была, как мне говорили, и у Александра Сергеевича. Но ни тому, ни другому не удалось осуществить своё намерение.
Ольга Николаевна красноречиво посмотрела на часы, давая тем самым понять, что время визита уже истекло. Но отец, пренебрегая намеком, спросил, что произошло с перстнем Пушкина после смерти Жуковского.
– Василий Андреевич оставил его своему сыну, Павлу Васильевичу.
– Перстень и сейчас у него?
– Нет.
– А у кого же? – настойчиво допытывался отец, у которого не было уверенности, что ему еще когда-нибудь приведется беседовать со Смирновой.
– Павел – поклонник господина Тургенева, – сухо сказала дочь Смирновой, – и в знак своего уважения к таланту этого литератора он подарил ему доставшийся от отца перстень Пушкина.
– Но с непременным условием, чтобы после смерти господина Тургенева перстень был ему возвращен, – дополнила её старушка.
Дочь Смирновой вторично посмотрела на часы и встала.
– К сожалению, будет ли это условие выполнено или нет, зависит не от господина Тургенева, а от госпожи Виардо.
Отцу не оставалось ничего иного, как откланяться.
Казалось бы, разговор с двумя дамами внёс определенность в загадочную историю с перстнем поэта. Но отец, приобретший некоторый скептицизм и печальный опыт за время своих долголетних поисков, теперь уже сомневался во всём. Его сомнения разделял и Александр Александрович Пушкин. Встретиться с Тургеневым в Москве отцу не удалось. Не смог он побеседовать с ним и во Франции, хотя очень к этому стремился. На свои письма к Тургеневу и сыну Жуковского ответа он не получил, что уже само по себе было плохим признаком.
Вновь Тургенева отец увидел лишь в 1883 году, когда тело великого писателя согласно его желанию было привезено из Франции в Россию и похоронено на Волковом кладбище…
Увы, больше Иван Сергеевич Тургенев уже ничем не мог помочь отцу с перстнем-талисманом Пушкина.
Петр Никифорович хотел повидать Полину Виардо, но в связи с различными обстоятельствами откладывал свою поездку во Францию с года на год. То дела, то несчастья…
И вдруг – а «вдруг» бывает не только в детективных романах, но и в жизни – 8 марта 1887 года газета «Новое время» напечатала письмо Василия Богдановича Пассека, русского вице-консула в Далмации и литератора, автора публиковавшихся в «Вестнике Европы» «Воспоминаний рядового первого призыва» и некоторых других популярных в своё время беллетристических произведений.
В своём письме Пассек удостоверял, что умерший в Буживале под Парижем в доме Виардо Иван Сергеевич Тургенев действительно владел перстнем-талисманом Пушкина. Более того, Пассек приводил сказанные при нём слова писателя: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю современной литературы, с тем чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».
Петр Никифорович считал эту публикацию подарком судьбы, которая, как вы могли убедиться, до сего времени его отнюдь не баловала.
Итак, рассказанное ему двумя дамами подтверждалось. Перстень был у Ивана Сергеевича Тургенева. Но где он находится теперь, когда Ивана Сергеевича не стало, – в России или во Франции? У кого он – у Полины Виардо, Павла Жуковского или у Льва Николаевича Толстого?
По просьбе Петра Никифоровича один из его приятелей, уехавший во Францию на лечение, посетил Полину Виардо. Он рассказывал потом отцу о состоявшейся встрече, во время которой речь шла о перстне Пушкина.
Да, действительно, сказала Виардо, у Ивана Сергеевича хранился этот перстень, он очень ценил его. Когда Тургенев работал, он обычно надевал его на палец. При этом Иван Сергеевич шутил, что с этим перстнем одни хлопоты, что перстень гения настолько строг и взыскателен, что он вынужден порой по нескольку раз переделывать в своей рукописи каждую фразу. Увы, этот перстень никак не хочет понять, что он не великий Пушкин, а всего лишь обычный, ничем не примечательный Тургенев. Какой с него спрос? Но разве перстень Пушкина убедишь в том, что иногда можно сделать скидку? Куда там! Вот и стыдишься каждой малой небрежности, вот и мучаешься часами над словом. Не только почетно, но и трудно носить на пальце перстень гения!
Приятель отца спросил, где этот перстень сейчас. Виардо сказала, что у неё. Этот перстень дорог ей как память о безвременно ушедшем из жизни Тургеневе. Она понимает, что у нее нет морального права оставлять эту бесценную реликвию у себя. Перстень так же, как Пушкин и Тургенев, принадлежит России. Всё так. И тут ни в чем её не надо убеждать. Слова излишни. Просто пока она не может решиться расстаться с ним. Это свыше её сил. Но, рано или поздно, это, конечно, придется сделать. В России говорят, что лучше раньше, чем позже? Не всегда, не всегда. И все-таки? В этом году она перешлет перстень в Петербург. Как скоро? Она боится называть точную дату. Назвать дату – это взять на себя обязательство. Она не хотела бы связывать себя по рукам до такой степени. Да и нужно ли это? Она может заверить лишь в том, что перстень Пушкина во Франции, конечно, не останется. Можете поверить. Он будет в Петербурге. Скоро. Очень скоро. Возможно, он вернется к себе на родину даже в этом месяце. Ну, может быть, в следующем. Она надеется, что русские не будут на неё в обиде, ежели возвращение талисмана Пушкина несколько задержится, не правда ли?
У приятеля отца создалось впечатление, что Полина Виардо была с ним полностью искренна и что перстень Пушкина окажется в России в ближайшие месяцы. Самого перстня, о котором говорила Виардо, он не видел и не спрашивал у неё, из какого камня он сделан. Но отцу этого и не требовалось. Перстень Пушкина был изумрудным. Это представлялось таким же бесспорным, как и то, что Земля вращается вокруг Солнца, а он, Петр Никифорович Белов, посвятивший столько времени розыску талисмана поэта, находится наконец у цели.
Загадочный и прекрасный изумруд. Никогда не интересовавшийся самоцветами и ювелирным делом, Петр Никифорович за время поисков перстня Пушкина узнал об изумрудах всё, что только можно было узнать. Он теперь знал, что так называемый бразильский изумруд вовсе и не изумруд, а всего лишь зеленый турмалин, что медный изумруд – это диоптаз, капский – пренит, а африканский изумруд – обыкновенный зеленый флюорит. Истинный изумруд – это самая красивая разновидность благородного берилла, тот самый камень, который уважительно именовали смарагдом. Такие камни в глубокой древности добывались в Египте в знаменитых копях царицы Клеопатры и на рудниках Мюзо и Чивор-Сомондоко в Америке задолго до прихода туда испанских завоевателей.
От отца я узнал и о том, что самым большим изумрудом в мире считается «изумруд герцога Девонширского», найденный в Мюзо близ Боготы в Колумбии. Этот камень весит около 1386 каратов. Его подарил герцогу император Бразилии.
Отец рассказывал, что изумруд в России был всегда одним из самых ценимых самоцветов.
Отец показывал мне рисунок изумрудной перстневой печати Петра I. На этой печати он был изображен сидящим на троне в царском облачении, с короной. В одной руке – скипетр, в другой – держава. По периметру печати надпись: «Царь и великий князь Петр Алексеевич всея Русии».
Отец предполагал, что изумрудной была и другая личная печать Петра I с изображением молодого плотника, окруженного корабельными инструментами и пушками, с надписью по кругу: «Аз бо есмь въ чину учимых, и учащихъ мя требую».
Не знаю, на чем Петр Никифорович основывался, но он считал, что талисман Пушкина – это перстень с резным изумрудом античной формы (такой формы, кстати, была печать Петра I с изображением его на троне). Он допускал также, что самоцвет Пушкина огранен багетом или каре. Форма камня, огранка, шлифовка, оправа, гравировка – во всём этом могли быть самые различные варианты. Неизменным оставалось одно – талисманом Пушкина был изумруд, и только он.
Полина Виардо сдержала свое обещание: перстень, оставшийся у неё после смерти Тургенева, был в конце концов отослан ею в Петербург, где попал в Пушкинский музей.
Петр Никифорович одним из первых в Петербурге узнал эту долгожданную весть. Хранителя музея, Виктора Борисовича Гречаева, страстного поклонника Пушкина, человека исключительной доброжелательности и обаяния, отец знал довольно давно.
Увидев отца, Гречаев очень обрадовался.
– Весьма кстати, – сказал он, – вы же за последнее время стали докой в ювелирных делах.
– Только по части изумрудов.
– Не скромничайте, не скромничайте, Петр Никифорович. Вот, поглядите, пожалуйста, взглядом знатока. – И он протянул отцу перстень с восьмиугольным резным камнем красноватого цвета. – Что вы скажете об этой штуке?
Петру Никифоровичу, как нетрудно догадаться, не терпелось посмотреть на присланный Виардо перстень-талисман Пушкина, поискам которого он отдал столько времени и сил, но он, разумеется, не мог отказать в просьбе Виктору Борисовичу. Видно, Гречаев собирался приобрести эту вещицу. Ну что ж…
– Вас интересует камень?
– Именно.
– Обычный сердолик, или карнеол. Название от латинского «карнис».
– То есть мяса, насколько я помню латынь?
– Совершенно верно, мяса. Как видите, окраска этого камня действительно несколько напоминает цвет мяса. Впрочем, некоторые считают, что название карнеола произошло не от «карниса», а от «кориума» – кизила. Но, видимо, это не столь уж существенно.
Гречаев спросил, относится ли карнеол к драгоценным камням.
– Нет, это поделочный камень, ближайший родственник яшмы.
– А что тут за надпись?
– Прочесть не берусь. Надпись на древнееврейском, а тут я пас.
– Ну и так более чем достаточно, – улыбнулся Гречаев. – Знатока древнееврейского я отыщу. Спасибо.
– Всегда к вашим услугам, – сказал отец. – А теперь у меня к вам просьба.
– Если это в моей власти, то считайте, что она уже выполнена.
– Хочу полюбоваться наконец перстнем-талисманом Пушкина.
Наступило молчание. Гречаев озадаченно смотрел на отца.
– Шутите?
– А почему, собственно, я должен шутить? – в свою очередь, удивился отец.
– Хотя бы потому, что вы его держите в руках.
Отец был ошеломлен. Он ожидал всего, но только не этого.
– Простите, Виктор Борисович, я правильно вас понял? Вы утверждаете, что этот карнеоловый перстень был пушкинским талисманом?
– Во всяком случае, он прислан Полиной Виардо, – сказал Гречаев и спросил: – Вы сомневаетесь, что его носил Пушкин?
Нет, отец в этом не сомневался. Присланный из Франции перстень, бесспорно, принадлежал Пушкину. О нем неоднократно упоминали современники поэта. Но считал ли Пушкин этот карнеоловый перстень своим талисманом? Его ли он имел в виду в своих письмах к брату, ему ли были посвящены два стихотворения?
Конечно же, нет. Ведь те, с кем Петр Никифорович беседовал, говорили именно об изумруде, покровителе поэтов, художников и музыкантов, который вместо короны вручался каждому вновь избранному королю братства менестрелей и которым награждали победителей в состязании бардов. Недаром Великопольский, рассказывая отцу о таблице камней, которую ему показывал Пушкин, говорил, что изумруд в ней был подчеркнут, а старший сын поэта рассказывал Петру Никифоровичу апокриф об изумрудной чаше, подаренной царицей Савской царю Соломону…
Нет, Пушкин, конечно, считал своим талисманом не сердоликовый, а изумрудный перстень. Но тогда выходит, что подлинный перстень-талисман поэта был не у Тургенева, а у кого-то другого.
Но у кого?
Может быть, он действительно достался Владимиру Ивановичу Далю, который был рядом с Пушкиным до самой его кончины? Ведь утверждают, что Даль сам говорил об этом…
А может быть, перстень у графа Льва Николаевича Толстого?
Отец этого так и не узнал…
Когда я, сдав экзамены за второй курс университета, готовился принять участие в археологической экспедиции, которая должна была заниматься раскопками в районе Керчи, из дома пришла телеграмма о его кончине…
Он умер за своим письменным столом, правя черновик письма Льву Николаевичу Толстому. Оно, разумеется, было посвящено всё тому же перстню…
Когда после похорон я разбирал его бумаги, то обнаружил вот эту тетрадь в сафьяновом переплете. В ней со свойственной отцу скрупулезностью были изложены все перипетии его многолетних розысков, сведения о геммах, камнях, записаны разговоры с различными людьми, приведены выдержки из писем, имевших какое-либо отношение к перстню-талисману Пушкина.
Уезжая, я забрал эту тетрадь с собой. С тех пор она всюду меня сопровождала. Но внимательно прочел я её лишь в 1918 году. Тогда же проштудировал её от первой и до последней страницы Усольцев. Связано это было с одним не совсем обычным обстоятельством.
– Как вы, наверное, знаете, – продолжал свой рассказ Василий Петрович, – в январе 1918 года в Московском Кремле была ограблена Патриаршая ризница. Мне привелось осматривать экспонаты многих музеев мира. Короче говоря, мне есть с чем сравнивать то, что хранилось в Патриаршей ризнице в Московском Кремле. И должен сказать, что там имелись экспонаты, достойные лучших сокровищниц мира. Чтобы вы имели некоторое представление о том, что было тогда похищено, я вам прочту описание всего нескольких вещей из «Краткого указателя Патриаршей ризницы», который был издан в 1906 году.
«Золотое кадило в виде одноглавой церкви, украшенное драгоценными камнями, – дар царицы Ирины Феодоровны, – прочел Василий Петрович. – Панагия золотая Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, в середине на громадном сапфире вырезано изображение Благовещения… Евангелие царицы Натальи Кирилловны, обе доски переплета золотые, покрыты финифтяными изображениями и множеством драгоценных камней громадной стоимости. Весу в Евангелии более 2 пудов… Знаменитое Евангелие великого князя Новгородского Мстислава Владимировича XII века с золотым переплётом, украшенным эмалями X, XI, XII и XVI столетий… Золотые сосуды с эмалью царя Фёдора Алексеевича, весом в 30 фунтов, 58 золотников… Саккос патриарха Никона, по краям низан кафимским жемчугом, более полутораста золотых с чернью дробниц, множество драгоценных камней в золотых гнездах, весит до двух пудов…»
И вот этот уникальный музей стал жертвой преступления, – продолжал Василий Петрович. – Причём следует сказать, что ограбление ризницы было не первым случаем расхищения предметов искусства.
Бесследно исчезали картины, фарфоровые табакерки, скульптуры, гобелены, коллекции древних монет и античных гемм из барских особняков, захваченных анархистами.
Покидая большевистскую Россию, богачи увозили за границу полотна великих мастеров, бесценные фолианты, старинные иконы, продавали их иностранцам, прятали в тайники.
Поэтому президиум Московского Совдепа, заслушав сообщение о случившемся председателя Комиссии по охране памятников искусства и старины, не только обратился ко всем гражданам Советской России с призывом оказать содействие в розыске и возвращении похищенного из Патриаршей ризницы, но и ходатайствовал перед Совнаркомом республики о национализации всех предметов искусства, имеющих художественное и историческое значение. Это ходатайство, разумеется, было удовлетворено. А некоторое время спустя, если не ошибаюсь, в апреле, Народный комиссариат художественно-исторических имуществ, в котором я тогда заведовал одним из подотделов, опубликовал «Воззвание». «…Вчерашние царские дворцы, а ныне – народные музеи, созданы руками народа и лишь недавно ценою крови возвращены их законному владельцу – победителю, революционному народу, – писалось в нём. – Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коим тешились лишь цари и богачи, стали нашими; мы никому их не отдадим больше и сохраним их для себя и для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него. И подобно тому, как каждому из нас дороги воспоминания детства и молодости, каковы (бы) они ни были, горькие или сладкие, – так и весь народ сохранит эти воспоминания истории минувшей, былых годов, как что-то дорогое и давно пережитое».
Но работа сотрудников Народного комиссариата художественно-исторических имуществ республики и Всероссийской комиссии по охране и раскрытию произведений искусства, членом которой я также состоял, не ограничивалась, разумеется, воззваниями, циркулярами и предписаниями. Перед нами была поставлена задача разыскать, реквизировать и обеспечить сохранность всего, что представляло ценность. А это, смею вас уверить, была в тех условиях очень сложная, а по мнению некоторых искусствоведов, и просто непосильная задача. В том же Петрограде, помимо всем известных сокровищниц, таких, как Эрмитаж, Русский музей и музей Академии художеств, существовали большие частные коллекции графов Строгановых, княгини Юсуповой-Сумароковой-Эльстон, великолепная пинакотека, то есть картинная галерея, голландских и фламандских художников Семёнова. В так называемом минц-кабинете великого князя Георгия Михайловича хранилось лучшее в мире собрание монет древнегреческих поселений на юге России. А в тайнике владельца антикварного магазина Гребнева Евграф Усольцев вместе с сотрудниками ВЧК отыскал ящики со скифским золотом и, как он выразился, «каменных и золотых жучков». «Жучки» оказались древнеегипетскими скарабеями, среди которых, кстати, был великолепный скарабей из аметиста с вырезанной на внутренней стороне надписью. Подобные скарабеи влагались в мумии знатных египтян вместо вынутого из тела сердца. Надпись на аметистовом скарабее убеждала сердце покойного не свидетельствовать против него на загробном суде.
Тому же Усольцеву посчастливилось в Москве, куда мы переехали в конце лета, обнаружить в подвале покинутого хозяевами особняка около сотни старинных вееров. Среди них были и японские из белой пеньковой бумаги с рисунками известных художников. Подобные веера-картины в середине прошлого века продавались в Лондоне по 900 фунтов стерлингов за штуку.
Надо сказать, что в Москве к привычным уже для нас трудностям прибавилась еще одна – отсутствие подходящих хранилищ. Третьяковка, Оружейная палата, Румянцевский и Исторический музеи не в силах были сразу же принять беспрерывно поступающие к ним произведения искусства. Поэтому многие из национализированных вещей приходилось временно размещать в здании наркомата, а то и на квартирах сотрудников.
Усольцев, в обшарпанную комнатку которого привезли как-то портрет работы Рембрандта и несколько полотен Гогена, спал с маузером под подушкой, а днем бегал по музеям и комиссиям, грозясь перестрелять саботажников.
Своеобразный вид приобрел и мой номер в бывшей гостинице Метрополь, ставшей Вторым домом Советов.
Чего здесь только не было!
Под моей кроватью мирно спала тысячелетним сном в обществе набальзамированных священных кошек, змей и симпатичного нильского крокодильчика очаровательная мумия, недавняя собственность московского фабриканта Гречковского. Под головой её лежал положенный тысячи лет назад полотняный круг с хороводом веселых павианов, бурно приветствующих всемогущего бога солнца, а на лице покоилась позолоченная маска.
Место под софой занимали скифские древности: колчаны для смертоносных стрел с тиснеными золотыми бляхами, золотые венки и серебряная ваза для вина, украшенная изображениями трав, цветов и хищных грифов, терзающих оленя.
Возле умывальника в целомудренной позе стояла беломраморная Венера, которая благосклонно взирала на меня, когда я совершал свой утренний и вечерний туалет. Венере плутовски подмигивала с полки чудесная статуэтка жизнерадостного фламандца Виллема Бекеля, прославившегося в XIV веке усовершенствованием засола сельдей.
Хранилось у меня и кое-что имевшее прямое отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Нет, не к перстню. О перстне разговор впереди… Сейчас почти все рукописи поэта находятся в Институте русской литературы Академии наук СССР. А до Октябрьской революции многие из них были в частных руках, причём некоторые владельцы по тем или иным соображениям препятствовали публикации. Неизвестны были, например, читателям поэма Пушкина «Монах», которую скрывали наследники князя Горчакова; хранившаяся у князя Олега Романова поэма «Тень Фонвизина». Много автографов поэта переходило из рук в руки. А вдова известнейшего историка русской литературы Леонида Николаевича Майкова не нашла ничего лучшего, как в порыве верноподданнических чувств вырвать из пушкинской тетради листы и подарить их Николаю II. То ли царь не был поклонником Пушкина, то ли, когда царская семья отправлялась в ссылку в Тобольск, у неё были другие, более неотложные заботы, но щедрый дар Майковой в Сибирь увезен не был. И вот теперь эти бесценные тетрадные листы хранились в моем кожаном портфеле, напоминая о безуспешных поисках отца и дожидаясь почётного места в музее.
И вот однажды в моем номере, похожем на антикварный магазин, появился поздним вечером некий молодой человек.
Странного посетителя нельзя было назвать ни товарищем, ни господином. Для «товарища» у него были слишком холеные руки с длинными, до блеска отполированными ногтями, привычное грассирование и манеры «человека из общества». А для «господина»… Дело в том, что одежда молодого человека полностью соответствовала революционным канонам того бурного времени: высокие, заляпанные грязью сапоги, кожаная потрепанная куртка, косоворотка, кожаный картуз с красной ленточкой. Кроме того, он виртуозно скручивал пресловутые козьи ножки и безбожно дымил махоркой. В лице его тоже было что-то и от «товарища» и от «господина». Томные, с поволокой глаза, затемненные густыми длинными ресницами, как будто бы намекали на голубую кровь, зато толстогубый рот явно стремился засвидетельствовать рабоче-крестьянское происхождение. Впрочем, главное заключалось все-таки не в этом, а в том, что его простодушное лицо прямо-таки дышало честностью и благородством – особенность, по которой я обычно определял жуликов.
– Добрый вечер, Василий Петрович, – сказал он хорошо поставленным голосом и таким тоном, каким говорят со старыми и добрыми друзьями.
Откуда он узнал моё имя и отчество – бог его знает. Посетитель мне сразу и безоговорочно не понравился. Кажется, он это понял, но моя неприязнь его ни капельки не смутила. Он вообще был не из тех, кто смущается.
– Как себя чувствуете, Василий Петрович? А то мне говорили, что вы третьего дня немного приболели. Увы, погода никак не желает осознать ответственности момента: крайне неустойчива. Я, между прочим, тоже очень склонен к простуде. Видите? – Он довольно естественно покашлял и внимательно оглядел номер.
– Чем могу быть полезен, гражданин? – сухо поинтересовался я.
Незнакомец с ответом не торопился, продолжая с веселой наглостью разглядывать экспонаты моего импровизированного музея.
– А у вас здесь довольно мило.
Его намекающие на голубую кровь глаза на мгновение задержались на веерах и внимательно ощупали статуэтку фламандца. Незнакомец чмокнул своими рабоче-крестьянскими губами и, слегка грассируя, сказал: